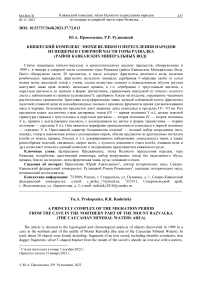Княжеский комплекс эпохи Великого переселения народов из пещеры в северной части горы Развалка (район Кавказских Минеральных Вод)
Автор: Прокопенко Ю.А., Рудницкий Р.Р.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Рубрика: Археология
Статья в выпуске: 15, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена типологическому и хронологическому анализу предметов, обнаруженных в 1999 г. в пещере в северной части седловины горы Развалки (район Кавказских Минеральных Вод). Всего обнаружено около 20 предметов, в числе которых: фрагменты железного меча, включая ромбическое перекрестие; фрагменты железного кинжала; серебряная Г-образная скоба от устья ножен меча; железный топор с узким, слегка выгнутым лезвием и невыделенным обухом (втулка выступает ниже края лезвия); несколько пряжек, в т.ч. серебряные с треугольным щитком, с округлым щитком и со щитком в форме трилистника, украшенным накладкой из тонкого золотого листа с кабошонами из граната (альмандина?); серебряное блюдо на поддоне, украшенное чеканным растительным орнаментом; бронзовая полусферическая чаша; медный клёпанный котел; фрагменты железной очажной цепи из восьмёрковидных звеньев с крюками; фрагменты крюка для вытаскивания мяса и черпака. Большинство предметов дают широкие даты комплекса в пределах IV-VI вв. Ряд предметов имеет достаточно узкие датировки: топор (IV - первая половина V в.), детали поясной гарнитуры (пряжки с треугольным и округлым щитками - вторая половина IV - вторая половина V в., пряжка с выступающим язычком, с альмандинами на щитке в форме трилистника - первая половина - середина V в.). Они являются маркёрами принадлежности комплекса к первой половине-середине V в. Престижный характер большинства изделий - полный набор вооружения (меч, кинжал, топор и наконечник копья с уплощенным пером, обилие предметов из драгоценных металлов (скоба от ножен, пряжки, блюдо), в т.ч. декорированных кабошонами, уникальность чаши, а также разнообразие изделий, связанных, скорее всего, с культом домашнего очага (котёл, очажная цепь и др.) позволяют относить данный комплекс к захоронению представителя княжеского рода.
Центральное предкавказье, эпоха великого переселения народов, гора развалка, погребение, престижный инвентарь, набор вооружения, топор без выделенного обуха, пряжка, блюдо на поддоне, полусферическая чаша, культ домашнего очага
Короткий адрес: https://sciup.org/14129216
IDR: 14129216 | DOI: 10.53737/3648.2023.37.72.013
Текст научной статьи Княжеский комплекс эпохи Великого переселения народов из пещеры в северной части горы Развалка (район Кавказских Минеральных Вод)
МАИАСП № 15. 2023
Княжеский комплекс эпохи Великого переселения народов из пещеры в северной части горы Развалка … от этого же меча происходила рукоять с фрагментом лезвия, обнаруженная в 1980-е гг.). Размеры фрагментов лезвия: Дл — 24,1 и 17,7 см; Ш — 5,1 — 5,5 см; Т — 0,55 см. Размеры перекрестия — 9,7 × 2 × 1 см.
-
2. Г-образная скоба — накладка от ножен меча (рис. 3: 6) — серебро (зарисована в распрямленном виде, первоначально, более длинная ее часть, скорее всего, была в форме петли) (рис. 4: 1, 1а). Размеры: Дл полосы идущей поперек ножен (предположительно распрямлена, имеет три отверстия для крепления; лицевая сторона орнаментирована косыми врезными линиями; сверху и снизу она дополнительно декорирована насечками, придающими вид псевдовитого декора) — 11,5 см, Ш — 5 мм, Т — 2 мм; Дл полосы располагавшейся вдоль ножен — 6,2 см, Ш — 0,7 см, Т — 0,1 см. Данная часть скобы украшена двумя рядами гравированных полукружий. Край ближний к ножнам дополнительно декорирован угловидными вырезами (в центре полукружий).
-
3. Кинжал (сохранились два фрагмента), обоюдоострый (рис. 1: 2) — железо. Основание клинка расширено за счет выделения углов в месте его перехода в черенок рукояти. Размеры: Дл фрагмента с черенком рукояти — 14,9 см; Ш лезвия на сломе — 3 см; Т — 0,6 см; Дл — фрагмента кончика клинка — 5,5 см.
-
4. Наконечник копья (фрагмент) (рис. 2: 5) — железо. Втулка овальной формы. Перо — уплощенное (форма не угадывается). Размеры: Дл фрагмента — 9,4 см; Т лезвия на сломе — 0,6 см.
-
5. Боевой топор (рис. 2: 3) — железо. Предмет имеет узкое, слегка выгнутое лезвие и невыделенный обух. Тело топора плавно изогнуто и слабо расширяется от проушины к рубящей кромке. Проушина имеет неправильную овальную форму. Втулка цилиндрическая, направлена к низу (выступает ниже края лезвия) Размеры: общая Дл — 11,5 см; Ш режущей кромки — 4 см; В втулки — 5,5 см, Д проушины — 3 × 3,1.
-
6. Пряжка № 1 (рис. 3: 3) — cеребро. Рамка овальная — литая. Щиток пластинчатый, кованный — удлиненно-подтреугольной формы. В его центре — округлая шляпка от заклепки. Размеры: Дл — 2,5 см; Д рамки — 0,9 × 1,3 см; Ш щитка — 0,9 см.
-
7. Пряжка № 2 (рис. 3: 2) — cеребро. Рамка овальная — литая, сделана из круглого в сечении более массивного дрота в передней части и зауженного круглого в сечении дрота в задней части. Язычок утерян. Щиток пластинчатый, кованый округлой формы (без заклепок). Размеры: Дл — 5,5 см; Д рамки — 3 см; Д щитка — 2,6 см.
-
8. Пряжка № 3 (рис. 3: 1) — серебро. Рамка овальной формы и язычок — литьё, ковка. Язычок длинный, далеко выступающий за передний конец пряжки, хоботкообразный, утолщающийся к задней части — вариант 3 язычков по В.Б. Ковалевской (1979: 11). Основа щитка — раскованная серебряная пластина в форме трилистника. С внешней стороны украшена накладкой из тонкого золотого листа, на котором укреплены гнезда с кабошонами из граната (альмандина?). Касты (три округлые, расположены треугольником, между ними каст треугольной формы) из квадратной в сечении проволоки, окружены зернью в один ряд. Дл — 8 см; Д рамки — 3,4 x 3,5 см; Ш щитка — 3 см.
-
9. Чаша — полусферическая, по форме близкая к круглодонной — бронза (рис. 3: 4). Венчик слегка расширен, имеет подтреугольную форму. Размеры: Д 17,2 см; В — 5,8 см; Ш венчика — 0,4 см.
-
10. Блюдо с цилиндрическим поддоном (край слегка скошен) (рис. 4: 1, 1а, 1б) — серебро. На дне и в стенках есть утраты. Внутренняя поверхность декорирована чеканным растительным узором из розеток, бутонов и псевдозерни (рис. 4: 1а). Размеры: Д венчика — 19,3 см; В — 4,7 см; Д поддона — 4,7 см; В поддона — 0,8 см.
-
11. Котёл для варки мяса (рис. 3: 5) — медь. Тулово изготовлено из трёх пластин, соединённых медными заклёпками. Две полосы составляют борта котла. Дно состоит из одной пластины. Котёл намеренно повреждён при совершении погребения. Пластины оторваны друг от друга и смяты. Железная дужка и ушки утрачены. Размеры: Т листов 1,6 —
МАИАСП № 15. 2023
-
12. Фрагменты очажной цепи (рис. 2: 1, 1а, 1б) — железо — 3 экз. Два фрагмента соединены с кольцами, к которым подвешены крюки (один и два). Крайние крюки предназначены — нижний для подвешивания котла, верхний для крепления (подвешивания) всей цепи к какой-либо конструкции — деревянной перекладине или жерди над очагом. Третий, средний крюк имел целью регулировку высоты котла над огнём. Звенья цепи восьмёрковидные, изготовлены из полосы металла. Размеры: Дл нижнего крюка — 28,4 см; Дл среднего крюка — 15,7 см; Дл верхнего крюка — 26 см; Д нижнего кольца — 7,3 см; Д верхнего кольца — 6,7 см; Дл основных звеньев цепи — 3,8 — 4 см; Дл звеньев соединяющихся с кольцами — 5,6 и 5,8 см; Ш звеньев — 2—2,3 см; Ш полосы металла, из которой изготовлены звенья, — 8—9 мм.
-
12. Фрагмент крюка для вытаскивания мяса из котла (рис. 2: 2) — железо. Изготовлен из четырёхгранного в сечении прута. В средней части дрот закручен в спираль. Дл сохранившейся части — 21 см.
-
13. Фрагмент ложки—черпака (рис. 2: 6) — железо. Вогнутый предмет имел овальную форму. Ручка утеряна. Размеры — 7,8 × 4,7 × 2,2 см.
Пряжки — несколько экз. (удалось зарисовать только 3 экз.).
0,22 cм; наибольшая Т на венчике до 0,26 см; В котла около 26 см; Д венчика около 54 см; Д донной части около 50 см.
Воинский (княжеский) характер захоронения характеризует полный набор видов вооружения: меч, кинжал, топор и копье.
Судя по сохранившимся фрагментам — около 42 см, обоюдоострый меч имел длину не менее 80 см, предположительно, около 1 м (рис. 1: 1). Скорее всего, он имел черенок в виде штыря, с резким переходом от рукояти к лезвию. Предмет, видимо, находился в ножнах, от которых сохранилась только Г-образная скоба (рис. 3: 6). В комплект с длинным мечом входил обоюдоострый кинжал (рис. 1: 2). Такие кинжалы известны на Северном Кавказе уже в позднеримское время и поэтому для эпохи переселения народов могут считаться местным традиционным оружием (могильник Дюрсо, погребения 408, 517; могильник Сопино, погребение 2; могильник Джамагат, погребение 1; могильник Харачой, погребение 14; могильник Калкни, погребение 3; могильник Зарагиж, (кат. 6.5) погребение 118 и др.) (Казанский 2012: 332). Следует отметить угловидные выступы в основании клинка. Возможно, это является рудиментом мечей и кинжалов позднесарматского времени (боковыми вырезами у пяты клинка выделялись угловидные выступы в месте перехода рукояти в клинок — см. Абрамова 1993: 162, рис. 63: 13—17). Клинок из развалкинского комплекса по форме близок престижному кинжалу из погребения 118 могильника Зарагиж (территория Кабардино-Балкарии) (Atabiev 2000: № 26.1). Типы пряжек и особенности декора бутероли кинжала позволили отнести зарагижский комплекс к началу V в. (Казанский 2012: 332—333).
Серебряная Г-образная скоба устья ножен меча из развалкинского комплекса (рис. 3: 6) с псевдовитым орнаментом на лицевой части петли и двумя рядами гравированных полукружий, дополненных угловидными вырезами на продольной части напоминает полукруглые выступы краев (за счет угловидных вырезов) подобной скобы из Чонград-Кендерфëлдек (Csongrád-Kenderföldek — могила 28) в бассейне р. Тиса (Tejral 1997: 150, fig. 12: 4) (рис. 5: 6). Также, следует отметить композиционное сходство с декором Г-образных скоб из Цебельды (могильник Шапка-Церковный холм-4 — погребение 7) (рис. 5: 7) и могильника Чми (погребение 8) (рис. 5: 5). В первом случае, вдоль обоих краев выгравированы ряды З-видных значков (Воронов, Шенкао 1982: рис. 4: 30). В последнем случае наблюдаются два ряда уголков (второй ряд — частично) (Абрамова 1997: рис. 62: 26). Еще одной аналогией является комбинированный орнамент (два ряда насечек и ряд уголков вдоль краев) на Г-образной скобе из погребения 479 могильника Дюрсо (Kazanski, Perin 1988: 23, fig. 8: 2; Мастыкова 2009: 333, табл. 12: 5) (рис. 5: 2).
Комплексы с мечами или кинжалами в ножнах с Г-образными скобами из Csongrád-Kenderföldek и Шапка-Церковный холм-4 (погребение 7) относятся к IV—V в. (Воронов, Шенкао 1982: рис. 4: 30; Kazanski, Perin 1988: 23, fig. 8: 1, 3). В последнем случае предмет
МАИАСП № 15. 2023
Княжеский комплекс эпохи Великого переселения народов из пещеры в северной части горы Развалка … включен в группу изделий периода 7 Цебельдинской культуры — 400—425 гг. (Гей, Бажан 1997: 100, табл. 28: 12). Погребение 8 могильника Чми—I, по мнению А.В. Мастыковой, датируется гуннским или ранней частью «шиповского» горизонта от 360/370 по 500/510 гг. По сочетанию предметов инвентаря захоронение «вождя» 479 могильника Дюрсо может быть датировано временем фазы 1—2 могильника, т.е. 450—480/490 гг. (Мастыкова 2009: 193, 254).
В Центральном Предкавказье, кроме погребения 8 могильника Чми, Г-образные скобы зафиксированы: от устья ножен скрамасакса в погребении 118 могильника Зарагиж (декорирована в полихромном стиле) (рис. 5: 4) и в погребении 10 могильника Лермонтовская скала-2 (не орнаментирована) (рис. 5: 3). В первом случае инвентарь относится к началу V в. (Atabiev 2000: № 26.2; Казанский 2012: 332—333). Материалы второго датируются как поздней частью гуннского времени, так и ранней фазой «шиповского» горизонта, в целом от 380/400 по 500/510 гг. (Мастыкова 2009: 233).
Боевой топорик с узким, слегка выгнутым лезвием, без выделенного обуха и выступающей втулкой (ниже лезвия) (рис. 2: 3) по форме напоминает подобные топоры из комплексов IV в., второй половины IV — первой половины V в., второй половины V — первой половины VI в. могильников Цебельды (Воронов, Шенкао 1982: 127—128, рис. 10: 11; 11, 5, 12: 4). Предметы условно относятся к типу 1 (Воронов—Шенкао-1) (Воронов, Шенкао 1982: 127; Казанский 2015: 38, рис. 5: 1—3) или первой группе, типу 2, варианту 1 — топорам с коротким обухом и не очень широким лезвием, имеющим едва намеченный приостренный боковой выступ (Гей, Бажан 1997: 11, 22, 74, 97, табл. 1: 6) (рис. 6: 10, 11).
Некоторое сходство по выгнутому лезвию наблюдается с узколезвийными топорами (длина 9,5 — 15 см) типа С (территория Германии, Бельгии и Франции), согласно классификации Х. Беме (Дамери, Фратин, Бремен-Махндорф, Рен (погребения 819 и 846), Вейстер (погребение 116), Фель, Vanveysur-Ource, Dép. Côte d’Or и др.) или группы 3 варианта 7, по Г. Киферлингу (Böhme 1974: 105—107, abb. 42, 1, 2; Kieferling 1994: 337, abb. 2; Bemmann 2007: 257, 262, 266; abb. 9: 1, 13: 1, 17: 1, 18: 3). Отмечено, что боевые топоры из германских погребений Западной Европы первой половины V в. н.э., отдаленно напоминающие цебельдинские, сочетаются с высокими коническими умбонами и копьями, также, подобными цебельдинским (Böhme 1974: 81, taf. 63: Tehttabel B; Гей, Бажан 1997: 25; Казанский 2015: 39—50).
Однако большая часть цебельдинских топоров, подобно развалковскому, не имеет выделенного обуха. Среди германских «францисков» также встречаются подобные, однако, они в большинстве случаев, отличаются отогнутостью (и заострением) обоих углов лезвия. Происхождение топоров с ассиметричным лезвием на территории Абхазии, видимо, связано с заимствованиями из римской военной экипировки (Воронов, Шенкао 1982: 127; Казанский 2015: 38, рис. 5: 1—3). Согласно второй точке зрения, появление в Северном Причерноморье образцов без выделенного обуха связано с влиянием германской воинской культуры. В частности, два экземпляра с невыделенным обухом IV в. обнаружены в могильнике Нейзац (погребение 4) и могильнике Дружное (погребение 85) на территории Крыма. Обращается внимание на их полное сходство с одновременными топорами черняховской культуры и близость к серии подобных экземпляров вельбарской, пшеворской культур, из памятников на Эльбе, Юго-Западной Германии, Богемии. Появление топоров без выделенного обуха в памятниках региона объясняется сармато-германскими контактами (Храпунов 2010: 549; Храпунов и др. 2020: 9—10). В IV—V вв. узколезвийные топоры без выделенного обуха появляются и севернее Северного Причерноморья. В числе проушных топоров римского времени, выявленных в памятниках Верхнего и Среднего Поочья (городище Борисово), зафиксирован узколезвийный экземпляр без выделенного обуха, с незначительно обозначенной втулкой, отдаленно напоминающий развалкинский (отличается короткой втулкой) — тип 6Б согласно классификации И.Р. Ахмедова и А.М. Воронцова. Предмет обнаружен в слое второй — третьей четверти IV в. (Ахмедов, Воронцов 2012: 22, 29, рис. 3, 10: 2).
МАИАСП № 15. 2023
Появление в комплексе топора, не характерного для боевой экипировки представителей населения Центрального Предкавказья в исследуемый период, предположительно, следует связывать с влиянием иноземной воинской культуры — либо населения римского времени Абхазии, либо германских (готских) племен. Интересно, что для тех и других обычен обряд кремации. Возможно, их небольшая группа находилась в районе Кавказских Минеральных Вод, об этом свидетельствует захоронение IV—V вв. с зафиксированным аналогичным обрядом (кремация не характерна для региона), случайно обнаруженное в начале 2000-х на горе Верблюд. Здесь был найден меч, видимо, аналогичный развалковскому (рис. 6: 12) и боевой топор (оба со следами пребывания в огне) (рис. 6: 9), близкий по форме (с невыделенным обухом, с выступающей втулкой обуха и не широким лезвием с боковым выступом — промежуточная форма вариантов 1 и 2 типа 2, группы 1 цебельдинских топоров по Гей, Бажан 1997: 10) к развалкинскому экземпляру (рис. 6: 8), отдаленно напоминающий топоры группы 2, варианта 02, согласно классификации Г. Киферлинга (Kieferling 1994: 337, abb. 2). По мнению М.М. Казанского, время наибольшего распространения культурных черт германского облика в Абхазии соответствует стадии III 380/400—440/450 гг. В этот же период в конце IV — первой половине V в. появляются и другие элементы иностранного происхождения (Казанский 2015: 54, 56).
Оружию сопутствовали пояса. Из числа найденных деталей поясной гарнитуры были зарисованы только три пряжки.
Серебряная пряжка (№ 1) (рис. 3: 3) с подвижным щитком подтреугольной формы условно относится к типу 7 подобных изделий с треугольным щитком 8 варианта, согласно классификации В.Б. Ковалевской, варианту 12 (по О.А. Гей, И.А. Бажан) или группе I, отделу I, подотделу I, типу В (щиток — разновидность 9) по И.П. Засецкой. Они характерны для комплексов IV—VI вв. (Ковалевская 1979: 12, 16, рис. 3: 8а, табл. 1: 16; Гей, Бажан 1997: 14, табл. 9: 18; Засецкая 1994: рис. 18б, 19а). В частности, пряжки с треугольными щитками зафиксированы в погребениях IV в.: ст. Тимошевская, Кишпек и др. (Амброз 1989: рис. 1: 19; Kazanski 1995: fig. 5: 3).
Подобные экземпляры отмечены в материалах цебельдинской культуры периодов 5 (350— 375 гг.) и 7 (400—425 гг.) (Гей, Бажан: 1997: 100, табл. 28: 5). Комплекс из Беляуса, включающий пряжку с удлиненно-треугольным щитком с тремя заклепками, А.И. Айбабиным отнесен к первой половине V в. (Ajbabin 1995: 208, 211, fig. 6: 13). Близкой аналогией развалкинскому экземпляру является подобная пряжка с удлиненно-треугольным щитком (с заклепкой в середине щитка), происходящая из погребения 300 могильника Дюрсо. Экземпляр по совокупности вещей датируется 430/440—470/480 гг. (Мастыкова 2007: 189). Следует отметить, что отмеченный престижный кинжал из погребения 118 могильника Зарагиж (территория Кабардино-Балкарии) находился в комплексе со скрамасаксом в ножнах с Г-образной скобой устья и с пряжкой с треугольным щитком (Atabiev 2000: № 26.1, 26.2; Мастыкова 2009: табл. 188: 1). По форме пряжек и особенностям декора бутероли кинжала комплекс отнесен к началу V в. (Казанский 2012: 332—333).
Серебряная пряжка № 2 (рис. 3: 2) с подвижным щитком округлой формы условно относится к типу 2 пряжек с щитком разновидности 1, согласно классификации В.Б. Ковалевской, относящихся к периоду IV—V вв. (1979: 12: 15, рис. 3: 1) или группе I, отделу I, подотделу I, типу Б пряжек гуннской эпохи, по И.П. Засецкой (1994: рис. 19а: 4). Подобные хоботковидные малые пряжки с округлым кольцом и округлым щитком зафиксированы в погребениях 54, 57 и «княжеской» могиле некрополя Клин-Яр, а также в погребениях 500 и 517 могильника Дюрсо. По сведениям А.В. Мастыковой, изделия характерны для гуннского времени и второй половины V в. (Мастыкова 2009: 58, рис. 4: 6— 10). Комплекс с двумя подобными пряжками из погребения 4 могильника Гиляч А.К. Амброз датировал V в. (Амброз 1989: 96; Абрамова 1997: 50, рис. 41: 4, 5).
Серебряная пряжка (№ 3) (рис. 6: 1) со щитком в форме трилистника, украшенная золотой фольгой и альмандинами(?), отдаленно напоминает подобные изделия, включенные
МАИАСП № 15. 2023
Княжеский комплекс эпохи Великого переселения народов из пещеры в северной части горы Развалка …
А.В. Мастыковой, в группу пряжек с овальным кольцом и вытянутым треугольным подвижным щитком, датирующихся поздним V — ранним VI в. (Мастыкова 2009: 60, рис. 44: 6—11). Однако, пряжка из пещерного комплекса горы Развалка отличается более плотной компоновкой щитка — формой трилистника. По своей форме она близка к типу 24 — овальнорамчатым пряжкам со щитком 23-го варианта (согласно классификации В.Б. Ковалевской). В числе ранних экземпляров В.Б. Ковалевская отметила пряжки, найденные в Херсонесе и в районе Нанси (Франция). Данные экземпляры имели похожий щиток — трилистник, но он, в отличие от развалковской, составляет с рамкой одно целое. Пряжка из Херсонеса также отличается коническими вогнутостями примыкающих друг к другу кружков—лепестков с отверстиями в центре каждого (Ковалевская 1979: 291, табл. XII: 12) (рис. 3: 6). Обе пряжки датируются V в. н.э. (Salin 1939: 73, tab. VIII; Ковалевская 1979: 291).
К настоящему времени известно о находках нескольких экземпляров с подвижными щитками, аналогичными развальскому. В частности, пряжка с щитком в форме трилистника с округлыми шляпками заклепок в центре лепестков зафиксирована в материалах из Косаново — V — начало VI в. (Jiřik, Gil, Vávra 2019: 417, pl. 1: 41) (рис. 6: 6). Еще один похожий экземпляр обнаружен в de Fontenay-le-Marmion (Франция). В данном случае крупный кабошон (гранат) занимает оба ближних к рамке лепестка щитка. Центральный лепесток подтреугольной формы не имеет каста (Pilet 1990: fig 3; 1995: 330, fig. 2: 1) (рис. 6: 2). М.М. Казанский датировал пряжку V веком, предположительно, первой его половиной или серединой (Kazanski 1994: 158, fig 18: 1).
Близкой аналогией развальской находке является обувная золотая пряжка из Szeged-Nagyszéksos (территория Венгрии). Сходство наблюдается в T-образной форме щитка — трилистник и в особенностях расположения гнезд для вставок — треугольник из овальных гнезд, в центре — между ними располагалась небольшая треугольная вставка (Garnet Cloisonné Ornamets 1991а: 385, № 169; 1991б: 59, 209, 385, pl. X: 2a) (рис. 6: 4). Отличается изделие вставками из зеленого стекла и наличием на рамке выемки-ложа для язычка. Предмет датируется 420—454 гг. по А. Кисс, серединой — развитым V в. по Я. Тейрал (Kiss 1982: 164; Tejral 1995: 341—342, abb. 20: 7).
Еще одной аналогией развальскому экземпляру следует считать бронзовую пряжку с Т-образным щитком из погребения 5 могильника Чми—I (рис. 6: 7). Здесь похоже расположены вставки — три круглые — в углах (лепестках) щитка, в центре — треугольная. Данный вариант отличается более вытянутым центральным лепестком (с тремя заклепками) и упрощением декора щитка. Вместо альмандинов в данном случае использована инкрустация стеклянными вставками (две утеряны). М.П. Абрамовой, инвентарь могильника был датирован временем не позже первой половины VI в. (Абрамова 1997: 91, 92, рис. 62: 1). Ряд женских погребений из данного могильника А.В. Мастыкова отнесла к периоду конца IV — начала VI в. (Мастыкова 2009: 252—254).
В числе инвентаря, обнаруженного в пещере на горе Развалка, выделяются два металлических сосуда: серебряное блюдо на кольцевом поддоне и бронзовая круглодонная чаша. Интересен декор блюда. Внутренняя поверхность украшена чеканным растительным узором (рис. 4: 1, 1а). В центре трехчастной композиции (на дне сосуда) расположена в двойном круге рельефная восьмилепестковая розетка (с закругленными лепестками), являющаяся центром двойной шестилучевой розетки. Лучи завершаются полусферическими выступами, окруженными четырьмя кругами миниатюрных округлых выступов, напоминающих зернь. Пространство между лучами занимают рельефные изображения вытянутых бутонов (лилии?), располагающихся между загнутыми лепестками — концами двойных дуг, выгнутых в сторону края чаши. Бутоны продолжаются (в сторону края сосуда) линией из рельефных миниатюрных округлых выступов, соединяющей с тремя кругами такого же декора, аналогичных вышеотмеченным (завершающих лучи розетки). Ниже края чаши — по окружности прочеканены две линии подобных рельефных округлых выступов.
МАИАСП № 15. 2023
Изображения розетки (с закругленными лепестками) известны с эллинистического времени (использовались в украшениях, в декоре серебряных сосудов и т.д.). Например, в I в. до н.э. они включались в орнамент серебряных чаш «цветочный усик» или составляли фризы (Pfrommer 1993: 140, 183). Такие изображения украшали сосуды и в позднеримское время. В частности, восьмилучевые розетки, вписанные в двойной круг, декорировали медальон серебряного блюда с надписью в честь 10-летнего юбилея правления императора Константа (343 г.) (хранится в Римском музее г. Аугсбурга) (Levada 2013: 214—215, 217, fig. 4).
Также, подобные розетки, скорее всего, использовались в декорировании серебряных сосудов Ирана этапа ранних Сасанидов. Впоследствии они являлись образцами для подражаний в декоре восточных сосудов более поздних периодов. Например, аналогичная розетка, вписанная в двойной круг, является украшением дна серебряной кружки, найденной в устье Дона (Согд — первая половина VIII в.) (Маршак 2017: 378, 538, рис. 57: 58).
Тоже нужно отметить и для другого элемента декора развальского блюда, занимавшего донную и придонную часть внутренней поверхности сосуда — шестилучевой розетки, являющейся вторым ярусом трехчастной композиции (рис. 6: 1а). В частности, близкая к отмеченной, но усложненная шестилучевая розетка (вместо лучей — пятилепестковые пальметты) в качестве второго яруса украшает серебряную чашу на высоком поддоне из Согда или Уструшана (VI в.). Здесь же присутствует в качестве декора псевдозернь (группы по три полусферы и верхний пояс по окружности) (Маршак 2017: 377, 522, рис. 38).
Интересна уникальная бронзовая полусферическая круглодонная чаша (о находках подобных сосудов нам не известно) (рис. 3: 4). Близкие по форме тулова и расширенного венчика подтреугольной формы, только, серебряные сосуды характерны для позднеэллинистического периода. В каталоге М. Пфроммера профили наиболее сходных образцов (I в. до н.э.) помещены под №№ 9, 18, 79. В единичных случаях они имеют иранское происхождение (кубок из Мазандарана II в. до н.э. — хранится в Британском музее, г. Лондон) (Pfrommer 1993: 36, 197, 200, 223—233, fig. 34). Полусферические серебряные гладкостенные чаши производились и в позднеримский период, в том числе в незначительном количестве в раннесасанидском Иране. Формы этих чаш идентичны римским и они аналогичного размера. В основном они датируются концом III — началом IV в. (Hobbs 2021: 135, 139, pl. 8.3a, 8.3b). Возможно, подобные сосуды являлись прототипами бронзовой чащи из развальского захоронения.
Особо следует отметить в комплексе из пещеры на горе Развалка присутствие полного набора предметов, скорее всего, связанных с культом домашнего очага, включающих: медный котел (рис. 3: 5); фрагменты очажной цепи из восьмерковидных звеньев (два фрагмента соединены с кольцами, к которым подвешены крюки (один и два); крайние крюки предназначены — нижний для подвешивания котла, верхний для крепления (подвешивания) всей цепи к какой-либо конструкции — деревянной перекладине или жерди над очагом; третий, средний крюк имел целью регулировку высоты котла над огнём) (рис. 2: 1, 1а, 1б); крюк для вытаскивания мяса из котла (сохранился частично) (рис. 2: 2); ложку-черпак (сохранилась частично) (рис. 2: 6).
Для памятников Центрального Предкавказья эпохи Великого переселения народов наличие в погребальном инвентаре аналогичных цепей, а также различных вариантов крюков, не характерно (обычны находки котлов). Исключением являются: крюк для вынимания мяса (в комплексе с котлом) в погребении № 11 могильника №2 Лермонтовская скала (Рунич 1976: 265, рис. 3: 22; Абрамова, 1997, рис. 22: 21) и цепочка в погребении 13 этого же могильника (Мастыкова 2009: 88, 89). Первое захоронение А.В. Мастыкова датировала развитым гуннским временем и ранней частью «шиповского» горизонта от 380/400—500/510 гг.; второе — 430/470—530/570 гг. (Мастыкова 2009: 234, 235). Напротив, находки фрагментов цепей, с восьмерковидными звеньями меньших размеров, возможно, имитации надочажных цепей, обычны в комплексах «шиповского» горизонта могильников на Черноморском побережье и на Нижней Кубани (могильник Бжид I, погребение 38, 57;
МАИАСП № 15. 2023
Княжеский комплекс эпохи Великого переселения народов из пещеры в северной части горы Развалка …
Сопино, погребение 11; могильник Дюрсо, погребение 300, 408, 410, 483, 516; могильник Пашковский, погребение 7 (1948 г.), 14 (1948 г.), 15 (1948 г.), погребение 1 (1949 г.), 5 (1949 г.), 11 (1949 г.) и др. В женских захоронениях они являются элементом костюма, в мужских — являются заупокойными дарами (Мастыкова 2009: рис. 104, 105). Следует отметить, что фрагменты таких цепочек с восьмерковидными звеньями зафиксированы в комплексах римского времени на территории Германии. Например, Майнфранк (Вюрцбург — Бавария) (Bemmann 2003: 108, abb. 23: 3, 4).
Котел из развалкинского комплекса изготовлен из медных листов. Две полосы, сформировавшие цилиндрическое тулово, соединены двумя вертикальными рядами из пяти заклепок. Выгнутое днище, состоящее из одной пластины, крепилось к краю тулова (по окружности) посредством горизонтального ряда аналогичных заклепок (рис. 3: 5). Как уже было отмечено, подобные клепанные котлы характерны для погребений Центрального Предкавказья (могильник Лермонтовская скала-2, погребение 10; погребение 11; могильник Гиляч, погребение 4 (1965 г.); Георгиевское плато; могильник Хабаз; могильник Острый мыс, погребение 1; могильник Байтал-Чапкан, погребение 29; могильник Шестая шахта; могильник Мокрая Балка, погребение 123 и др.). Все они встречены в комплексах V—VI вв. (Абрамова 1997: 27, 29, 40, 42, 46, 50, 66) или конца IV—VI вв. (Мастыкова 2009: 233, 234, 243). Экземпляр, происходящий из пещеры на горе Развалка, отличается от перечисленных котлов большим диаметром и низким корпусом.
Ложка-черпак (без отверстий) без сохранившейся ручки не имеет полных аналогий в памятниках региона. Она отличается от многочисленных находок в захоронениях Предкавказья ложек-цедилок отсутствием отверстий (рис. 2: 6). Единственная известная небольшая ложка, также не имевшая отверстий, происходит из погребения 22 могильника Мокрая Балка (Мастыкова 2009: 88). Но, по своим размерам данный экземпляр не может быть ложкой-черпаком, а скорее являлась туалетной ложечкой.
Результаты. Таким образом, результаты хронологического анализа некоторых категорий инвентаря: предметов вооружения (меч, кинжал, скоба от ножен), металлических сосудов и изделий, связанных с культом домашнего очага дают широкие даты комплекса в пределах IV—VI в. Однако, ряд предметов имеет достаточно узкие датировки: топор с узким лезвием, без обозначенного обуха (IV — первая половина V в.), детали поясной гарнитуры (пряжки № 1 с треугольным щитком и № 2 с округлым щитком — вторая половина IV — вторая половина V в.; пряжка № 3 с далеко выступающим язычком, с альмандинами на щитке в форме трилистника (первая половина — середина V в.). Они являются маркерами, позволяющими отнести данный комплекс к V в., предположительно, первой половине — середине V в.
Престижный характер большинства найденных изделий — полный набор вооружений (меч, кинжал, топор и копье), значительный процент предметов из драгоценных металлов — серебра и золота (Г-образная скоба от ножен меча; три (?) пряжки, богато орнаментированное блюдо), включая декорирование кабошонами из гранатов (альмандинов?), уникальность бронзовой полусферической чаши, а также разнообразие изделий, скорее всего, связанных с культом домашнего очага (медный котел; фрагменты очажной цепи из восьмерковидных звеньев с крюками и др.) позволяет включить данный комплекс в число захоронений вождистской культуры. Скорее всего, найденные вещи являются частью княжеского комплекса, подобного катакомбе 5.6 могильника Клин-Яр 3 и погребению 10 могильника Лермонтовская скала-2.
МАИАСП № 15. 2023
Список литературы Княжеский комплекс эпохи Великого переселения народов из пещеры в северной части горы Развалка (район Кавказских Минеральных Вод)
- Абрамова М.П. 1993. Центральное Предкавказье в сарматское время (III в. до н.э. — IV в. н.э.). Москва: ИА РАН.
- Абрамова М.П. 1997. Ранние аланы Северного Кавказа III—Vвв. н.э. Москва: ИА РАН.
- Амброз А.К. 1989. Хронология древностей Северного Кавказа V—VII вв. Москва: Наука.
- Ахмедов И.Р., Воронцов А.М. 2012. Узколезвийные проушные топоры римского времени и эпохи Великого переселения народов с территории Верхнего и Среднего Поочья. В: Воронцов А.М., Гавритухин И.О. (ред.). Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи Великого переселения народов. Конференция 3. Тула: Государственный музей-заповедник «Куликово поле», 9—54.
- Воронов Ю.Н., Шенкао Н.К. 1982. Вооружение воинов Абхазии IV—VII веков. Москва: Наука.
- Гей О.А., Бажан И.А. 1997. Хронология эпохи «готских походов» (на территории Восточной Европы и Кавказа). Москва: ИА РАН.
- Засецкая И.П. 1994. Культура кочевников южнорусских степей в гуннскую эпоху (конец IV — V вв.). Санкт-Петербург: Эллипс Лтд.
- Казанский М.М. 2012. К истории парадного клинкового оружия эпохи Великого переселения народов на Северном Кавказе: кинжал и скрамасакс. В: Гаджиев М.С. (отв. ред.). Новейшие открытия в археологии Северного Кавказа: исследования и интерпретации. XXVII Крупновские чтения. Материалы Международной научной конференции Махачкала, 23—28 апреля 2012 г. Махачкала: Мавраевъ, 332—334.
- Казанский М.М. 2015. Германские элементы в материальной культуре Абхазии в позднеримское время и в эпоху переселения народов. Scripta Antiqua IV, 33—61.
- Ковалевская В.Б. 1979. Поясные наборы Евразии IV—Xвв. Пряжки. Москва: Наука (САИ Е1-2).
- Маршак Б.И. 2017. История восточной торевтики III—XIII вв. и проблемы культурной преемственности. Санкт-Петербург: Академия исследования культуры.
- Мастыкова А.В. 2009. Женский костюм Центрального и Западного Предкавказья в конце IV — середине VIв. н.э. Москва: ИА РАН.
- Рунич А.П. 1976. Захоронение вождя эпохи раннего средневековья из Кисловодской котловины. СА 3, 256—266.
- Храпунов И.Н. 2010. Оружие из могильника Нейзац. In: Urbaniak A., Prochowicz R., Jakubczyk I., Levada M., Schuster J. (eds). Terra Barbarica. Monumenta Archaelogica Barbarica. Series Gemina. Lodz; Warzava: Instytut Archeologil Uniwer syletu Lodzkiego, 535—555.
- Храпунов и др. 2020: Храпунов И.Н., Иштванович Э., Кульчар В., Стоянова А.Н. 2020. Оружие сарматского времени в Крыму и в Альфёльде. МАИЭТ XXV, 5—24.
- Ajbabin A. 1995. Les tombes de chefs nomades en Crimée de la fin du IVe siècle au VIe siècles. In: Vallet F., Kazanski M. (eds.). La Noblesse Romaine et les Chefs Barbares du III au VIF siècle. T. IX. Condé-sur-Noireau: Associaton Frangaisçaise d'Archéologie Mérovingienne (A.F.A.M.), 207—216.
- Atabiev B. 2000. Tombe 118. Zaragij, Naltchik (Caucase du Nord, République de Kabardino-Balkarie), Russie. In: Périn P., Vallet F., Kazanski M., Wieczorek A., Koch U., Braun C., Tejral J. (eds.). L'Or des princes barbares. Du Caucase â la Gaule, Ve siècle après J.-C. Paris: Éditions de la Réunion des musées nationaux.
- Bemmann J. 2003. Romanisierte Barbaren oder erfolgreiche plunderer? Anmerkungen zur Intensität, Form und Dauer des provinzialrömiscen Einflusses auf Mitteldeu tschland während der jüngeren Römischen Keiser zeit und der Völker wanderungszeit. In: Bursche A., Ciolek R. (eds.). Antyk i Barbarzyncy Ksiega dedykowana Profesorowi jerzemi Kolendo w siedemdziesiqtq rocznicq Urodzin. Warszawa: Instytut Archeologii UW, 53—198.
- Bemmann J. 2007. Anmerkungen zu Waffenbeigabensitte und Waffenformen während der jüngeren Römischen Kaiserzeit und der Völkerwanderungszeit in Mitteldeutschland. Alt-Thüringen 40, 247—290.
- Böhme H.W. 1974. Germanische Grabfunde des 4. bis 5. Jahrhunderts zwischen unterer Elbe und Loire. München: C.H. Beck'sche verlagsbuchhandlung.
- Garnet Cloisonné Ornamets 1991а: Adams D.N. 1991a. Garnet Cloisonné Ornamets. Origins, styles and Workshop production. Vol. I. Text and Catalogue. London: University College London.
- Garnet Cloisonné Ornamets 1991b: Adams D.N. 1991b. Garnet Cloisonné Ornamets. Origins, styles and Workshop production. Vol. II. Figures, plates, Maps. London: University College London.
- Hobbs R. 2021. Use of Dekorated Silver plate in Imperial Rome and Sasanian Iran. In: Eisner J., Wood R. (eds.). Imagining the Divine: Exploring Art in Religions of Late Antiquity across Eurasia. London: British Museum, 132—150.
- Jirik J., Gil J.P., Vâvra J. 2019. Raiders, federates and settlers: parallel and direct contacts between Bohemia and the Western Mediterranean (Late 4th — early 6th Century). In: Boube E., Corrochano A., Hernandez J. (eds.). Du Royaume goth au Midi merovingien: Actes des XXXIVe Joumées d'Archéologie Mérovingienne de Toulouse, 6,7, et 8 Novembre 2013. Bordeaux: AUSONIUS, 415—421 (Ausonius Éditions. Mémoires 56. T. 35 coll. Mémoires de l'AFAM).
- Kazanki M. 1994. Les plaques-boucles méditerranéennes des Ve — VIe siècles. Archéologie médiévale XXIV, 137—198.
- Kazanki M. 1995. Les tomben des chefs alano-sarmates au IVe siècle dans les steppes pontiques. In: Vallet F., Kazanski M. (eds.). La Noblesse Romaine et les Chefs Barbares du III au VIF siècle. T. IX. Condé-sur-Noireau: Associaton Frangaisçaise d'Archéologie Mérovingienne (A.F.A.M.), 189—205.
- Kieferling G. 1994. Bemerkungen zu Äxten der römischen Keiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbarikum. In: von Carnap-Bornheim C. (Hrsg.). Betträge zu römischer und barbarischer Bewaffnung in den ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten. Akten des 2 Internatonalen Kolloquiums in Marburg a.d. Lahn, 20. bis 24. Februar. Lubln; Marburg: Vorgeschichtliches Seminar der Philipps-Universität, 335—356.
- Kiss A. 1982. Die goldbeschlagenen Schalen der Fürstengräber von Szeged-Nagyszéksos und Apahida 1-2. Budapest: Mûzsâk ^zm^elodési Kiado.
- Levada M. 2013. Sösdala: The Problem of Singling out an Artistic Style. In: Khrapunov I., Stylegar F.-A. (eds.). Inter Ambo Maria. Northern Barbarians from Scandinavia towards the Black Sea. Kristiansand; Simferopol: Dolya, 213—236.
- Pfrommer M. 1993. Metalwork from the Hellenizeg east. Cataloque of the collections. Malibu: The J. Paul Getty Museum.
- Pilet C. 1990. Militaires et Barbares sur le Limes Saxonicum. In: Marin J.-Y. (ed.). Attila. Les influences danubiennes dans l'Ouest de l'Europe au Ve siècle. Caen: Mussée de Normandie (Publication du Mussée de Normandie 9).
- Pilet C. 1995. Un centre de pouvoir: le domaine d'Airan, Calvados (IVe — IXe siècles). In: Vallet F., Kazanski M. (eds.). La Noblesse Romaine et les Chefs Barbares du IIIe au VIIe siècle. T. IX. Condé-sur-Noireau: Associaton Frangaisçaise d'Archéologie Mérovingienne (A.F.A.M.), 327—333.
- Quast D. 2005. Völkerwanderungszeitliche Frauengräber aus Hippo Regius (Annaba/Bône) in Algerien. Jahrbbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz 52. Jahrgang. T. 2, 237—315.
- Salin E. 1939. Le Haut Moyen Age en Lorraine d'après le mobilier funéraire. Paris: Librairie orientaliste Paul Geuthner.
- Tejral J. 1995. Neue Aspekte der frühvölkerwanderungszeitlichen Chronologie im Mitteldonauraum. In: Tejral J.; Friesinger H.; Kazanski M. (eds.). Neue Beiträge zur Ervorschung der Spätantike im mittleren Donauraum. Brno: Archeologicky üstav AV CR, 321—389.
- Tejral J. 1997. Les fédérés de l'Empire et la formation des royaumes barbares dans la region du Danube moyen à la lumière des dornées archéologiques. In: Vallet F., Kazanski M., Périn P. (eds.). Des royaumes barbares au Regnum Francorum. L'Occident à l'époque de Childéric et de Clovis (vers 450-vers 530). Actes des XVIIIes Journées Internationales d'Archéologie Mérovingienne Saint-Germain-en-Laye — Musée des Antiquités Nationales. 23-24 avril 1997. Chelles: Association française d'archéologie mérovingienne, 137—166 (Mémoires de l'Association française d'archéologie mérovingienne 29).