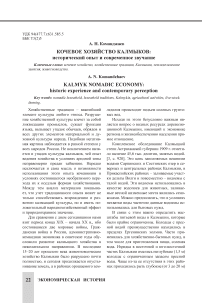Кочевое хозяйство калмыков: исторический опыт и современное звучание
Автор: Команджаев Александр Нармаевич
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Экономическое развитие России: региональный опыт
Статья в выпуске: 4 (15), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются основные элементы калмыцкого кочевого хозяйства конца XIX - начала XX в. Сравнительный анализ позволяет определить возможности использования животноводческой культуры калмыков в современном сельском хозяйстве региона.
Кочевое хозяйство, хозяйственные традиции, калмыкия, земледельческие занятия, животноводство
Короткий адрес: https://sciup.org/14723602
IDR: 14723602
Текст научной статьи Кочевое хозяйство калмыков: исторический опыт и современное звучание
Хозяйственные традиции – важнейший элемент культуры любого этноса. Разрушение хозяйственной культуры влечет за собой ликвидацию промыслов, сужает функции языка, вызывает упадок обычаев, обрядов и всех других элементов материальной и духовной культуры народа. Подобная негативная картина наблюдается в разной степени у всех народов России. Не исключением является и упадок культуры калмыков, чей опыт ведения хозяйства в условиях аридной зоны неправомерно предан забвению. Нередко исключается и сама мысль о возможности использования этого опыта кочевников в условиях состоявшегося необратимого перехода их к оседлым формам хозяйствования. Между тем анализ материалов показывает, что учет традиционного опыта может не только способствовать возрождению и развитию калмыцкой культуры, но и иметь положительный народнохозяйственный эффект и природоохранное значение.
Для сравнения с днем сегодняшним нами взят период конца XIX – начала XX в., ибо состоявшиеся две мировые войны, Гражданская война в России, административнокомандная экономика в советские годы обусловили развитие калмыцкого хозяйства в нежелательном направлении. В последние 15–20 лет прошлого века животноводческое хозяйство Калмыкии было разрушено почти полностью, и сегодня продолжается опустынивание земель, а в районах орошаемого зем- леделия происходит подъем соленых грунтовых вод.
Исходя из этого безусловно важным является вопрос о водных ресурсах дореволюционной Калмыкии, имеющий к экономике региона и жизнеобеспечению населения прямое отношение.
Комплексное обследование Калмыцкой степи Астраханской губернии 1909 г. отметило наличие 45,6 тыс. десятин, занятых водой. [3, с. 920]. Это цепь заполняемых вешними водами Сарпинских и Состинских озер в северных и центральных районах Калмыкии, в Прикаспийских районах – заливаемые участки дельты Волги и повсеместно – водоемы с талой водой. Эти водоемы использовались в качестве водопоев для животных, заливаемые весной низменные места являлись сенокосами. Можно предполагать, что в условиях нехватки воды частично данные водоемы использовались для бытовых нужд.
В связи с этим важно определить масштабы питьевой воды в Калмыкии, которые были крайне ограниченны. Колодцы с пресной водой преимущественно находились в пределах Ергенинских холмов. Часто применялась для хозяйственно-бытовых нужд, в том числе для приготовления пищи, соленая вода. Изредка в восточной и юго-восточной частях Калмыкии имелись неглубокие (1,5 м) колодцы с ограниченным запасом пресной воды. Чаще из-за ее отсутствия в этих районах приходилось рыть глубокие (от 3 до 20 м)
колодцы и пользоваться соленой, нередко горько-соленой водой.
Эти колодцы находились не только в общинном, но и в частном пользовании. Поскольку глубокий колодец со срубом обходился владельцу в 100–211 руб., владение им «составляло известную славу и гордость калмыка». Иногда богатые скотоводы прибегали к сооружению артезианских колодцев, когда требовались значительные объемы воды. Так, артезиан скотопромышленника Г. Даланова в Эркетеневском улусе глубиной 205 м содержал большие запасы горько-соленой воды, которая шла на все нужды хозяйства. Всего же колодцев в калмыцких улусах, по приблизительным данным, насчитывалось около 5 тыс., причем многими из них пользовались лишь в определенные сезоны. Поэтому в дореволюционной статистике их подразделяли на зимние, летние и постоянные. Таким образом, сегодня можно оправдывать подачу в разумных пределах пресной воды в Калмыкию извне как вынужденное средство.
Следующим является вопрос о численности поголовья скота в Калмыкии накануне 1917 г. Сведения, имеющиеся в опубликованной литературе по этому поводу, неполны и противоречивы, поскольку, как правило, не учитывалось поголовье животных в русско-украинской переселенческой деревне и на сданных в аренду калмыцких пастбищах. Отсюда и неверная общая оценка развития животноводства в советские годы: довольно часто утверждается о многократном росте численности скота за годы советской власти по сравнению с прошлым. Это не соответствует истине: поголовье овец возросло лишь в 2,2 раза, а численность крупного рогатого скота, напротив, сократилась на 18 %. К тому же надо учитывать, что сейчас в Калмыкии практически нет верблюдов, а численность лошадей составляет лишь 20 тыс. Если же подсчеты произведем в условных единицах крупного рогатого скота, принимая 4 головы мелкого за единицу крупного, то количественный прирост животноводства Калмыкии выразится в весьма скромной цифре – 30 % за советский период.
Точную численность скота в дореволюционной Калмыкии и ныне трудно представить по той причине, что сдача земель в аренду под выпас «постороннего» скота не всегда контролировалась администрацией и учитывалась в делопроизводстве. Кроме того, арендаторы старались при заключении контракта об аренде участков дать заниженные сведения о численности выпасываемого скота, чтобы платить меньшую арендную плату.
Выведенные нами обобщенные данные о численности скота в дореволюционной Калмыкии выглядят следующим образом: лошадей – 88,0 тыс. голов, крупного рогатого скота – около 500 тыс., овец – 1,5 млн, верблюдов – 25 тыс., коз – 20 тыс. [2, с. 201].
Эти данные приблизительны, но они могут служить ориентиром с некоторым допуском на заниженность этих цифр. Помимо этого, очевидно, что в переселенческих селах наверняка имелись свиньи и козы, которые не отражены в представленной нами статистике. Следовательно, перегрузка пастбищ, наблюдаемая нами в отдельных районах современной Калмыкии, не является единственной и главной причиной опустынивания региона. Во многом это связано с нерациональным использованием земельных угодий (неправомерно большая площадь отдана земледелию) и неправильной структуре животноводческих отраслей.
В рассматриваемый период на одну калмыцкую семью приходилось в астраханских калмыцких улусах 16,6 голов крупного рогатого скота с некоторой порайонной спецификой: в центральных улусах на одно хозяйство приходилось от 20 до 29 голов [2, с. 203].
Гораздо лучше в среднем было обеспечено население Большедербетовского улуса Ставропольской губернии (юго-запад Калмыкии), где на одно хозяйство приходилось 25–26 усл. ед. крупного скота, которые не являлись единственной статьей доходов. У местных калмыков довольно успешно развивалось земледелие, и поэтому доходы семьи значительно повышались. Та же картина наблюдалась в русско-украинских селах: 26,8 усл. ед. крупного скота приходилось на один двор, что в сочетании с земледельчески- ми занятиями обеспечивало сравнительно высокий жизненный уровень переселенцев. (Подсчитано автором по материалам отчетов Управления калмыцким народом Астраханской губернии и главного пристава кочующих народов Ставропольской губернии.)
Эти животноводческие нормы с их порайонной спецификой сложились не случайно, а в результате многовекового приобщения калмыков к жизнедеятельности в условиях засушливых степей. Превышение нормы означало перегрузку на пастбища и их уничтожение, и как следствие – падение жизненного уровня. Равным образом понижение этой нормы сказалось бы на ухудшении жиз-необеспеченности населения. Во всех улусах Калмыкии имелась необходимая предельная численность скота.
Дореволюционные исследователи подсчитали, что потребности среднестатистической калмыцкой семьи в 5,2 чел. могли быть удовлетворены при наличии в хозяйстве 29,3 усл. ед. крупного скота. Если исходить из этих данных, выходит, что только жители двух улусов и переселенческих сел Калмыкии могли сводить концы с концами. Все население остальных улусов по статистике жило в среднем ниже черты бедности.
Однако эта усредненная статистика не может отразить всей полноты картины дореволюционного бытия. Между тем нехватку средств, поступавших от животноводства, калмыки старались восполнить за счет других занятий – земледелия, рыболовства или же найма на сельскохозяйственные работы, на рыбные и соляные промыслы. Статистика найма свидетельствует: отходничеством занималось более 40 % калмыцких хозяйств [1, с. 90].
В целом необходимый прожиточный минимум калмыки обеспечивали себе не только животноводством, а также в отдельных районах земледелием и рыболовством, и повсеместно – за счет найма на сельскохозяйственные работы, на рыбные и соляные промыслы.
По имеющимся данным, сегодня доля крупного рогатого скота составляет в общем поголовье животных 30,5 %, а овец – 69,5 %.
Таким образом, следует, что наше сельское хозяйство нуждается в коренной ломке соотношения животноводческих отраслей, потому что калмыки, полностью восприняв оседлый образ жизни, неожиданно непомерно увеличили долю овцеводства (с 30,9 % в начале века до 69,5 % сегодня). А овцы (любой породы) требуют значительного пастбищного пространства. Причем произошло это за счет резкого сокращения доли крупного рогатого скота (с 44 до 30,5 %), наиболее приспособленного к стойловому содержанию.
Средняя нагрузка на пастбища составляла по нашим примерным подсчетам менее 0,15 усл. ед. крупного рогатого скота на 1 десятину, или на 1 усл. ед. скота приходилось 6,8 десятин. В подсчеты мы включили максимальное поголовье скота (в том числе «посторонний» скот). Эта нагрузка, по мнению наших предков-скотоводов и специалистов того времени, являлась предельной и порой губительной для восточной части степи. Поэтому калмыки постоянно выступали против перегрузки пастбищ, которая в то время наблюдалась, особенно в переселенческих селах: 0,9 усл. ед. крупного рогатого скота на 1 десятину, что превышало таковую у калмыков в 6 раз. Это говорит о том, что процесс восприятия переселенцами животноводческой культуры калмыков только начинался. Естественно, что эта перегрузка пастбищ в русско-украинских селах вынуждала их жителей прибегать к аренде выпасных участков у соседних калмыцких обществ. В современные годы, по нашим подсчетам, нагрузка на пастбища составляет приблизительно 0,42– 0,45 усл. ед. скота на 1 га. Так что причину опустынивания калмыцких степей искать долго не приходится.
Анализ динамики торговли за 1892– 1917 гг. позволяет убедиться в том, что неуклонно возрастали поставки лошадей и крупного рогатого скота на 20–30 % и снижалась на столько же продажа овец и верблюдов. Исключением могут явиться лишь годы Первой мировой войны, которая резко нарушила товарный баланс. Только за первый год войны в Калмыцкой степи было продано:
верблюдов – 1 969 (7,7 %); лошадей – 10 158 (13,1 %); крупного рогатого скота – 55 905 (28,9 %); овец – 167 198 (20,6 %); коз – 1 979 (11 % от их общей численности), что составило 19,5 % от общего поголовья всех видов животных в пересчете на усл. ед. Таким образом, превышение нормальных поставок на рынок составило 7,2 % (сравните с 1912 г.), что нарушило гармоничное развитие животноводства Калмыкии. Однако 12,3 % – это только доля продаваемого скота. Кроме того, по выборочным данным на основе материалов обследования 1909 г. следует, что 5,2 % скота жители Калмыкии употребляли в пищу и 0,3–0,5 % – жертвовали церкви. Если же к этому добавить ежегодный падеж скота (6 %), то выходит, что общая доля «отхода» животноводства составляла около 24 %. (Подсчитано автором по материалам отчетов Управления калмыцким народом Астраханской губернии и главного пристава кочующих народов Ставропольской губернии.)
Это и есть та выведенная нашими предками допустимая норма расхода, которая позволяла животноводству дореволюционной
Калмыкии не только самовосстанавливать-ся, но и наращивать прирост. Конечно, приведенные цифры могут быть заниженными, поскольку часть реализованного скота могла не отразиться в официальных сводках. Ориентировочно можно считать, что для нормального самовосстановления и некоторого прироста животноводства расход может составлять около 25 % общей численности скота. Допустимо, что сегодня при условии надежной кормовой обеспеченности и ликвидации падежа эта доля может возрасти до 30–35 %.
Главная трудность заключается в создании надежной кормовой базы калмыцкого животноводства. Видимо, следует согласиться с предлагаемыми планами по увеличению производства кормов до потребной нормы, в том числе на орошаемых землях в разумных и научно обоснованных пределах.
Таким образом, представленный неполный анализ элементов хозяйственной культуры калмыков позволяет нам утверждать, что сегодня учет исторического опыта в этой сфере не только возможен, но и необходим.
Список литературы Кочевое хозяйство калмыков: исторический опыт и современное звучание
- Материалы статистико-экономического и естественно-исторического обследования Калмыцкой степи Астраханской губернии. В 2-х частях./Материалы. -Астрахань: 1910. -1112 с.
- Команджаев А.Н. Хозяйство и социальные отношения в Калмыкии в конце XIX -начале XX века./А.Н. Команджаев. -Элиста: АПП «Джангр», 1999. -262 с.
- Бадмахалгаев Л.Ц. Хозяйство Калмыкии: эволюция и потенциал устойчивого развития./Л.Ц. Бадмахалгаев. -Элиста: АПП «Джангр», 2003. -496 с.