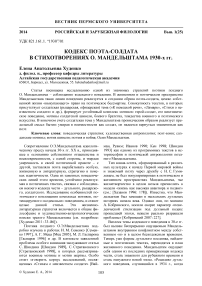Кодекс поэта-солдата в стихотворениях О. Мандельштама 1930-х гг
Автор: Худенко Елена Анатольевна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 1 (25), 2014 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию одной из значимых стратегий поэтики позднего О. Мандельштама - соблюдению кодексного поведения. В жизненном и поэтическом пространстве Мандельштама такая линия поведения реализуется в создании образа поэта-солдата, ценою собственной жизни «выкупающего» право на поэтическое бессмертие. Совокупность текстов, в которых присутствует солдатская (рыцарская, офицерская) тема («К немецкой речи», «Ламарк», «Стихи о неизвестном солдате» и др.), формирует устойчивый комплекс мотивов: герой-солдат, его виктимическое поведение, мотивы солдатской шинели, боевого братства, тождества военного и поэтического искусства. В конечном счете солдатская тема у Мандельштама провидческим образом реализует предельный смысл бытия: умирая в неизвестности как солдат, он надеется вернуться знаменитым как поэт.
Поведенческая стратегия, художественная антропология, поэт-воин, солдатские мотивы, мотив шинели, поэзия и война, осип мандельштам
Короткий адрес: https://sciup.org/14729272
IDR: 14729272 | УДК: 821.161.1.
Текст научной статьи Кодекс поэта-солдата в стихотворениях О. Мандельштама 1930-х гг
Сопротивление О.Э.Мандельштама идеологическому прессу начала 30-х гг. ХХ в., приводившее к осознанию собственного отщепенства и несвоевременности, с одной стороны, и твердая уверенность в своей поэтической правоте – с другой, заставляли поэта вырабатывать особую, жизненную и литературную, стратегию в поисках идентичности. Одна из заметных поведенческих линий этого времени, устойчиво реализуемая в поэтических текстах, связана с соблюдением некоего кодекса чести – дуэльного, рыцарского, солдатского. Исследование особенностей поэтического воплощения комплекса мотивов, потенцируемого «кодексным» поведением, и станет целью данной статьи. Эта жизненнолитературная стратегия включается в общие философские и художественно-антропологические поиски зрелого Мандельштама (см. подробнее: [Худенко 2011: 33–86]).
Поэтика позднего О.Э.Мандельштама подробно изучена в работах И. М. Семенко [Семен-ко 1997], А. Г. Меца [Мец 2005], М. Л. Гаспарова [Гаспаров 1996] и др. В контексте заявленной проблемы особого внимания заслуживают статьи С. Шиндина [Шиндин 1989], C. Стратановского [Стратановский 1998], в которых рассматриваются военные мотивы и мотив жертвы. Особо стоит оговорить корпус исследований, посвященных «Стихам о неизвестном солдате» [Вай- ман, Рувим; Иванов 1990; Кен 1998; Шиндин 1993] как одному из программных текстов в историософии и поэтической антропологии позднего Мандельштама.
Тип воина-эстета, сформированный в различных культурах к началу Первой мировой войны и знакомый поэту через дружбу с Н. С. Гумилевым, не был популяризирован в поэтическом и жизненном пространствах Мандельштама, чье жизнетворчество в целом нельзя причислить к модели «жизнь как высокая авантюра и подвиг» (см.: [Хазанов 1996: 178]). Известно, что Мандельштам был замешан в нескольких дуэльных историях начала века. Однако они, по мнению А. Кобринского, носили скорее характер «поведенческой стилизации под дуэльный кодекс прошедшей эпохи, нежели реально разрешали проблемы» [Кобринский 2007: 227].
Всплеск темы кодексного поведения в 30-е гг. был вызван беспрерывно ощущаемым Мандельштамом внутренним конфликтном между собственным «я» и в целом бескодексным временем. Теперь уже формы дуэльного поединка, найденные в поэтических текстах, переводятся в план жизненного поведения. Мандельштам ощущает себя одним из последних приверженцев кодекса чести, столь знакового для рубежного времени и столь ненужного новой эпохе. «Рецидив» дуэльного поведения, случившийся в 1934 г., когда
Мандельштам дал пощечину А. Толстому, не только стал попыткой разрешения жизненной конфликтной ситуации, но и нес важную символическую нагрузку. Как указывает В. Шубин-ский, «поэт попытался сказать нечто важное (хоть и враждебное) человеку своего поколения на языке, уже непонятном младшим» [Шубин-ский 2008:404].
Поэтическая реализация поведенческого кодекса чести происходит в текстах этой поры по-разному. Так, в «Ламарке» (1932) можно увидеть два дуэльных поединка. Сама модель биологической лестницы, созданная в стихотворении, реализует одно из этимологических (итальянских) значений слова 'дуэль': «поединок на манер животного», т.е. «драться нужно так, как дерутся дикие звери – без пощады, до смерти» [Новоселов 2001: 217].
Первым в «Ламарке» представлен поединок шевалье и биолога Ламарка, выступающего за честь Природы против прогрессивных трактовок идеи эволюции, дающих право человеку на первенство. Заметим, что скрещение дуэльных шпаг (рапир) обыгрывается в образе «насекомых с наливными рюмочками глаз», т.к. насекомые обладают бинокулярными зрением, когда в глазу скрещиваются линии смотрения под определенным углом. Шпага фехтовальщика Ламарка отстаивает многообразие форм и видов природы до тех пор, пока сам Ламарк и авторское «я» не оказываются перед неким пределом – чертой, когда первоначальные роли утрачиваются: «подзащитный» превращается в противника, а отстаивающий честь «опозорен».
Во втором поединке шпага Ламарка противопоставлена шпаге Природы, которая, не желая бороться с человеком, вкладывает эту шпагу в «темные ножны». Демонстративный жест отказа от поединка объясняется, очевидно, несовершенством человеческой особи, ее неспособностью к переходу в другой «предел» – в мир других, не сравнимых с человеческими, форм восприятия жизни. Теперь уже Природа наносит «оскорбление» человеку, вкладывая в его организм продольный мозг, тем самым нарушая его мифологическую телесную целостность (андрогинность) и ограничивая в восприятии мира. «Первенство» антропоса оказывается не только подорванным, но и с самого начала иллюзорным – однако в сатисфакции отказано.
Несостоявшийся поединок оставляет человека с нанесенным ему оскорблением, а Природа превращается в неприступный замок-крепость, для взятия которого нужен подъемный мост, но про него Природа «забыла, опоздала» опустить. Во втором поединке Природе противостоит знающий ее исследователь, к тому же – опытный фехтовальщик (этим Мандельштам подчеркивает искусство Ламарка-классификатора). Однако это не меняет исхода поединка: Ламарк силен в том, что знает о грандиозности и многообразии видовых отношений в природе, но слаб в том, что не имеет адекватной формы для их передачи, т.е. не имеет языка описания. Следовательно, «привилегия» человека, заключающаяся в обладании речью, не уберегает его от превентивного поражения в поединке с природой. В своих воспоминаниях Э. Герштейн указывает, что Мандельштам при чтении «Ламарка» вслух всегда интонационно подчеркивал ритм фехтования в предпоследней строфе, особенно в строке: «Так, // как будто // мы ей не нужны» [Герштейн 2002: 40].
Все более частотным в текстах позднего Мандельштама становится образ сражающегося героя, восходящий к архетипу поэта-воина . Этот образ связан и с судьбами вполне реальных прототипов – например, М. Ю. Лермонтова или Н. С. Гумилева.
Военные мотивы, пронизывающие другое стихотворение – «К немецкой речи» (1932), многочисленны: это и образ немца-офицера (Х. Клейста); конечная точка пути – Валгалла (рай для скандинавских воинов); мотив вербовки; мотив мужской дружбы, скрепленной общим делом (создаются пары: Пилад – Орест, Фауст – Мефистофель, авторское «я» – Б. Кузин). В подтексте стихотворения порождается еще один образ – офицера и друга Мандельштама – Н. С. Гумилева. Появление фигуры Гумилева в текстах зрелого периода свидетельствует не только о не-прекращающемся внутреннем диалоге с ним, но и разрешении собственных жизнестроительных задач. Фигура умершего друга – Гумилева-поэта и Гумилева-воина – сводит воедино в мандельштамовских размышлениях поэтическое и военное дело.
Интерес к поиску тождества между военным и поэтическим искусством Мандельштам проявлял давно. В начале 1920-х гг. он пишет ироничный очерк « Армия поэтов», в котором сопоставляет все более увеличивающийся отряд пишущих с армией никчемных новобранцев. В одном из черновых набросков к статье «Слово и культура» (1921) встречается фраза: «культура стала военным лагерем » (правда, в беловом варианте оставлено «стала церковью») [Мандельштам 2010: 50]. В «Vulgata» («Заметки о поэзии») (1923) он опять возвращается к этой же теме: «В поэзии всегда война. И только в эпохи общественного идиотизма наступает мир или перемирие. Корневоды, как полководцы, ополчаются друг на друга. Корни слов воюют в темноте, отымая друг у друга пищу и земные соки» [там же: 140]. В «Разговоре о Данте» (1933) употребляется много военной лексики: «орудия поэтической речи», «приказ орудийной сигнализации»,
Данте назван «стратегом» превращений и скрещиваний, замыслы – «приказами» и т.п. Сближение поэтического и военного начал имеет и метафорическую форму, связанную с мотивом движения, ходьбы, шага (см.: [Шиндин 1989]).
Соединение искусства и воинского дела переводит «бесполезное» занятие поэзией в сферу практического искусства и главное – обозначает проблему высокой (осмысленной) смерти для поэта. В стихотворении «К немецкой речи», в его сонетном варианте (именно в таком, единственно существующем варианте, он был подарен А. В. Звенигородскому), возникает фигура немецкого офицера и поэта Христиана Клейста, который изложил свои пацифистские взгляды в поэме «Весна». Книгу его стихов Мандельштам приобрел в 1932 г., и его больше всего поразила судьба Клейста: смертельно раненный, он был вынесен с поля боя русскими солдатами, узнавшими в своем противнике известного поэта (см.: [Жизнь и творчество 1990: 226]). В случае с Клейстом Мандельштам обрел ценнейшее подтверждение собственным мыслям о том, что поэзия может спасти .
К середине 1930-х гг. «близнечная» связь с Гумилевым наполняется все более трагичным содержанием: поэт готовит себя к тому, чтобы «примерить» на себя судьбу расстрелянного друга. Недавно опубликованные материалы следственного дела Мандельштама [Нерлер 2010] позволяют утверждать, что на допросах в 1934 г. поэт в какой-то степени «копировал» мужественное поведение Гумилева, о расстреле которого ходили легенды. Мандельштам скупо отвечал на вопросы следователя, не отказываясь ни от чего, что ему инкриминировалось, и, не прочитывая, подписывал протокол допроса. В итоге, если следствие и имело один текст Мандельштама крамольного характера, записанный с чужих слов (имеется в виду «Мы живем, под собою не чуя страны…»), то после допросов – это было два авторских автографа (поэт записал следователю еще и текст «Холодная весна. Бесхлебный робкий Крым…»). Такое «самоубийственное» поведение, как считает П. Нерлер, парадоксально привело к тому, что поэту удалось на время ускользнуть от гибели [там же: 58].
Кроме того, зона сопоставления поэтического и военного ремесел дополняется в мандельштамовской версии, на наш взгляд, важной составляющей – фигурой плакальщицы, а именно плакальщицы-жены. В стихотворениях – это образ Ярославны (в «Стансах» речь идет о «Слове о полку»), в случае с Гумилевым – Анны Ахматовой и соответственно помещение в этот ряд собственной жены – Надежды Мандельштам. Примечательно, что в черновиках к «Разговору о Данте» поэт сравнивает интонацию великого мастера в «Божественной комедии» в том числе и с напевом плакальщицы: «Как будто он (Данте. – Е. Х.) не только говорит, но ест и пьет, то подражая домашним животным, то писку и стрекоту насекомых, то блеющему старческому плачу, то крику пытаемых на дыбе, то голосу женщин-плакальщиц (выделено нами. – Е. Х.), то лепету двухлетнего ребенка» [Мандельштам 2010: 458]. Плакальщице-жене принадлежит роль хранительницы чести и памяти поэта-пехотинца после его смерти. Деталь домашнего обихода Мандельштамов – клетчатый плед, который был едва ли не единственной вещью, всюду путешествовавшей с хозяевами, – становится посмертным покрывалом – саваном для поэта:
Есть у нас паутинка шотландского старого пледа,
Ты меня им укроешь, как флагом военным , когда я умру.
(«Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…», 1931)
[Мандельштам 2009: 163]
В последние годы жизни Мандельштам все больше демократизирует образ сражающегося героя: эстетический ореол, сложившийся в культуре русского дворянства и офицерства, отодвигается на задний план, сменяясь на мужественное, терпеливо-солдатское избытие жизни.
Стихотворения второй половины 1930-х гг. реализуют поведенческий комплекс героя-солдата , варьирующийся в различных деталях: то это образ пехотинца – «товарища последнего призыва» («Не мучнистой бабочкою белой…»), то гибнущего Чапаева из известного советского кинофильма, который потряс Мандельштама («От сырой простыни говорящая…»), то красноармейца-украинца, уходящего на фронт («Как по улицам Киева-Вия…»). В этих текстах проигрывается участь простого воина: смерть как полное исчезновение, уменьшение субстанционального «я» до полной неизвестности. Важно, что это смерть последнего солдата, который умирает «за» , – именно такая грамматическая конструкция является наиболее частотной в текстах этой поры (« За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я пью за военные астры…», в текстах «К немецкой речи…», «Голубые глаза и горячая лобная кость…», «Стихи о неизвестном солдате» и др.).
Поведенческая линия, связанная с солдатским комплексом мотивов, развивается во многих поэтических текстах воронежского периода. В стихотворении «Исполню дымчатый обряд…» (1935) возникает образ камня-солдата:
Но мне милей простой солдат
Морской пучины – серый, дикий, Которому никто не рад.
[Мандельштам 2009: 207]
Внешний вид камня – серость, неотшлифо-ванность, неказистость – делают его незаметным на фоне других, волшебных, «коктебельских камушков», собранных Н. Мандельштам на побережье Крыма в 1933 г. и привезенных в ссылку в Воронеж. Разглядывание этих камушков в какой-то мере способствовало появлению идеи о кристаллографии в статье Мандельштама о Данте. Смысл «обряда» в стихотворном тексте в том и состоит, чтобы увидеть и понять незаметность и простоту сложных вещей; не случайно семантическое значение слова “дымчатый” – это тот же серый. “Серый” – это и цвет солдатских одежд, а именно – шинели .
Кроме того, в биографическом контексте камень метонимически вводит материал не столько акмеистической молодости Мандельштама, сколько предчувствие собственного будущего (погребение под могильным камнем).
В воронежском стихотворении «Стансы» (1935) встречаемся с уже устойчивым комплексом мотивов: авторское «я» воплощено в образе солдата, отстаивающего свое право на определенный тип поведения и, как его знак, на ношение соответствующих одежд:
Люблю шинель красноармейской складки – Длину до пят, рукав простой и гладкий, И волжской туче родственный покрой, Чтоб, на спине и на груди лопатясь, Она лежала, на запас не тратясь,
И скатывалась летнею порой. [Мандельштам 2009: 201]
Мандельштам в этом тексте вспоминает свою попытку самоубийства в Чердыни, когда только выпрыгивание из окна вернуло ему разум. Расставание с воображаемой шинелью в стихотворении приравнивается к состоянию временной смерти и передается через образ шва: «Проклятый шов, нелепая затея, / Нас разделили». Шов в данном случае – это и стык на одежде, мешающий ее полному соприкосновению с телом, и шов (зашитая рана) на теле, временно разлучивший писателя с творчеством, т.к. при выпрыгивании из окна повреждена была правая – пишущая – рука. Неологизм «лопатясь» в этом контексте может быть рассмотрен как прорезывание крыльев («л о паясь»), где полет становится инициацией, мгновенным возмужанием. Не случайно далее в тексте перечисляются те образы, к которым хочет вернуться «воскресший» герой: это Арктика (подвиг челюскинцев), солдаты-жертвы в фашистских концлагерях, героическое «Слово о Полку». Советская действительность (в том числе почерпнутая из газетного чтения [Лекма-нов]) перемежается с культурным наследием прошлого.
Шинель как символ солдатского поведения обыгрывается и в контексте сложного диалога с эпохой и ее вождем – Сталиным. По мнению жены поэта, Мандельштам долго настраивал себя для написания «оды» Сталину («Когда б я уголь взял для высшей похвалы…», 1937), ему мешала именно «закрытость» облика вождя, связанная с его плакатными изображениями в наглухо застегнутой шинели. В стихотворении возникает сложная игра подсмыслов, образованная одинаковостью одежд (у одного – имеемых, для другого – желаемых), одинаковостью имен (Иосиф – Осип) и тождественностью той роли, что играют в истории поэты и вожди (пушкинская тема). При этом в тексте акцентируется позиция, дающая истинное понимание мира, – это правда бойца: «Правдивей правды нет, чем искренность бойца» [Мандельштам 2009: 311]. И эта правда принадлежит автору, т.к. он погибнет, как боец, а затем воскреснет как поэт, чтобы ее сказать.
В связи с этим облик вождя в данном тексте не только сопоставлен по типу одежд и поведения с солдатским, но скорее отодвинут от него, незаметно перекодирован в другой план. В строках «Он все мне чудится в шинели, в картузе / На чудной площади с счастливыми глазами» происходит вынужденная постановка ударения на конец слова – в картуз е (из-за рифмы с предшествующим словом «друзей»), что снижает облик монументального исполина, вырубленного из камня, до фигуры блатного предводителя. Мандельштаму был знаком блатной жаргон, а тюремные песни, по воспоминаниям Надежды Мандельштам, были одними из любимых и признаваемых среди всего «фольклора» современности [Мандельштам 1999: 213]. В связи с этим (и по многим другим основаниям) возникает сомнение в одическом характере написанной «похвалы».
Кроме того, шинель становится некоей раковиной-оболочкой (важен подчеркнутый Мандельштамом принцип скатывания шинели), в которой можно «спрятаться» от эпохи, но которая растворяет в себе без остатка. Это некий поздний вариант мандельштамовской «раковины» – временного и переносного дома для «выброшенного» из диалога с эпохой поэта:
Уходили с последним трамваем Прямо за город красноармейцы, И шинель прокричала сырая: «Мы вернемся еще – разумейте…» («Как по улицам Киева-Вия…», 1937) [Мандельштам 2009: 241]
Шинели носят и будущие творцы нового искусства – это пока что читатели «из низов», представители молодого, но быстро просвещающегося класса: «Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкиноведов – / Молодые любители белозубых стишков…» («День стоял о пяти головах», 1935). Образы молодых советских пушки- нистов (как известно, пушкинизм в любом проявлении поэт не переносил) поставлены в один ряд с сакральным для Мандельштама именем Пушкина и, кроме того, связаны с реальными событиями – это фигуры конвоиров, сопровождающих поэта в поездке к месту ссылки на Урал. Как замечает И. Е. Сурат, «здесь Пушкин <…> возникает как высшая ценность, которой поэт и хочет, и до конца не может поделиться с новым советским «племенем» <…>, отбирающим у него свободу» [Сурат 2009: 12].
Сменяемость одежд обладает особой значимостью в биографическом пространстве поэта: шуба из потрепанного енота, купленная во времена нэпа и подпаленная во время спасения мандельштамовского «угла» от пожара М. Пришвиным; кожаное желтое пальто , подаренное И. Эренбургом, в котором Мандельштам уехал в пересыльный лагерь и которое ненадолго спасало ото вшей, но не от сильных морозов и было выменяно на сахар; шинель как невоплощенная мечта о вхождении в «колхоз» новой жизни и одновременно устрашающая кровавой ценой такого пути. Обладание солдатской шинелью в этом смысле воплощало бы практичность и удобство жизни (идеальную форму покроя-покрова-дома), было бы знаком причастности (а не чуждости) современной эпохе, символом своевременности и преодоления собственного отщепенства (все это в сослагательном наклонении).
Стратегия поэта-солдата в кульминационной точке своего развития выражает осмысленность смертельного порыва, становится воздаянием за выбранное исчезновение, за небытие. Полную реализацию поведенческая линия поэта-солдата получает в тексте «Стихи о неизвестном солдате» (1937), где Мандельштам в ответе абсолютно за все: «за Лермонтова Михаила», «за воронки, за насыпи, осыпи». Именно в этом состоит ядро выбранной стратегии поведения: только поэт-солдат имеет честь умереть за , становясь одновременно и последним культурным наследником погибающего мира и поэтически «предстательствуя» за него [Шиндин 1993: 97]. Некоторая пафосность стратегии компенсируется тем, что в тексте выстраиваются образы персонажей-солдат, воплощающих не столько горделивое несение статуса, сколько его профаническую (бытовую) или литературную интерпретацию: показан низший род войск – пехота («Хорошо умирает пехота»), образы Дон-Кихота, Швейка (в подтексте – полковника Скалозуба).
Комичность высокого становится воплощением протеического характера всего мироздания. В этом ключе полного воплощения достигает метафора черепа как чаши, где пустые глазницы сравниваются с сосудом, через которые «проте- кают» войска: утрата оптического свойства глазом (и вообще утрата обоих глаз) не ведет к утрате способности наблюдать «перетекающий» мир. Череп осмысляется как сосуд – «чаша чаш» – и как некий хорошо скроенный и слаженный храм (купол). В черепе происходит «антропологическая перековка», некий «внутренний спектакль» [Вайман, Рувим], разыгранный для себя самого, где авторское «я» – это одновременно и актер, и зритель, и создатель апокалиптического действа. Заканчивается эта «сценическая» (не случайно – пятая строфа) трудно понимаемой фразой: «Чепчик счастья – Шекспира отец…».
Интересная и глубокая интерпретация этой строки предпринята в статье А. Литвиной и Ф. Успенского [Литвина, Успенский 2011], где «чепчик счастья» трактуется как фрагмент околоплодной оболочки на голове младенца, – выражение, соотносящее с русской идиомой «родиться в рубашке» и имеющее аналоги в других языках. «Чепчик» как прообраз некоего шлема включается в тексте в один костюмерный ряд с «птичьим копьем Дон-Кихота» и «рыцарской птичьей плюсной» (образы предыдущей строфы) – рыцарской перчаткой , и тогда выражение «Шекспира отец» нужно читать буквально: это отец- перчаточник Джон Шекспир, чья профессия совпадает с профессией отца Мандельштама, изготовлявшего материал для перчаток – кожу. Метонимически этот материал становится «одеждой» человеческого черепа – неким занавесом, прикрывающим апокалиптическое действо.
Все это позволяет создать единый смысловой комплекс «рыцарские (солдатские) доспехи – судьба», за счет него еще раз подчеркивается мысль Мандельштама о себе как солдате жизни , осознание его надежды на достойную – солдатскую – смерть (или его иллюзия о возможности возвращения целым и невредимым). Такая смерть становится высшим жизнетворческим актом для поэта: это попытка «обменять» человеческую жизнь на поэтическое бессмертие.
С другой стороны, развернутая через имя Шекспира картина страшного и трагического вселенского кошмара вновь «снижается» автором за счет другой аналогии к «чепчику счастья» – это «Звездным рубчиком шитый чепец ». Совмещение чепца-чепчика-черепа невольно порождает другую смысловую цепочку: трагический череп Шекспира (его Йорик) становится сублимацией чепчика-чепца, который «бросали в воздух» женщины в комедии Грибоедова «Горе от ума». Возможная в этом ключе реминисценция грибоедовского военного – полковника Скалозуба – становится крайней точкой вымирания идеи служения и осознанием иллюзорности идеи высокой смерти: «мундир, один мундир» (в речи Чацкого) транслирует возникающий далее образ
Вселенной как субстанции, равнодушной к совершающейся человеческой трагедии. Вселенная дана как оболочка – это «тара / Обаянья в пространстве пустом», которую нужно наполнить, очевидно, многочисленными смертями, чтобы придать ей смысл.
Однако равнодушие Вселенной напрасно: она погибнет, по мысли Мандельштама, вместе с человеком. Картина конца мира, проносящаяся в человеческой голове-черепе, одновременно становится и зрелищем, и гибелью для Вселенной: человек и космос связаны через образы звезд и неба-нëба, которых два – человеческое и космическое (« Оба неба с их тусклым огнем»). Непонимание этого делает Вселенную «мачехой звездного табора», где «белые звезды» принадлежат ей, а «чуть-чуть красные» звезды – человеку, причем человеческий череп – их истинный «дом». Следовательно, именно человек у Мандельштама строит Вселенную, а не наоборот.
Впервые после «Ламарка» в тексте, близком ему по основным смысловым гнездам, появляется граница не как рубеж и не Рубикон: «Впереди не провал, а промер … ». Остаток жизни столь мал, что его уже можно «промерить», исчислить, увидеть; собственное бытие осмысляется как остаток воздуха – «прожиточный» минимум, за который нужно бороться. Если прибегнуть к библейской аналогии, финал «Стихов о неизвестном солдате» становится своеобразным «молением о чаше»: Мандельштаму было знакомо состояние невыносимо медленного и постепенного приближения к гибели. Голова как чаша становится эквивалентом не пития, а пищи – «варева» эпохи. Поэтом воссоздается сюрреалистический процесс «испития чаши» (поглощения собственных образов), который на самом деле возвращает телу его утраченное содержание:
И сознанье свое затоваривая Полуобморочным бытием, Я ль без выбора пью это варево, Свою голову ем под огнем?
[Мандельштам 2009: 231]
«Поедание» головы (порожденных ею образов) уподобляется возвращению души (разума-мозга) в тело и христианскому обряду евхаристии.
В целом, весь проанализированный фрагмент реализует некий антропологический «сдвиг» – по сути, это истинная цель поэтического труда.
Антропологические процессы развоплощения (исчезновения трансцендентного «я»), переустройства телесности завершаются расширением личности до масштабов Вселенной. В этом смысле авторское «я» предстает как свернуторазвернутая модель всего мироздания. Перед смертью поэт-солдат обретает так долго искомую точку равновесия внутреннего и внешнего.
Физическое «я» соединяется не только с собственным духовным «я», ощущает себя последним, отстаивающим идеалы («за») , но теперь это «я» в ряду таких же других – одно « из» , частица родового всеединства (« рожден », а не родил ся ). Это становится завершающим, поведенчески значимым звеном в стратегии «проживания» трагической эпохи, парадокс которой состоял в том, что необходимо умереть за то, что ты Поэт и Человек.
Перекличка, заканчивающая «Стихи о неизвестном солдате», при крайней разности исследовательских трактовок [Гаспаров 1996; Сарнов 2000; Ронен 2002; Черашняя 2011], на наш взгляд, выражает не идею служения или, наоборот, противления насилию (в государственном или личностном масштабе), а место поэта – «призванного», одного из последних призванных. Принципиальное значение в этой связи имеет свидетельство Н. Я. Мандельштам о самоото-ждествлении поэта с фигурой неизвестного солдата: «Я спросила О. М.: «На что тебе сдался этот неизвестный солдат? <…> Он ответил, что, может, он сам – неизвестный солдат. Личная тема, появившаяся в последней строфе, начинается именно с неизвестного солдата» [Жизнь и творчество 1990: 294]. Настоящий художник, по мысли Мандельштама, должен иметь право умереть достойно, при этом акт смерти осмысляется как заключительное – аккордное – звено всего творчества жизни.
В ранней статье «Скрябин и христианство» (1917) поэт писал: «Я хочу говорить о смерти Скрябина как о высшем акте его творчества. Мне кажется, смерть художника не следует выключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее, заключительное звено, <…> она <…> служит как бы источником этого творчества, его телеологической причиной» [Мандельштам 2010: 35]. Автобиографический характер это заявление приобретает именно в последнем периоде творчества Мандельштама, когда соединение понятий «достойной» и «неизвестной» смерти реализует единственно возможную форму бытия поэта и человека в общем таксономическом устройстве мира.
Altai State Pedagogical Academy
Список литературы Кодекс поэта-солдата в стихотворениях О. Мандельштама 1930-х гг
- Вайман Н., Рувим М. Длинные ресницы солдата. Отрывки из эпистолярного диалога о Мандельштаме//Частный корреспондент. 2010. 2 окт. URL: http://www.chaskor.ru/article/dlinnye_resnitsy_soldata_2012 (дата обращения: 03.11.2012)
- Гаспаров М. Л. Осип Мандельштам: Гражданская лирика 1937 года. М.: РГУ, 1996. 128 с
- Герштейн Э. Мемуары. М.: Захаров, 2002. 762 с
- Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама: воспоминания, материалы к биографии, «Новые стихи», комментарии, исследования. Воронеж, 1990. 543 с
- Иванов Вяч. Вс. «Стихи о неизвестном солдате» в контексте мировой поэзии//Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама: воспоминания, материалы к биографии, «Новые стихи», комментарии, исследования. Воронеж, 1990. С. 356-366
- Кен О. Н. «Стихи о неизвестном солдате» и ожидания эпохи//Russian Studies. 1998. №4. Р. 82-101
- Кобринский А. Дуэльные истории Серебряного века: Поединки поэтов как факт литературной жизни. СПб.: Вита Нова, 2007. 446 с
- Лекманов О. «Якворобьям пойду и к репортерам…». Поздний Мандельштам: портрет на газетном фоне//Toronto Slavic Quаrterly. Книга в журнале. 2008. №25. URL: http://www.utoronto.ca/tsq/25/lekmanov25.shtml (дата обращения: 19.09.2012)
- Литвина А., Успенский Ф. Чепчик счастья: К интерпретации одного образа в «Стихах о неизвестном солдате»//Toronto Slavic Quаrterly. 2011. №35. С. 69-88
- Мандельштам О. Э. Полное собрание сочинений и писем: в 3 т./сост., подг. текста и коммент. А. Г. Меца, вступ. ст. Вяч.Вс.Иванова. М.: Прогресс-Плеяда, 2009. Т.1: Стихотворения. 808 с
- Мандельштам О. Э. Полное собрание сочинений и писем: в 3 т./сост. А. Г. Мец. М.: Прогресс-Плеяда, 2010. Т.2: Проза. 760 с
- Мандельштам Н. Я. Воспоминания. М.: Согласие, 1999. 576 с
- Мец А. Г. Осип Мандельштам и его время: Анализ текста. СПб.: Гиперион, 2005. 288 с
- Нерлер П. М. Слово и «дело» Осипа Мандельштама: книга доносов, допросов и обвинительных заключений. М.: Петровский парк, 2010. 224 с
- Новоселов В. Р. Дуэльный кодекс: теория и практика дуэли во Франции XVI века//Одиссей. Человек в истории. М.: Наука, 2001. С. 216-233
- Ронен О. Поэтика Осипа Мандельштама. СПб.: Гиперион, 2002. 240 с
- Сарнов Б. М. Последний творческий акт: Случай Мандельштама. М.: МГУ, 2000. 128 с
- Семенко И. М. Поэтика позднего Мандельштама: От черновых редакций к окончательному тексту. М.: Ваш выбор, 1997. 144 с
- Стратановский С. «Нацелясь на смерть». Об одном стихотворении О. Э. Мандельштама//Звезда. 1998. №1. С. 211-221
- Сурат И. Е. Мандельштам и Пушкин. СПб.: Пушкинский дом, 2009. 383 с
- Хазанов Б. Эрнст Юнгер, или Прелесть новизны//Вопросы литературы. 1996. Ноябрь-декабрь. С. 178-201
- Худенко Е. А. Жизнетворчество как метатекст: Мандельштам -Зощенко -Пришвин (30-40-е гг.). Барнаул: Изд-во Алтай. гос. педакадемии, 2011. 165 с
- Черашняя Д. И. Лирика Осипа Мандельштама: проблема чтения и прочтения. Ижевск: Удмурт. гос. университет, 2011. 288 с
- Шиндин С. Г. К семантике мотива Великой французской революции в художественном мире Мандельштама//Великая французская революция и пути русского освободительного движения: тез. докл. науч. конф. Тарту, 1989. С. 97-98
- Шиндин С. Г. О метатекстуальном аспекте «Стихов о неизвестном солдате» Мандельштама//Русский авангард в кругу европейской культуры. М., 1993. С. 93-100
- Шубинский В. Дуэль как жанр//Новое литературное обозрение. 2008. №91. С. 401-405