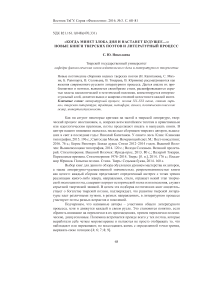"Когда минет злоба дня и настанет будущее…": новые книги тверских поэтов и литературный процесс
Автор: Николаева Светлана Юрьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
Новые поэтические сборники видных тверских поэтов (Н. Капитанова, С. Михни, Б. Рапопорта, В. Соловьева, В. Токарева, В. Юринова) рассматриваются как явления современного русского литературного процесса. Дается анализ их проблематики и поэтики, выявляется своеобразие стиля, расшифровываются скрытые пласты идеологической и эстетической полемики, комментируется интертекстуальный слой, делается вывод о жанрово-стилевой целостности каждой книги.
Литературный процесс, поэзия xx–xxi веков, "тихая лирика", тверская литература, традиции, метафора, символ, поэтическая книга как жанр, интертекстуальность
Короткий адрес: https://sciup.org/146121921
IDR: 146121921 | УДК: 821.161.1(048)(470.331)
Текст научной статьи "Когда минет злоба дня и настанет будущее…": новые книги тверских поэтов и литературный процесс
Как ни сетуют некоторые критики на застой в тверской литературе, творческий процесс неостановим, и, вопреки всем житейским тяготам и нравственным или идеологическим препонам, поэты продолжают писать и выпускать книги. В центре нашего внимания оказалось несколько сборников тверских авторов, вышедших в свет в последние годы: Николай Капитанов. У синего леса. Клин: Клинская типография, 2015. 196 с.; Святослав Михня. Вечереющий свет. М.: Вест-консалтинг, 2016. 76 с.; Борис Рапопорт. Божья дудка. Стихи 2012–2014 годов. Вышний Волочек: Вышневолоцкая типография, 2014. 120 с.; Володя Соловьев. Великий пролетарий. Стихотворения. Вышний Волочек: Ирида-прос, 2013. 80 с.; Валерий Токарев. Переходные времена. Стихотворения 1976–2014. Тверь: [б. и.], 2014. 176 с.; Владимир Юринов. Попытка поэзии. Стихи. Тверь: Седьмая буква, 2014. 160 с.
Выбор книг для данного обзора обусловлен уровнем мастерства их авторов, а также литературно-художественной значимостью, репрезентативностью книги как целого: каждый сборник представляет определенный интерес с точки зрения реализации какого-либо жанра, направления, стиля, отражает некий этап творческой эволюции поэта, содержит портрет исторической эпохи или поколения, служит серьезной творческой заявкой. В целом эта подборка поэтических книг свидетельствует о богатстве тверской поэзии, подтверждает, что развитие тверской литературы идет различными путями, в разных направлениях, в литературном процессе участвуют поэты разных возрастов и поколений.
Подчеркнем, что названные авторы – участники общего литературного процесса, хотя и движутся каждый в своем русле. Это становится понятно, если обратить внимание на переклички в их произведениях, причем переклички полемические, дискуссионные. Полемика встречается прежде всего у тех поэтов, которые выработали себе четкое мировоззрение и пытаются не просто отображать то, что наблюдают или переживают, но воссоздавать жизнь с определенной точки зрения, выражать свою позицию [4; 6; 7; 8; 9].
По крайней мере три поэта – Б. Рапопорт, В. Соловьев и Н. Капитанов – откликнулись, каждый по-своему, на знаменитую тему, в свое время разрабатывавшуюся так называемой «тихой лирикой» (к ней принадлежали Н. Рубцов, В. Соколов, Н. Тряпкин и др.). Это «русская тема», в рамках которой сложилась устойчивая топика, свой репертуар мотивов, образов, метафор, символов. Одним из наиболее ярких символов в поэзии этого направления стала «звезда полей», которую использовал Николай Рубцов в стихах о своей родине, о ее судьбе и высоком предназначении, о неразрывности пути своего лирического героя и жизни отчизны:
Звезда полей, во мгле заледенелой Остановившись, смотрит в полынью. Уж на часах двенадцать прозвенело, И сон окутал родину мою…
Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом Она горит над золотом осенним, Она горит над зимним серебром…
Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли, Своим лучом приветливым касаясь Всех городов, поднявшихся вдали.
Но только здесь, во мгле заледенелой,
Она восходит ярче и полней, И счастлив я, пока на свете белом Горит, горит звезда моих полей… [10, с. 76].
Рубцов подхватил и развил тему В. Соколова, который связал тему родины и родной земли с темой метафизического, духовного хлеба – той духовной пищи, которую человек получает только дома, с кровью и плотью, доставшимися в наследство от предков:
Звезда полей, звезда! Как искорка на сини!
Она зайдет! Тогда зайти звезде моей.
Мне нужен черный хлеб, как белый снег пустыне, Мне нужен белый хлеб для женщины твоей.
Подруга, мать, земля, ты тленью не подвластна… [11, с. 70].
Размышления Рубцова и Соколова продолжил наш современник Юрий Кузнецов, который перевел тему в историософский, полемический план: сама мысль русского человека о родине, а не о себе – это в наше время духовный подвиг, ведь «железный век», с одной стороны, делает человека прагматичным и меркантильным, а с другой – диктует опасения за судьбу отчизны. Отстаивать приходится уже не только право на хлеб, но и право на мир и свободу:
Бывает у русского в жизни
Такая минута, когда
Раздумье его об отчизне
Сияет в душе, как звезда.
Прошу у отчизны не хлеба, А воли и ясного неба.
Идти мне железным путем
И зреть, что случится потом [2, с. 68].
По словам В. А. Редькина, «в стихах Ю. Кузнецова ясно звучит тревога за судьбы планеты, за будущее России, за сохранность и жизненность национальных идеалов, за чистоту и красоту народной нравственности и эстетики. Поэзия Ю. Кузнецова глубоко конфликтна», поэт показывает, что «в мире идет непрекра-щающаяся борьба добра и зла, борьба сатанинских сил с Богом», что «понятия Неба, Солнца, Звезды несут в себе смыслы, связанные с понятиями Добра, Любви, Справедливости, Бога». В. А. Редькин считает, что по этому пути идут и тверские поэты [7, с. 100].
Вот в таком ярком контексте, который охватывает вторую половину XX века, и появились поэтические концепции тверских авторов. Одна из самых интересных – в стихотворении Б. Рапопорта «Божья коровка, полети на небо…». Здесь поэт словно бы дает комментарий к строкам В. Соколова о черном и белом хлебе, указывая на их фольклорный источник (детскую песенку о божьей коровке), затем использует реминисценцию из стихотворения Ю. Кузнецова («прошу не хлеба»), а затем возвращается к лирическому – рубцовскому в своих истоках – символу звезды-судьбы:
Слегка пощекотав ладошку,
Скатившись ягодкой с нее, Лети, лети, коровка божья, В свое высокое жнивье.
Краюшки черной или белой Ты больше мне не приноси.
Я у тебя прошу не хлеба –
Души родимой на Руси,
Такой, как у твоих подружек
Среди немереных высот,
Где ясный месяц с вами кружит
И ночью звездною пасет.
А я, готовый распрощаться
С кровинкой божьей навсегда,
Задрав башку, дрожу от счастья,
Что в небе есть моя звезда [5, с. 35].
Лирический герой этого стихотворения испытывает чувство умиротворения, теплое, радостное. Концепт «звезда полей» переосмыслен, соединен с народно-поэтическим образом божьей коровки и помещен в семантическое поле «звездные поля, мироздание, мир Божий». В центре поэтических раздумий Б. Рапопорта – человек с его интимными чувствами, глубинными надеждами и сомнениями.
Николай Капитанов данную тему раскрывает в ином русле – ближе к традиции Ю. Кузнецова. Он размышляет о судьбе всей России и всего русского народа, об исторических катаклизмах XX века, об ошибках и предательстве, которые пришлось пережить в смутные времена 1990-х.
Здесь – Россия. Дороги без края,
Под небесною ширью светлы.
И сумятица листьев сырая
Под стволом одинокой ветлы.
Наша доля – надежда больная.
Мы живем наугад, невпопад.
Заблудилась страна, как шальная,
И не знает дороги назад.
Где же свет василькового неба?
Как же нас захватили врасплох?!
Втайне молим и воли, и хлеба.
Да вот только услышит ли Бог? [1, с. 181].
Кузнецовские слова «прошу у отчизны не хлеба, а воли и ясного неба» Н. Капитанов переиначивает, делая акцент на обращении к Богу, к высшим силам, которые только и могут спасти Россию в нашу непростую эпоху.
Володя Соловьев строки В. Соколова и Ю. Кузнецова о «хлебе и небе» тоже использует и, конечно, тоже переакцентирует в стихотворении «Вышневолоцкая синагога». Здесь выражено настроение мрачной безнадежности, отчаяния, безысходности, безвременья:
Валит черные заборы
Ветер времени невнятный –
Неуютный русский город
Прячет нищенские пятна… [12, с. 71–72].
У лирического героя В. Соловьева, принадлежащего эпохе 1990-х годов и сохранившего тогдашнее мироощущение по сей день, нет ни опоры, ни надежды, ни веры, ни любви, он наблюдает только «вырожденье», «безбожье», от которых не спасает даже «вечный завет»:
Листья вечного завета
По воде вышневолоцкой <…>
Ты какого бога, ребе,
На земле российской ищешь? <…>
Людям вечно не хватает
То ли хлеба, то ли неба. <…>
В нашей сумрачной отчизне
К смерти быстро привыкают… [Там же, с. 71]
Люди не сумели сохранить «вечный завет», заблудились, оказались в мрачной ветхозаветной атмосфере утраты родины и родных корней, стали вечными ски-тальцами-«грачами», которые никак не могут обрести новое гнездовье.
Интонация раздражения против народных исканий «хлеба и неба» в книге В. Соловьева сочетается с глубоким скепсисом лирического героя по поводу традиционных русских идеологических, духовных, в том числе поэтических, ценностей:
Долго ль будем оплакивать мы
Государство, почившее в бозе?
Не избавит нас снег от сумы,
Не согреет звезда на морозе… [Там же, с. 59]
Это явный полемический выпад и против рубцовской «звезды полей», которая дает надежду в самой безнадежной ситуации (но не греет лирического героя Соловьева), и против знаменитого лейтмотива «снега», который у В. Соколова символизировал все русское (а у Соловьева оказывается бесполезным, отнюдь не обеспечивающим благосостояние, это символ тления, уничтожения и ничтожества). Крах прежней идеологии, искусственное разрушение великой страны, поражение нашего государства в борьбе за достойное место в мире, предательство элиты и ее подчинение мировым глобалистским силам – все это гнетет душу героя В. Соловьева, заставляет его усомниться в истинности идеалов предшествующей эпохи, старой веры, но и новых идеалов он обрести не может. Что толку воспевать «русский снег» и «русскую звезду», если звезда закатилась, а снег растаял: «Эка невидаль! – растает / Под ногой немного снега». Лирическому герою Соловьева «снег на сердце давит». Любопытно, что мотив уничтожения снега приобретает у В. Соловьева философское значение и самостоятельно звучит в стихотворении «Снег убирают…»: «Последний снег – / дурной, растленный, / Ничтожный снег – / кому он нужен? <…> Обрюзг, и сел, / и потемнел он…» [Там же, с. 76].
Это стихотворение завершает книгу и тем самым как бы ставит точку в развитии темы: растаявший снег – это конец русского мира, тем более что на протяжении всего сборника так и звучало: «Вечный покой тебе, русская тема».
Интересно, что у Н. Капитанова есть стихотворение, написанное «в духе» Ю. Кузнецова и прямо оспаривающее выводы В. Соловьева о закатившейся русской звезде. Героя Н. Капитанова в какой-то момент «шатнуло» от звезды, «под которой родился», но он вовремя спохватился, вернулся к своим истокам:
И метнулся обратно к судьбе, Что у края дороги стояла.
Вспомнил он о родимой избе – И звезда его вновь засияла [1, с. 88].
Итак, темы и мотивы, связанные с философским пониманием российской истории и своеобразия «русского пути», намеченные «тихой лирикой» в 1960– 1970-е гг., получают необычную трактовку у тверских поэтов в новых исторических условиях, при воссоздании мировосприятия, перестроечного и послеперестроечно-го, нынешнего поколения. При этом настроение лирического героя варьируется от глубокого пессимизма до надежды на возрождение России.
Названные в начале нашего обзора авторы образуют своеобразный ансамбль еще и с той точки зрения, что в большинстве своем глубоко социальны либо стремятся к социальному анализу. Выходить за пределы интимной лирики на широкий простор жизни общества, откликаться на жгучие вопросы истории и современности, иметь свой взгляд на текущую действительность и в своей творческой лаборатории создавать ее поэтический эквивалент – это удел настоящих, смелых художников слова. Такие художники, говоря словами Достоевского, обладают «тоской по текущему».
В частности, Б. Рапопорт прямо указал в подзаголовке своего сборника, что включил в него стихотворения 2012–2014 годов. Такая привязка к эпохе не случайна: в сборнике действительно есть элементы политической хроники, автор чутко улавливает настроения и идеи, которые витают в воздухе и сопровождают страшные события нашего времени. Прежде всего речь идет о разрыве внутриславянских связей, о тех последствиях, которые повлек за собой Беловежский мезальянс уже в наши дни. «Славянские стансы», «Семейная сага. Письмо на родину» – эти и другие стихотворения содержат анализ событий на Украине, в Донецке, Луганске, Одессе. Поэт воспринимает эти события как трагедию и прекрасно понимает предысторию этой трагедии: «Украину схоронили / и Россию поховали / в повилике и пыли»; «Украйна, что нога у инвалида, / болит, хотя отрезана давно»; «Компьютерные дети, вас все пуще / икота мучит Беловежской пущи». Распад славянского единства заставляет поэта вспомнить времена «Слова о полку Игореве», когда княжеские междоусобицы губили Русь, отсюда цитата: «О Русская земля, ты за холмом!» [5, с. 87]
Автор этих стихов прекрасно понимает, что такое обыкновенный фашизм, вновь напомнивший о себе не только тогда, «Когда на Майдане запахло Майдане-ком», но и в интеллигентских кухонных разговорах бессмертной «пятой колонны», не умолкнувших даже в юбилей Победы: «Ах, какими мы были глупыми: / забросали фашистов трупами, / заморозили вражью рать. / Упустили цивильное счастье-то, / а могли из бутылок со свастикой / мировое пивко попивать!» («Баварское пиво») [Там же, с. 19].
В. Токарев и Н. Капитанов более тяготеют к эпичности, широте охвата действительности, они в своих сборниках дают панораму духовной жизни России нескольких итоговых десятилетий XX и начала XXI века, но если у Токарева наряду с деревенской темой довольно много городских мотивов, то у Капитанова больше речь идет о судьбе деревенской Руси. Можно сказать, что лирический герой Токарева, выросший в деревне у бабушки, прижился и обжился в городе, приспособился к благам цивилизации и даже на «ты» с интернетом («Город», «Реанимация», «Научная сотрудница», «Чудеса квантовой механики»), тогда как герой Капитанова когда-то в юности ушел из деревни на поиски своей судьбы и счастья, но горожанином так и не стал – стал бродячим философом («Вошел в вагон – и уже не принадлежишь…», «Провожаю Сашку на велосипеде…», «Когда-то свист электрички…», «Постучусь, как зябнущая птица…», «На ночном вокзале», «Поезд лязгнул и встал…»).
Лейтмотивом в книге В. Токарева «Переходные времена», на котором держится ее смысловое единство, стало понятие «свобода». Оно многократно варьирует свое значение от зачина к концу сборника. Не случайно сборник начинается стихотворением «Слово и дело», в котором дается экскурс во времена Ивана Грозного и даже Византии. Лирическому герою кажется, будто во все исторические эпохи в России было мало свободы: то «византийские боги» мешали, то опричнина, то царская и советская цензура. То ли дело, если бы царь заменил «крамолу» на «свободу» [13, с. 5]!
Но вместе с тем поэт признает, что в России «воля в степи» (как у А.С. Хомякова – «степей кочующая воля»), то есть русский народный характер стихийно свободолюбив, и это свободолюбие может проявиться по-разному. В одной из записных книжек А.П. Чехова есть высказывание о том, что российская интеллигенция много рассуждает о свободе, но если получит свободу, то не будет знать, что с нею делать. Вот и в книге Токарева с точки зрения среднего российского интеллигента показаны разные лики свободы – чаще всего своеволия и вседозволенности. Например, когда «смутные страна проходит годы», свобода может обернуться всплеском наркомании («Базарная площадь»), вытеснением родного языка воровским жаргоном («Феня тоже ведь язык свободы, / Без нее свобода не полна», – «Блатная музыка»), нуждой и нищетой («Родина свободу объявила, / А пришла бескормица – зима», – «Три сороки»), «ураганом чистогана» («Лирики и физики»), заменой жизни подлинной, реальной на жизнь виртуальную – в «океане с электронными водами, / Где и нечисть, и честь, / Что зовется свободою» («Кликать славу на сервере…»), «междоусобным княжеским разгулом» («Тохтамыш»), властью «мародеров от свободы» («Родина»), «лаем одичавшего калаша», смесью феодализма с капитализмом («Феодальные капиталы. / Капитальные феодалы. / Кто ж попрет против их рожна?», – «Переходные времена») [Там же, с. 14, 24, 28, 147, 45, 69, 41].
Всей этой мнимой свободе противостоит герой Токарева, в душе которого все же сохраняется истинный «свободы ток», чувство собственного достоинства, вера в свое родное, кровное («Слово», «Мастер», «Валдай», «Илья Пророк», «Родина», «Реликтовая сосна», «Дворняга», «Паренек», «Бабушка», «Рябина под окном», «Рябина тети Нюры», «Хлеб учительский»). Поэт верит, что «Не для распада Россия была создана», что нашу Родину можно и нужно сохранить для будущих поколений [Там же, с. 69].
Вместе с тем историческая концепция Токарева представляется противоречивой. Если в начале книги он сетовал на «исторически обусловленный» недостаток свободы, то в итоге признал, что вроде бы обретенная в конце XX века свобода, которую так долго ждали, оказалась фальсифицированной, обманула лирического героя книги. Молодость его поколения, которая пришлась на эпоху споров «физиков и лириков», то есть на период «стагнирующего социализма», как раз и познала истинную свободу – свободу творчества, саморазвития личности, свободу и воплощение надежд, поэтому автор обращается к своему поколению с признанием: «И все же годы те / Звучат для нас с тобою камертоном» («Ровеснику») [Там же, с. 149].
В судьбе лирического героя Н. Капитанова отразилась судьба целого поколения. Если поколение В. Токарева вовремя не оценило (не почувствовало) того, что все же ему была дана настоящая свобода, которая оказалась бездумно утраченной им, то у Капитанова лирический герой и вовсе упустил свое счастье:
Сойду с дороги и на камень сяду.
И долго буду думать о былом.
Что дал Господь мне родину в награду, И землю ту, и небо над селом. <…> Ведь было счастья дадено так много!
А я все это по ветру пустил [1, с. 5].
И если в книге В. Токарева движение внутреннего поэтического сюжета направлено от стихов политизированных, яростно-критических, остросоциальных к «тихим», проникновенным, лиричным, утонченно-психологическим, то Н. Капитанов использует иную композицию: сначала он последовательно показывает духовный путь своего героя – уход из дома, скитания, неоднократные возвращения домой, встречи и расставания, осознание истинных ценностей в конце пути – и лишь в конце книги приходит к мысли о том, что в гибели русской деревни так или иначе виновато именно его поколение. Более того: катаклизмы, которые ныне сотрясают Россию и все мироздание, – прямое следствие тех катастрофических процессов. Умерла деревня, ослабела Россия – и вот теперь нужно заново защищать державу, возрождать веру и Отечество. Поэтому Н. Капитанов и завершает свою книгу рядом социально-политических сюжетов, призывая современников к гражданской активности.
Книга В. Соловьева «Великий пролетарий» воспринимается как документ эпохи – нравственно-психологический портрет некоторой части российской интеллигенции «лихих» 1990-х гг. Сама тема не нова, но привлекает внимание последо- вательность авторской позиции, использованная система мотивов и образов и яркий идиостиль, с помощью которых Соловьев создает мрачную картину российской действительности.
Используя местоимение «мы», автор дает нелицеприятную характеристику своему поколению: «Да, крысы мы! <…> Но крысы к покаянью не привыкли…»; «Мы <…> Безгласные калеки!»; «Мы – кастраты, гашеная известь / На бессмысленных стройках страны»; «Мы питаемся чувством вины»; «Млечный путь – и небес молоко / Нам единственный путь отравляет»; «Мы летим, проклиная свой род» [12, с. 45–62].
Символическим образом лучшей части своего поколения, способной «с пути не сбиться» и ищущей «божий дух», Соловьев делает грача (стаю грачей). Ему он сочувствует и симпатизирует. Соловьев использует «народную этимологию»: поскольку грач – птица кочующая, перелетная, постольку он в этой стране временный наблюдатель, пролетающий где-то «над землей высоко»: «Грач – великий пролетарий / Над российскою землею». Грач зорко видит все неурядицы и нестроения в России: «Ни присесть, / Ни подкормиться, / Заорать – и то не вправе: / Угораздило ж быть птицей / В этой чертовой державе!» [Там же, с. 44].
Самосознание у грача развитое, ценит он себя высоко, не случайно автор перефразирует знаменитые слова из письма Пушкина: «Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом!» Но реплика Пушкина возникла в остром идеологическом и творческом споре, в борьбе с цензурой и «светской чернью», тогда как герой Соловьева сетует на бескормицу и бесприютность в той стране, которую он осчастливил своим «пролетарием». Не смогла Россия прокормить всех грачей так, как им того хотелось бы.
Впрочем, поэт изначально обозначает позицию своих «грачей». В стихотворении «Был ноябрь» показан эпизод из русской истории: царь приглашает к себе на службу иноземцев, а они посмеиваются над дикой страной, «Где ни правды, ни судей, / Ни судьбы человеческой нет», и мечтают лишь обогатиться: «Каждый думал о службе в России / И никто – о служении ей» [Там же, с. 82]. Что ж, по крайней мере честно!
Интересно, что В. Юринов в сборнике «Попытка поэзии» тоже создает образ россиян как некоего «бестолкового племени», кочующего по миру в поисках места, где можно осесть, и убежденного: «Хорошо – где нас нет». Побывало это племя в Палестине и Египте, освоило Древний Рим и Византию, их «крайняя», как говорят летчики, остановка, или «гнездовье» (если вспомнить выражение Володи Соловьева), – это Россия. Но, конечно, здесь «в туалетах – разруха», поэтому племя вновь возмечтало о смене дислокации, однако лирический герой мудро увещевает соплеменников (нарушая, к сожалению, русский синтаксис и метрику):
Может, хватит искать – где теплей, где бы снова осесть?
Может, время пришло – не в дорогу опять собираться,
А делать там хорошо, где нам жить, где нам есть, где мы есть?.. [15, с. 114].
Стихотворение это называется «Версия» и помещено в раздел «Попытка третья. Ироническая». Ирония автора обращена на современных россиян, среди которых поэт не хочет видеть представителей коренного русского народа, а видит только потомков кочевого племени и даже говорит с ними на каком-то странном диалекте. Это племя уже разрушило два Рима, третий Рим – Россия – чудом еще сохраняется, а четвертому не бывать! Россия – это место, «где нам есть», так давайте же «делать там хорошо»!
Так и Володя Соловьев в своем сборнике изображает иноземцев на российском поприще, но почему-то не показывает русский народ. А если и показывает, то только тенденциозно: «обозленные русские люди», матерясь, невоспитанно плюют вслед заморским гостям либо, несмотря на все труды и тяготы жизни, «Все так же решают / Еврейский вопрос / Лошадки, / Везущие хворосту воз» [12, с. 65].
Думается, содержание и сущность жизни русского человека, труженика и страдальца, ни Некрасов, ни другие поэты не сводили к «решению еврейского вопроса». Ни толстовский «Холстомер», ни чеховские «лошадки» в «Горе» и «Тоске», ни болезненный сон Раскольникова о несчастной лошади не касаются этого вопроса. Солженицын же, к которому обращается В. Соловьев в стихотворении «Вермонтский отшельник», действительно, много и специально размышлял над этим «вопросом». Однако стоит вспомнить, что он не был «лошадкой», а принадлежал к слою интеллигенции, которая не смогла стать духовным вожатым для народа в период разгула «свободы». Мироощущение простого русского человека в XX веке более верно выразил Маяковский: «Каждый из нас по-своему лошадь… Стоило жить и работать стоило».
Страна, в которой волею судеб оказалось в данную историческую эпоху поколение «великих пролетариев» Соловьева, тоже ненавистна герою и показана черными красками: «Россия – родина беды»; «ненавистные с детства края»; «Здесь каждое поле / Засеяно ложью, / Здесь головы лучших / Бросают к подножью, / И утром собаки / Находят в крапиве / Младенцев, / Созревших / На импортном пиве»; «Темный снег и безнадега»; «Господи, как темно / В самой большой из стран»; «Вековая усталость / Охватила страну»; «У нас тут все по-старому – / Воруют, / В делах разлад…»; «Украшены портретами колонны. / Обгажены наградами мундиры»; «В нашей сумрачной отчизне / К смерти быстро привыкают…»; «Души скомканы, / Дом расхристан»; «Разрушается старый дом»; «Это страна, как льдина, / Колется в океане». Россия съеживается, как шагреневая кожа, уменьшается до размеров крошечного переулка, русские просторы становятся тесными: «Россия – улица – проулок…» [Там же, с. 11, 49, 64–65, 74].
И в прошлом, и в настоящем, и в будущем нет в России ничего, что стоило бы любить «великому пролетарию»: лодка брошена хозяином и лежит на берегу, как мертвая чайка («Удомельская лодка»), картошка напоминает лишь о военном лихолетье и горчит («Горькая картошка»), старики доживают век в приюте («Дом престарелых»), участница «трудового фронта» так и не познала в жизни счастья («Трудовая повинность»), встречая Светлый праздник, люди понимают одно: «жизнь не состоялась» («Пасха»), сын к матери возвращается из Афгана в цинковом гробу («Последний рейс»).
«Нигилятина» – этим словечком Достоевского следует охарактеризовать позицию Соловьева (или же его лирического героя). Отрицание всего и вся, чернуха, которая лишает человека желания жить, «отсасывает у человека крылья». Возможно, в начале «лихих девяностых» такое настроение могло возникнуть на какой-то момент, но в более широком историческом контексте такая точка зрения не выглядит правдой. Река народной жизни не стоит на месте, она течет вперед и несет в себе надежду на будущее.
Точка зрения Володи Соловьева довольно широко распространена и часто звучала в прошлом и повторяется сейчас. Бывают странные сближения: Л. Н. Толстой, читая труд ректора Московского университета С. М. Соловьева, заметил в дневнике 1870 г.: «Читаю историю Соловьева. Все, по истории этой, было безобра- зие в допетровской России: жестокость, грабеж, правеж, грубость, глупость, неуменье ничего сделать. Правительство стало исправлять. И правительство это такое же безобразное до нашего времени. Читаешь эту историю и невольно приходишь к заключению, что рядом безобразий совершилась история России. Но как же так ряд безобразий произвели великое, единое государство? <…> Но кроме того, читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли (только об этом и речь в истории), невольно приходишь к вопросу: что грабили и разоряли? А от этого вопроса к другому: кто производил то, что разоряли? Кто и как кормил хлебом весь этот народ? Кто делал парчи, сукна, платья, камки, в которых щеголяли цари и бояре? Кто ловил черных лисиц и соболей, которыми дарили послов, кто добывал золото и железо, кто выводил лошадей, быков, баранов, кто строил дома, дворцы, церкви, кто перевозил товары? Кто воспитывал и рожал этих людей единого корня? Кто блюл святыню религиозную, поэзию народную, кто сделал, что Богдан Хмельницкий передался России, а не Турции и Польше? Народ живет, и в числе отправлений народной жизни есть необходимость людей разоряющих, грабящих, роскошествующих и куражащихся. И это правители – несчастные, долженствующие отречься от всего человеческого» [14, с. 264–265].
Но Володя Соловьев не пишет о правителях (за исключением М. Горбачева, которого защищает от «крыс перестройки» [12, с. 45], он налагает ярлык никчемности чохом на всю страну. Ведь для того, чтобы описать жизнь народа, по словам Л. Толстого, «Нужно знание всех подробностей жизни, нужно искусство – дар художественности, нужна любовь». Но ни искусством, ни любовью не наделен поэт Володя Соловьев. Его стихами подтверждается справедливость слов Л. Толстого: «Любви нет и не нужно, говорят. Напротив, нужно доказывать прогресс, что прежде все было хуже» [14, с. 264–265].
-
В. Токарев в стихотворении «Русские споры при свечах» [13, с. 80] с умилением вспомнил молодого П. Я. Чаадаева. В его книге это имя было связано с темой свободы, обретаемой Россией на протяжении XIX–XX веков. В. Соловьев реализовал в своей книге «чаадаевщину» в самом мрачном ее изводе: его лирический герой – западник, уверенный в том, что у России нет будущего, Россия может служить лишь отрицательным примером для просвещенной Европы (и даже в стихотворении «Сверчок», говоря о Пушкине, уверяет, что «пуля не дура», ибо пророчества Пушкина привели к самым негативным последствиям для Отечества).
Поэзия Соловьева перекликается не только со стихами Токарева, но и с книгой Капитанова. В частности, Соловьев и Капитанов разрабатывают сюжет о событиях 1993 г. в Москве (расстрел Парламента). В стихотворении «Участник событий», написанном по горячим следам, Соловьев показывает «как все было» глазами провинциала, приехавшего в столицу за «чаем и солью» и ненароком оказавшегося распластанным на мостовой рядом с танковой колонной. Дистанция слишком близкая, «лицом к лицу лица не увидать», видны только гусеницы и броня, да еще иностранный журналист-папарацци, и герой Соловьева не улавливает страшной сути происходящего, не пытается противостоять лжи и обману народа, просто спасает себя и свои покупки, да еще и посмеивается над своей «совковостью»: «И я в позиции верблюда / лежу – советский человек» [12, с. 57].
-
Н. Капитанов написал стихотворение «3 октября» через двадцать лет после этой русской трагедии и избежал бытописательства и натурализма. Он попытался выразить историческую суть того «черного года», повернувшего ход истории России вспять, против реки народной жизни. Поэт утверждает, что правда о том време-
- ни постепенно открывается, осознается нашими современниками и на стороне этой правды сам Бог:
А колос правды – он уже пророс.
Так, значит, жди святого Воскресенья. И чашу даст нам, каждому, Христос, Но никому не будет утоленья [1, с. 190].
Обращаясь к социальной проблематике, к «злобе дня», тверские поэты так или иначе трактуют и тему будущего России, обращаются к «вечным ценностям» и создают целостные концепции. Лишь один из перечисленных в начале данной статьи авторов не смог создать такую – целостную, завершенную – концепцию. С. Михня в книге «Вечереющий свет» пытается создать себе имидж поэта-философа, размышляющего о жизни и смерти: «На космическом ветру / Стыть тебе и мне. / Ты умрешь, и я умру / ни по чьей вине» [3, с. 55]. Размышления автора довольно абстрактны, хотя и не лишены некоторого тревожного обаяния, подчас задевают читателя за живое. Но философия С. Михни вторична, если не сказать банальна. Все тщетно, все суета сует и всяческая суета: и «набеги татарвы», и «костры Ивана Грозного», и «Сусанин с поляками». Звезды-то все равно светят даже в этой «беспамятной, отмороженной стране» – им «хоть бы хны». «Пустырь мировой» – временное пристанище человечества. Но тогда зачем С. Михня и книжку-то свою писал, если про тщету и суету Экклезиаст уже все поведал тысячи лет назад? Ведь ничего нового сказать ему не удалось!
Зато начинается сборник «программным» стихотворением, которое представляет собой коллекцию штампов современной публицистики: «Блокада Ленинграда», «люди-людоеды» (услышал-таки выступление Д. Гранина!), «рояль меняют на собак», Хиросима, Холокост, «мрак над сталинской Москвой», «огонечек Люцифера» [Там же, с. 5]. Вся эта «злоба дня», лики «ветреной, беспамятной, отмороженной страны» якобы не дают покоя лирическому герою, мучают его, даже если он «накроется одеялом с головой». (Заметим, «злоба» «злобе» рознь: Хиросима и Холокост С. Михню волнуют, а нынешние Киев и Одесса, корректировщица огня с позитивным именем Надежда Савченко и наш летчик, расстрелянный в сирийском небе, Болотная площадь или самолет над Синаем, не говоря уже о «Курске», о трагедии 1993 года, о многом другом – вовсе нет, новый «пепел Клааса» не стучит в его сердце…)
На самом деле в самом сборнике ни один из перечисленных трендов-брендов не находит продолжения и развития. Автор и не знает-то о них ничего, кроме приведенных ключевых слов-знаков. Семиотика этих знаков вполне понятна, коммуникативный замысел автора прост: написал про «мрак над сталинской Москвой» – и можешь быть уверен, что тебя заметят те, кому надо, признают своим те, кто тебе нужен. Может быть, даже премию дадут. А изучать сложнейшие и неоднозначные проблемы, чтобы сделать свои произведения и выводы весомыми, обоснованными – задача непосильная для автора данного сборника.
Валентностью в литературном процессе обладают не только принципы художественной историософии (наши авторы так или иначе связаны с наследием «тихой лирики») и приемы типизации в ходе социального анализа (в этом плане они близки к Достоевскому с его «тоской по текущему»), но и способы освоения «чужого слова», особенности интертекста. И с этой точки зрения среди рассматриваемых поэтических сборников выделяется книга Б. Рапопорта. Многие современные поэты в поисках тем и сюжетов обращаются не к жизни, а к литературе и тем самым обрекают себя на вторичность, литературщину, словесную игру, перепев чужого. Б. Рапопорт работает с прецедентными текстами очень деликатно, вдумчиво, использует их как аргумент в собственных построениях и концепциях.
Например, Рапопорт создает целый ряд вариаций на тему Христа из поэмы Блока «Двенадцать» («Не веришь ни в Бога, ни в черта…», – «Сугробы»), варьирует чеховскую тему («Вишневый сад»), рассказывает о знаменитом семействе Ахматовой и Гумилевых («Слепнево»), использует гоголевские мотивы («Птица-тройка»), цитирует Лермонтова, Державина, Катулла, Гомера. И при этом остается самим собой – поэтом, которому есть что сказать современному читателю. Сказать о Боге, об отце и матери, о родине, о мужчине и женщине, об Адаме и Еве, о взаимоотношениях народов, о войне и мире.
Если реминисценции и цитаты в контексте стихотворений Рапопорта прочитываются и расшифровываются легко, то в поэзии Н. Капитанова они очень «заглублены», растворены, почти незаметны. Кажется, что все у этого поэта продиктовано только личным опытом, но нет: он часто апеллирует к опыту других писателей и поэтов, чем усиливает смысловое значение своих образов. Например, покидая деревню, жители заколачивают досками окна, и поэт придает этому частному бытовому факту обобщающий смысл: «Забивают бревенчатый дом – / сотрясается все мирозданье» [1, с. 76]. Глубокий подтекст в данном случае – явная дань чеховской традиции (не случайно среди стихотворений Н. Капитанова есть и такое, которое напоминает о «Вишневом саде», – «За оградой осыпалась вишня…»). В собственном поэтическом словаре Н. Капитанова можно встретить и отголоски стихов С. Есенина, Н. Тряпкина, Н. Рубцова.
Плотность «литературного слоя» очень высока в книге В. Юринова. «Станционный смотритель», «Гамлет», «Тонет зал в многошепотном шуме…» – довольно искусные вариации на темы Пушкина и Пастернака, «Полдневный путь», «Время – вещь необычайно длинная…», «Стрельбище» – стихотворения по мотивам поэзии Маяковского, и далее очень-очень узнаваемое: «Фирс», «Читая Бродского», «Баллада о Гавриле».
Когда поэт идет не от жизни, а от литературы, он должен вернуться к жизни или сказать что-то новое, свежее, неизбитое. Насколько это удается В. Юринову? «То кони скачут, то изба горит…» [15, с. 58] – это совсем уж ученический перепев знаменитого высказывания Наума Коржавина: «А кони все скачут и скачут, / А избы горят и горят». «Скалит зубы на сцене рояль» [Там же, с. 69] – слабое подражание пастернаковскому «Рояль дрожащий пену с губ оближет». «Гамлет» – сетования о судьбе героя – «совести эпохи» (намек на Высоцкого в роли Гамлета), упреки «веку многоколесному» и «бессовестным нам» [Там же, с. 77]. Пастернаковское «воздух пахнет смертью» точнее, лаконичнее и, присутствуя в подтексте стихотворения В. Юринова, уничтожает всю значимость его многословного и тяжеловесного сочинения.
«Полдневный путь» – полемика с героем Маяковского и с его лозунгом «светить всегда, светить везде». Причем стиль Маяковского у В. Юринова пародируется и снижается до просторечия: «Все повторял: светить, светить! / Тащил свой воз с терпеньем мула. / И где он, мать-его-итить?! / Не лег в теньке – так лег на дуло! <…> И я сказал: “Какого хрена!..”» [Там же, с. 83].
Завершается стихотворение подчеркнутой звуковой игрой, которая не имеет никакого смыслового наполнения (июльская жара в сочетании с весенним небом становится оксюмороном) и нужна автору, чтобы хоть как-то завершить свой текст: «Светясь весенней синевой, / Над весями висели выси…» [Там же, с. 84].
«Фирс» – это очень подробный пересказ сюжета чеховской пьесы, перечисление основных мотивов-символов «Вишневого сада». Концовка звучит очень ожидаемо: «И стучат топоры по России» [Там же, с. 95]. Вторичность налицо. Гораздо более выразительно и глубоко интерпретирует этот сюжет Б. Рапопорт в стихотворении «Вишневый сад», проецируя чеховские образы на современность, на связь столицы и провинции, показывая сегодняшнюю Москву, Садовую-Сухаревскую улицу, Вышний Волочек и Цну, поэт делает самостоятельный, не вторичный вывод: «Немногие помнят, откуда пришли» [5, с. 31].
Пожалуй, наиболее убедительным выглядит стихотворение В. Юринова «Станционный смотритель» [15, с. 75]. Здесь воссоздан трогательный образ человека долга, какого еще можно встретить на Руси, хотя станционных смотрителей (путевых обходчиков) извели лет 20–25 тому назад. Но вот недавно терпящий бедствие самолет совершил посадку на заброшенном глухом аэродроме, где посадочная полоса сохранилась лишь благодаря бескорыстным и смешным, может быть, усилиям такого вот «смотрителя». Пушкинское умиление перед нравственными достоинствами «маленького человека» В. Юринов повторил применительно к нашему времени. Жаль только, что поэт, рассказывая о жизненном подвиге своего героя, щеголяет «умными» словами: «вполне адекватен», «атрофийный отросток… рокадной дороги» [Там же, с. 75]. Иноязычная лексика, терминология в данном случае ничего не добавляет к смыслу стихотворения.
Итак, новые книги тверских поэтов тесно связаны с предшествующей и современной литературой и являются заметными событиями литературной жизни, значимыми факторами литературного процесса.
Список литературы "Когда минет злоба дня и настанет будущее…": новые книги тверских поэтов и литературный процесс
- Капитанов Н. У синего леса. Клин: Клинская типография, 2015. 196 с.
- Кузнецов Ю. П. Стихи. М.: Сов. Россия, 1978. 224 с.
- Михня С. Вечереющий свет. М.: Вест-консалтинг, 2016. 76 с.
- Николаева С. Ю. Древнерусские памятники в литературном процессе (от Г. Р. Державина до Ю. П. Кузнецова): монография. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2010. 252 с.
- Рапопорт Б. Божья дудка: Стихи 2012-2014 годов. Вышний Волочек: Вышневолоцкая типография, 2014. 120 с.
- Редькин В. А. «Былинное поле» А. Ганина как мифологическая поэма//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2007. Вып. 28 (56). С. 45-53.
- Редькин В. А. Наследие Ю. Кузнецова в творчестве тверских поэтов//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2015. № 1. С. 93-101.
- Редькин В. А. Онтологические проблемы в творчестве Сергея Есенина//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2007. Вып. 14. С. 52-57.
- Редькин В. А. «Русская идея» Юрия Кузнецова//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2004. № 2 (4). Вып. 1. С. 48-68.
- Рубцов Н. Видения на холме. М.: Сов. Россия, 1990. 400 с.
- Соколов В. Белые ветки России: Стихотворения. Поэмы. М.: Русская книга, 2000. 416 с.
- Соловьев В. Великий пролетарий: Стихотворения. Вышний Волочек: Ирида-прос, 2013. 80 с.
- Токарев В. Переходные времена: Стихотворения 1976-2014. Тверь: , 2014. 176 с.
- Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. Т. 21: Дневники 1847-1894. М.: Худож. лит., 1984. 648 с.
- Юринов В. Попытка поэзии: Стихи. Тверь: Седьмая буква, 2014. 160 с.