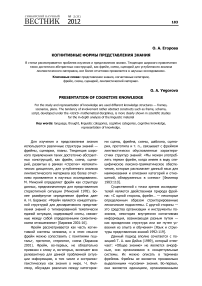Когнитивные формы представления знания
Автор: Егорова Ольга Аркадьевна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 2 (8), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема изучения и представления знания. Тенденция широкого привлечения таких достаточно абстрактных конструкций, как фрейм, схема, сценарий для углубленного анализа лингвистического материала, все более отчетливо проявляется в научных исследованиях.
Представление знания, когнитивные категории, фрейм, схема, сценарий, лингвистический материал
Короткий адрес: https://sciup.org/14113650
IDR: 14113650
Текст научной статьи Когнитивные формы представления знания
Для изучения и представления знания используются различные структуры знаний — фреймы, сценарии, планы. Тенденция широкого привлечения таких достаточно абстрактных конструкций, как фрейм, схема, сценарий, развитых в рамках «строгих» математических дисциплин, для углубленного анализа лингвистического материала все более отчетливо проявляется в научных исследованиях. М. Минский определяет фрейм как структуру данных, предназначенную для представления стереотипной ситуации (Минский 1978). Более развёрнутое определение фрейма дает А. Н. Баранов: «Фрейм является концептуальной структурой для декларативного представления знаний о типизированной тематически единой ситуации, содержащей слоты, связанные между собой определенными семантическими отношениями» [Баранов 2001:16].
Фрейм рассматривается как часть когнитивной системы человека, и в этом смысле фрейм можно сопоставить с понятиями гештальт, прототип, стереотип, схема (Баранов 2001). Фрейм, во-первых, не обязательно привязан к слову и, во-вторых, включает всю релевантную для данной проблемной ситуации информацию, в том числе и экстралин-гвистическую как знания о мире. Ч. Филлмор, обсуждая различия между категория- ми сцены, фрейма, схемы, шаблона, сценария, прототипа и т. п., связывает с фреймом лингвистически обусловленные характеристики структур знаний: «Мы можем употреблять термин фрейм, когда имеем в виду специфическое лексико-грамматическое обеспечение, которым располагает данный язык для наименования и описания категорий и отношений, обнаруженных в схемах» [Филлмор 1983:110].
Существенной с точки зрения исследователей является двойственная природа фрейма: «С одной стороны, фрейм… — некоторые определенным образом структурированные лексические подсистемы. С другой стороны — это средства организации и инструменты познания, некоторая внутренняя когнитивная информация, возникающая разным путем — как врожденная структура или же путем усвоения из опыта и обучения» [Язык и структуры представления знаний 1992:119].
Данный подход вполне сочетается с позицией Т. А. ван Дейка (1989), который отмечает: «Общее знание» не является аморфным, оно организовано в концептуальные системы. Их можно описать в терминах фреймов. Фреймы не являются произвольно выделенными «кусками» знания. Во-первых, они являются единицами, организованными
«вокруг» некоторого концепта. Но и в противоположность простому набору ассоциаций эти единицы содержат основную, типическую и потенциально возможную информацию, которая ассоциирована с тем или иным концептом. Кроме того, не исключено, что фреймы имеют более или менее конвенциональную природу и поэтому могут определять и описывать, что в данном обществе является «характерным» или «типичным». В нашей работе мы придерживаемся этой точки зрения.
Термин Т. А. ван Дейка «когнитивная модель» отражает положение концептуального пространства предметной области, которое находится между реальным пространством и тезаурусом личности. Мы считаем, что личностный тезаурус как система взаимосвязанных семантических образов реальности может рассматриваться в качестве личностного уровня когнитивной модели мира. В то же время знания, представленные в когнитивной модели мира, имеют не абсолютный характер, а отражают личностные мнения, позиции, установки, предпочтения.
Различные ученые по-разному подходят к изучению систем семантических образов. Так, А. Н. Леонтьев применяет термин «семантические пространства», Ф. Джонсон-Лэйрд — «ментальные модели», М. Минский — «фреймы», Р. Шенк и Р. Абельсон — «сценарии», Т. А. ван Дейк — «модели ситуаций и когнитивные модели».
По мнению Т. А. ван Дейка (1989), в основе ситуационных моделей лежат не абстрактные знания о стереотипных событиях и ситуациях, как в ментальных моделях, сценариях и фреймах, а личностные знания носителей языка, аккумулирующие их предшествовавший индивидуальный опыт, установки и намерения, чувства и эмоции. Эти схемы наполняются конкретной информацией в различных коммуникативных актах. Помимо таких когнитивных феноменов, как представления, желания, предпочтения, нормы и оценки, велика также роль конвенционального знания. Его можно считать основным (и к тому же социальным по своему характеру) фактором, определяющим функционирование других систем, обеспечивающих коммуникацию. Более детальное описание фрейма, сценария, сцены и разные точки зрения на данные понятия можно найти у А. Н. Баранова во «Введении в прикладную лингвистику» (2001).
Д. Норман различает два основных способа бытования и организации знаний в когнитивной системе человека — семантические сети и схемы: «Схемы представляют собой организованные пакеты знания, собранные для репрезентации отдельных самостоятельных единиц знания» [Норман 1998:359].
Понятие структуры знаний, которые образуют парадигмы и таксономии, которые, в свою очередь, состоят из концептуальных узлов, более не удовлетворяет ученых, и вопрос об устройстве схем вновь оказался в центре внимания. «В настоящее время представляется, что общее понятие схемы имеет три определяющих признака. Такие структуры являются репрезентациями знаний, которые 1) упрощают опыт, 2) облегчают логический вывод и 3) востребуются в процессе целеполагания. Тем не менее это мало что говорит нам о формальных и сущностных характеристиках абстрактных схем» [Keller 1994:59—60].
Исследования познания уже определили множество различных структур знания, которые удовлетворяют общему определению схемы. Схемами являются классификационные парадигмы и таксономии. Однако некоторые исследователи не согласны с этим утверждением, считая, что указанные структуры репрезентируют в первую очередь обыденные знания и не обладают должной директивной силой. На самом деле таксономии и классификационные схемы упрощают логический вывод и устанавливают связи между понятиями. И эти схемы потенциально играют важную роль в процессах идентификации и номинации. Дефиниции слова также образуют схему. Семантические сети имеют те же определяющие признаки. Сценарии, ментальные модели, метафоры — другие кандидаты в схемы [Lakoff 1987].
«Мы интуитивно чувствуем, что все эти структуры составляют единый тип, и все же мы не в состоянии адекватно определить различительные признаки каждой из этих структур» [Keller 1994:61]. В конечном счёте могут возникнуть адекватные типологии схем, но в настоящее время мы можем говорить о сосуществовании множества структур организации знаний в границах общей иерархии.
Ключевыми терминами вступившей в новую научную парадигму лингвистики, в которой активно влияние когнитивной лингвисти- ки, являются категория, прототип, концепт, которые, в свою очередь, являются важными типами когнитивных структур. Активное использование этих терминов начинается в 80-х годах (Rosch 1978; Lakoff, Johnson 1980; Ла-кофф 1988; Wierzbicka 1985; Вежбицка 1986; Кубрякова 1992, 1994, 1996; Фрумкина 1992; Бабушкин 1997).
Нами уже был рассмотрен процесс категоризации как процесс структурирования мира, процесс упорядочения информации, отсюда категории — ментальные объекты, которые отражают наши знания о сущности мира.
Термин «прототип» связан с исследованиями в области когнитивной лингвистики Э. Рош (1978), которая показала неадекватность традиционных (восходящих еще к Аристотелю) представлений о категориях как множествах с четкими границами, которым некий объект может либо принадлежать, либо не принадлежать, причем все члены некоторой категории имеют одинаковый статус. Экспериментально доказано, что на самом деле границы категорий размыты, а сами категории имеют внутреннюю структуру: некоторые их элементы представляют категорию лучше, чем другие, т. е. являются прототипическими ее членами. Прототипы обладают наибольшим числом характерных для данной категории признаков. Таким образом, когнитивные прототипы определяются как «самые ясные случаи категориального членства, как лучшие представители категорий» [Rosh 1978].
Прототип, по А. Вежбицка, определяется как эталонный образ, отражающий концептуально существенные свойства нашего представления об объекте (см. указанные работы). Для когнитивной семантики, полагает А. Вежбицка, «главной целью является описание структуры концепта, наличие которого лежит в основе и объясняет называние вещей и объектов закрепленными за ними в лексической системе языка именами, описание идеи, а не просто чувственного образа типичного представителя вида объектов, иными словами, описание прототипа». Такой подход к определению внутренней структуры понятия характеризуется тем, что некоторые элементы понятия являются прототипами, под которыми понимается схематическая репрезентация концептуального ядра категории.
Теория прототипов демонстрирует существование у категории внутренней структуры, отношения между элементами которой проявляются по-разному; она устанавливает иерархию категорий, отражающую лексическую иерархию [Демьянков 1994:36]. Прототипический эффект возникает при описании сложных элементов категории посредством более простых — элементарных, центральных представлений, составляющих ядро концепта. Как отмечает В. Н. Телия, понятие прототипа (или гештальт-структуры) пересекается с тем, что «психологи называют типовым образом (стереотипом, эталоном), и тем, что лингвисты обычно соотносят с денотатом» [Телия 1999:94].
Прототипы могут быть определены через перечисление основных признаков категории. Внутри категории члены могут быть связаны различными отношениями. Более того, сами категории тоже неодинаковы: среди них есть привилегированные, которым соответствуют так называемые концепты базового уровня категоризации. Названия, соответствующие этому уровню, охотнее используются, легче припоминаются, раньше усваиваются детьми, обычно лингвистически более просты, имеют большую культурную значимость и обладают еще рядом примечательных свойств. Таков, например, концепт «собака» по сравнению с вышележащим концептом «животное» и нижележащим концептом «пудель».
Е. В. Кларк в своей работе «Универсальные категории: о семантике слов-классификаторов и значениях первых слов, усваиваемых детьми» говорит о том, что при отнесении предметов к той или иной категории критерием являются определенные признаки соответствующих категорий. «Некоторые из этих признаков считаются главными и могут быть единственным основанием для классификации; другие признаки играют вспомогательную роль и обычно встречаются в комбинации с главными» [Кларк 1984:221]. Е. В. Кларк далее отмечает, что основные и второстепенные признаки образуют различные комбинации, на них базируется категоризация и они «вызывают к жизни» различные классификаторы и категории [там же:226].
Итак, система классификаторов и сверхгенерализации, по Е. В. Кларк, «отражает один и тот же базисный процесс категоризации, который вначале протекает на неязыковом уровне. И классификаторы, и сверхгенерализация содержат информацию о принци- пах систематизации объектов, лежащих в основе процесса осмысления людьми окружающего их мира. Классификаторы, как и сверхгенерализация, являются отражением некоторого априорного процесса категоризации, в котором центральное место отводится сходству по форме и другим физическим признакам предмета» [Кларк 1984:237—238].
Е. В. Кларк выдвигает гипотезу о том, что естественные категории носят универсальный характер в силу того, что они имеют общее познавательное основание, иными словами — категоризация имеет когнитивное основание. В своих изысканиях американский ученый Д. Слобин (2003) показал, что в основе многих категорий лежат такие семантические черты, которые приобретаются с опытом. Именно накопленные опыт и знания в различных научных подходах в рассматриваемой области явились тем, что стало основой нового научного направления — так называемого когнитивного подхода к языку.
-
1. Баранов, А. Н. Введение в прикладную лингвистику / А. Н. Баранов. М. : Едиториал УРСС, 2001.
-
2. Демьянков, В. З. Теория прототипов в семантике и прагматике языка / В. З. Демьянков //
Структуры представления знаний в языке. М., 1994.
-
3. Дейк, Т. А. ван. Язык, познание, коммуникация / Т. А. ван Дейк. М., 1989.
-
4. Кларк, Е. В. Универсальные категории: о семантике слов-классификаторов и значениях первых слов, усваиваемых детьми / Е. В. Кларк // Психолингвистика. М., 1984.
-
5. Минский, М. Структура для представления знаний / М. Минский // Психология машинного зрения. М., 1978.
-
6. Норман, Д. Семантические сети / Д. Норман // Психология памяти. М., 1998. С. 350—370.
-
7. Слобин, Д. Психолингвистика / Д. Слобин. М. : Едиториал УРСС, 2003.
-
8. Телия, В. Н. Фразеология в контексте культуры / В. Н. Телия. М. : Языки русской культуры, 1999.
-
9. Филлмор, Ч. Основные проблемы лексической семантики / Ч. Филлмор // Новое в зарубежной лингвистике. 1983. Вып. XII. С. 74—122.
-
10. Язык и структуры представления знаний. М., 1992.
-
11. Keller, J. Schemes for Schemata / J. Keller. Cambridge : Cambridge University, 1994. P. 59—61.
-
12. Lakoff, G. Women, Fire and Dangerous Things / G. Lakoff. Chicago : University of Chicago Press, 1987.
-
13. Rosh, E. Prototype Classification and logical classification: The two systems / E. Rosh, B. Lloud, B. Cognition. Categorization : Hillside, 1978.
Список литературы Когнитивные формы представления знания
- Баранов, А. Н. Введение в прикладную лингвистику/А. Н. Баранов. М.: Едиториал УРСС, 2001.
- Демьянков, В. З. Теория прототипов в семантике и прагматике языка/В. З. Демьянков//Структуры представления знаний в языке. М., 1994.
- Дейк, Т. А. ван. Язык, познание, коммуникация/Т. А. ван Дейк. М., 1989.
- Кларк, Е.В. Универсальные категории: о семантике слов-классификаторов и значениях первых слов, усваиваемых детьми/Е. В. Кларк//Психолингвистика. М., 1984.
- Минский, М. Структура для представления знаний/М. Минский//Психология машинного зрения. М., 1978.
- Норман, Д. Семантические сети/Д. Норман//Психология памяти. М., 1998. С. 350-370.
- Слобин, Д. Психолингвистика/Д. Слобин. М.: Едиториал УРСС, 2003.
- Телия, В. Н. Фразеология в контексте культуры/В. Н. Телия. М.: Языки русской культуры, 1999.
- Филлмор, Ч. Основные проблемы лексической семантики/Ч. Филлмор//Новое в зарубежной лингвистике. 1983. Вып. XII. С. 74-122.
- КУБРЯКОВА Е.С., ДЕМЬЯНКОВ В.З., ПАНКРАЦ Ю.Г., ХАРИТОНЧИК З.А., ЯСТРЕЖЕМБСКИЙ В.Р. Язык и структуры представления знаний: Сборник научно-аналитических обзоров. М.: ИНИОН РАН, 1992. 163 с.
- Keller, J. Schemes for Schemata/J. Keller. Cambridge: Cambridge University, 1994. P. 59-61.
- Lakoff, G. Women, Fire and Dangerous Things/G. Lakoff. Chicago: University of Chicago Press, 1987.
- Rosh, E Prototype Classification and logical classification: The two systems/E. Rosh, B. Lloud, B. Cognition. Categorization: Hillside, 1978.