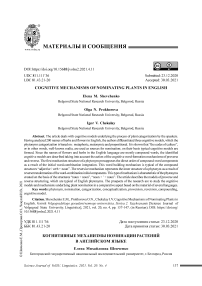Когнитивные механизмы номинации растений в английском язык
Автор: Шевченко Е.М., Прохорова О.Н., Чекулай И.В.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Материалы и сообщения
Статья в выпуске: 4 т.20, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются когнитивные модели, лежащие в основе категоризации растительного мира человеком. Материалом для анализа послужили 200 названий трав и цветов в английском языке. Авторами выделены три когнитивные модели, лежащие в основе категоризации знаний о растительном мире: метафорическая, метонимическая и пропозициональная. Показано, что в качестве источников для номинации, на базе которых формируются типичные когнитивные модели, выступают хорошо известные типичные реалии – «коды культуры». Поскольку названия цветов и трав в английском языке являются преимущественно сложными словами, то установленные когнитивные модели описаны с учетом действия когнитивно-словообразовательных механизмов проверсии и реверсии. Проверсия обусловливает прямой порядок компонентов составного слова как результата прямой интеграции первоначального словосочетания. Такой механизм структурирования характерен для фитонимов типа «adjective / verb + noun». Реверсивный механизм представляет внутреннюю структуру сложного слова как результат обратной трансформации исходных компонентов словосочетания. Такой механизм структурирования характерен для фитонимов типа «noun + noun», «noun + ' + noun». Перспективу исследования составляет изучение когнитивных моделей и механизмов, формирующих основу номинаций растений в сравнительном аспекте – на материале нескольких языков.
Фитоним, номинация, категоризация, концептуализация, проверсия, реверсия, словосложение, когнитивная модель
Короткий адрес: https://sciup.org/149138093
IDR: 149138093 | УДК: 811.111’36 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2021.4.11
Текст научной статьи Когнитивные механизмы номинации растений в английском язык
DOI:
В современной лингвистике доминирует антропоцентрическая парадигма, в фокусе которой – человек как носитель языка и сознания. Понятия и образы, возникающие на ментальном уровне, транслируются на языковой уровень словами. В основе создания слов лежат определенные механизмы и модели, которые структурируют понятия и играют важную роль в процессе номинации. Содержание таких механизмов и моделей обусловлено прежде всего тем, что, по словам исследователей, концептуальная система, опосредованная и проявляемая языком, имеет метафорический характер [Shamne et al., 2014, p. 147]. Изучением метафоры в формировании когнитивной системы человека занимались Х. Ортега-и-Гассет, Э. МакКормик, Э. Кассирер, М. Осборн и др. (см.: [Ортега-и-Гассет, 1990; МакКормик, 1990; Кассирер, 1990; Osborn, 2009]). Работы данных ученых способствовали становлению теории когнитивной метафоры, но поворотным событием стала книга Дж. Лакоффа и М. Джонса «Metaphors
We Live By» [Лакофф, Джонсон, 2004], которая позволила рассматривать ее как ментальное представление знаний.
Человек всегда существует рядом с природой, отмечая красоту и многообразие растительного мира, что, безусловно, находит отражение в языковой картине мира. Она эт-носпецифична, поскольку именно в ней фиксируются и сохраняются представления этноса о мироустройстве. Как пишут лингвисты, символы восприятия создали ментальное пространство, впоследствии определяющее когнитивное и языковое представления фрагментов реальности [Shamne et al., 2014, р. 147].
Предмет данного исследования составляют когнитивные механизмы номинации растений в английском языке. Результаты изучения номинаций растений представлены в обширном корпусе публикаций. Большинство из них находятся в русле культурологии (см., например: [Буслаев, 2011; Забылин, 2014]) и семантики: установлены структурно-семантические и мотивационные особенности фито-нимов древнеанглийского, английского, французского, русского и других языков (см.: [Го- лев, 1983; Аникина, 2018; Савенкова, 2015; и др.]). В когнитивном аспекте наименования растений на диалектном материале русского языка описаны в работах И.В. Лукьяновой (см., например: [Лукьянова, 2017]). В работах лингвистов показано, что знания о растительном мире организованы в разных языках с использованием метафорической, метонимической и пропозициональной когнитивных моделей, однако недостаточно изучены механизмы структурирования фитонимов с учетом проверсивных и реверсивных когнитивнословообразовательных моделей, на основе которых происходит номинирование растений в английском языке.
Материал и методы
Ведущим методом исследования послужил концептуальный анализ, кроме него применялись также семантический, этимологический, компонентный и словообразовательный анализ. Они позволили выявить механизмы, связующие внешний мир и представления человека о растительном мире, отраженные в фитонимике английского языка.
Категоризацию и концептуализацию знаний об окружающих человека явлениях, в том числе о растениях, когнитивная лингвистика рассматривает как модели структурирования: «процесс концептуализации направлен на выделение минимальных содержательных единиц человеческого опыта, структур знания, а процесс категоризации – на объединение сходных или тождественных единиц в более крупные разряды, категории» [Кубрякова и др., 1997, c. 93]. Другими словами, вся познавательная деятельность человека ориентирована на освоение окружающего мира и осмысление поступающей к нему информации, что приводит к образованию отдельных концептуальных структур и концептуальной системы в целом. Цель нашего исследования – описание когнитивных моделей, лежащих в основе фитонимов английского языка и структурирующих эти единицы.
Мы полагаем, что наряду с категоризацией и концептуализацией возможны такие механизмы структурирования знаний в языке, как проверсия и реверсия (подробнее о них см.: [Чекулай, Прохорова, 2016, с. 47]). Под проверсией композитов понимается когнитив- но-словообразовательный механизм, при котором порядок следования корневых элементов в сложном слове тот же, что и в исходной модели словосочетания [Чекулай, Прохорова, 2016, с. 48]. Иллюстрацией проверсии могут быть следующие фитонимы: to snap a dragon (дословно: треснуть дракона) → snapdragon «львиный зев»; love vine (дословно: любовная лоза) → love vine «повилика густая».
Противоположным механизмом представления знаний в процессе словосложения во многих европейских языках является реверсия «как особый вторичный тип синтагматических отношений, при котором из устоявшихся в качестве единиц путем перестановки компонентов образуются новые единицы и структуры языка, обладающие отличными от первых предметно-семантическими и категориально-семантическими характеристиками» [Чекулай, Прохорова, 2016, с. 47]. Например, фитоним snowdrop «подснежник» является производным от словосочетания a drop of snow (дословно: капля снега), heartsease «фиалка трехцветная, анютины глазки» от to ease hearts (дословно: облегчать сердца). В некоторых случаях дифференцировать направление действия проверсивно-реверсивных механизмов затруднительно в силу аналитического характера английского языка, в словообразовании которого имеет место конверсия.
Очевидно, что проверсия и реверсия как когнитивно-словообразовательные модели участвуют в структурировании знания на лексическом уровне одновременно с глубинными процессами категоризации и концептуализации, поскольку значение производной единицы не равно сумме компонентов мотивирующего словосочетания. В связи с этим представляет интерес рассмотрение механизмов категоризации и концептуализации в сочетании с проверсией и реверсией как когнитивными механизмами структурирования знаний о флоре, отраженных в англоязычной картине мира.
Материал исследования составляют 200 фитонимов, отобранных методом сплошной выборки из ботанических словарей электронного словаря ABBYY Lingvo. Дефиници-онный анализ некоторых номинаций осуществлялся по справочному изданию «Ботанический словарь». В рамках данной работы мы рас- сматриваем фитонимы, обозначающие травы и цветы, поскольку они характеризуются яркой образной основой, кодирующей фоновые знания о культуре народа.
Результаты и обсуждение
Словообразовательный анализ фитони-мов английского языка показал, что они делятся по своей структуре на однословные (простые, сложные) и составные.
Простые однословные фитонимы образованы такими способами словообразования, как аффиксация: fum itory «дымовник», ground sel «крестовник», teas el – «ворсянка», camp ion – «смолевка»; субстантивация: rose «роза», violet «фиалка», lilac «сирень»; сокращения (к данной группе относятся также заимствования): tulip «тюльпан», jasmine «жасмин».
К сложным однословным фитонимам мы относим лексемы, возникшие в результате словосложения, например: sage «шалфей» + brush «щетка» → sagebrush «полынь». Именно данная группа фитонимов является наиболее продуктивной и структурируется механизмами проверсии и реверсии. Мы выделяем следующие виды словосложения, характерные для фи-тонимов английского языка: сложение непосредственно корневых морфем ( toadflax «льнянка», smartweed «горчак», buttercup «лютик») и сложение с использованием предлога ( lily-of-the-valley «ландыш»).
Составные фитонимы можно классифицировать по принципу семантической цельности: 1) семантически делимые, или свободные (в свободном виде части сложного слова обозначают растения), например: garden sage «шалфей лекарственный», violet sage «шалфей лесной», meadow sage «шалфей луговой»; 2) семантически неделимые, или связные (в свободном виде части сложного слова не обозначают растения), например: Aaron’s beard «зверобой чашечковидный».
В английском языке составные фитони-мы многочисленны. Они могут быть двухкомпонентными (mother’s heart «пастушья сумка», dog’s mouth «львиный зев»), трехкомпонентными (Johnny-jump-up «фиалка пальчатая», Saint-Joseph’s-wand «пентастемон заостренный», Saint-Bernard’s-lily «венечник ли- лиаго», Saint-Antony’s nut «клекачка перистая»), четырехкомпонентными (love-in-a-chain «очиток отогнутый», jack-by-the-hedge «чесночница черешковая»), пятикомпонентными (jump-up-and-kiss-me «анютины глазки») и шестикомпонентными (jack-go-to-bed-at-noon «козлобородник луговой»).
Фитонимы можно разделить на единицы с прозрачной или стертой внутренней формой. Например, такие наименования, как prairie rose «роза степная», sunflower «подсолнух», water lily «кувшинка», bluebell «колокольчик», goat’s beard «козлобородник», обладают прозрачной внутренней формой, в то время как внутренняя форма фитонимов alligator bonnet «кувшинка», brandy bottle «кубышка» (образ, положенный в основу номинации) стерта. Образное видение окружающей действительности кодирует национально-культурные особенности этноса во вторичной номинации, которая наряду с прямой номинацией является частью языковой картины мира, связывающей объективную реальность и языковое сознание. По мере осмысления окружающего мира «человек оперирует различными репрезентациями мира, представленными в виде картин и моделей, отраженных в языке» [Шевченко, Данилова, 2019, с. 176]. Будучи образными единицами, то есть продуктами вторичной номинации, такие фитонимы и требуют дешифровки закодированной в названии информации.
Обратимся к рассмотрению когнитивных моделей лежащих в основе фитонимов английского языка.
Когнитивная метафорическая модель
Когнитивное моделирование репрезентирует знания и представления носителей языка о растительном мире в виде ментальных схем. Рассматриваемая когнитивная метафорическая модель структурирует знания на сходстве известного объекта-источника с новым. В качестве источника выступают хорошо известные типичные реалии – «коды культуры», на основе которых формируются типичные когнитивные модели. Областью-источником могут быть цвет, растение, предмет одежды / быта / аксессуар, животное, библейский персонаж или святой, стихия и природные элементы, эмоция, форма.
Область-источник – цвет. При образовании английского фитонима blue + beard (дословно: синяя борода) → bluebeard «шалфей хохлатый» исходное словосочетание имеет адъективно-именной характер, порядок компонентов в производном слове остается таким же, как и в исходном словосочетании. К этим единицам относятся сложные слова английского языка с цветовой метафорой: primrose «первоцвет», bluebell «колокольчик», red wings «разновидность дряквенника». По адъективно-именному структурному типу «adjective (color) + noun» строятся многие фи-тонимы английского языка: purple+daisy → purple daisy «астра раскидистая», red + daisy → red daisy «ястребинка оранжевокрасная», yellow + daisy → yellow daisy «рудбекия шершавая», blue + daisy → blue daisy «цикорий обыкновенный». Единицы этой группы семантически членимы. Адъективный компонент в процессе номинации связан с проверсивным механизмом структурирования знаний.
Область-источник – растение. Источником метафоризации служат сами фито-нимы, являясь наиболее продуктивной группой. Номинации данной группы семантически членимы, их компоненты в свободном употреблении обозначают растения. В структурном плане она представлена двумя моделями: «noun + noun», «adjective + noun», что отражает реверсивный и проверсивный механизмы репрезентации знаний. В качестве примера реверсии приведем фитонимы с компонентом rose , образованные в соответствии со структурным типом «noun + noun», в результате интеграции первоначальных компонентов получившие новое значение: cabbage rose «роза столистная», brier rose «малина розолистная», cotton rose «жабник германский» и др. Фитонимы с компонентом mallow «мальва», созданные по структурному типу «adjective + noun», объективируют проверсив-ную модель: hispid + mallow → hispid mallow «алтей жестковолосый». Фитонимы данной группы семантически делимы.
Область-источник – предмет одежды / быта / аксессуар. Реверсивную модель построения по типу «noun + ’ + noun предмет одежды / быта / аксессуар» представляют фи-тонимы, реализующие культурный код «пред- мет одежды / быта / аксессуар». Например, многочисленна группа фитонимов с компонентом lady’s. Синтаксические отношения в исходном словосочетании оформляются предлогом, что способствует реализации реверсивной модели производного фитонима: lady’s purse «пастушья сумка» ← lady’s + purse (дословно: женская сумочка) ← the purse of a lady; lady’s nightcap «вьюнок» ← lady’s + nightcap (дословно: женская ночная шапочка) ← the night cap of a lady; lady’s comb «скандикс гребенчатый» ← lady’s + comb (дословно: женский гребешок) ← the comb of a lady; lady’s-belt «таволга вязолистная» ← lady’s + belt (дословно: женский пояс) ← the belt of a lady; lady’s-mantle «манжетка» ← lady’s + mantle (дословно: женский плащ) ← the mantle of a lady; lady’s-shoes «водосбор» ← lady’s + shoes (дословно: женская обувь) ← the shoes of a lady; lady’s-smock «сердечник луговой» ← lady’s + smock (дословно: женский халат) ← the smock of a lady; lady’s-thimble «колокольчик круглолистный» ← lady’s + thimble (дословно: женский наперсток) ← the thimble of a lady и т. д. Данные фитонимы являются результатом номинации по сходству с предметами женского туалета и обихода, отражая картину мира носителей языка. Отметим универсальность такого принципа номинации: например, в русской фитонимике также зафиксированы номинации на основе сходства растения с предметами одежды и быта, используемыми в повседневной жизни: пастушья сумка, венерин башмачок, волчье сито, гребешок, крест-трава, метла, юбочка, царская свеча и т. д.
По реверсивной модели создаются фи-тонимы типа «noun + ’ + noun (артефакт)» с первым компонентом, называющим фольклорный персонаж. Номинативную основу данных фитонимов представляют номинации колокольчик, сумка, трава и молоко: witches’-bells «василек синий или колокольчик круглолистный» ← witches’ + bells (дословно: ведьмины колокольчики) ← bells of witches; witches’-money-bags «очиток трехлистный» ← witches’ + money-bags (дословно: ведьмины денежные мешки) ← money-bags of witches; witches’-pouches «лядвенец красивейший» ← witches’ + pouches (дословно: ведьмины мешки) ← pouches of witches; witchgrass «просо волосовидное» ← witch + grass (дословно: ведьмина трава) ← grass of a witch.
Концептуальные признаки некоторых фитонимов могут актуализировать различные сферы человеческой деятельности. Так, морская профессия и ее специфика репрезентированы в фитонимах реверсивной модели sailor ’s-knot «герань пятнистая» ← sailor ’s + knot (дословно: узел моряка) ← knot of a sailor ; sailor ’s-tobacco «полынь обыкновенная, чернобыльник» ← sailor’s + tobacco (дословно: табак моряка) ← tobaccos of a sailor.
Область-источник – животное. Реверсивная модель представлена в древнейшем структурном типе «noun + noun», характерном для английского языка. Например, при образовании следующей группы растений элементы словосочетания интегрируются в одно слово, номинирующее растение: foxtail «лисохвост» ← fox + tail (дословно: лисий хвост) ← tail of a fox. Подобным образом строятся фитонимы с культурным кодом «домашние животные»: coltfoot «мать-и-мачеха» ← colt + foot (дословно: жеребячья нога) ← foot of a colt ; foalfoot «мать-и-мачеха» ← foal + foot (дословно: жеребячья нога) ← foot of a foal ; cowslip «примула, первоцвет» ← cow’s + lip (дословно: коровья губа) ← lip of a cow.
Реверсивную модель реализуют фитони-мы с культурным кодом «дикие животные», образованные по типу «noun + noun»: harebell «колокольчик» ← hare + bell (дословно: заячий колокольчик) ← bell for a hare ; worm grass «жимолость приморская» ← worm + grass (дословно: червивая трава) ← grass for a worm ; snakewood «раувольфия змеевидная» ← snake + wood (дословно: змеиный лес) ← wood for a snake ; heronsbill «журавельник» ← herons + bill (дословно: журавлиный клюв) ← bill of a heron ; mouse-ear «сушеница топяная или костенец» ← mouse + ear (дословно: мышиное ухо) ← ear of a mouse.
Область-источник – библейский персонаж или святой. Метафорическую основу данной группы фитонимов составляют имена собственные, которые связаны с библейскими персонажами и именами святых. Например, этимология фитонима marigold «календула или бархатцы» восходит к имени святой Девы Марии: Mary ( the Virgin ) + gold.
Рекуррентную группу составляют фито-нимы, реализующие культурный код «святой» и содержащие компонент Saint : «Saint + onym + noun (артефакт)». Они образуются по реверсивной модели: Saint-John’s-wort «зверобой» ← Saint + John’s + wort (дословно: сусло святого Джона) ← the wort of Saint John ; Saint-Andrew’s-cross «асцирум зверобойновидный» ← Saint + Andrew’s + cross (дословно: крест святого Андрея) ← the cross of Saint Andrew ; Saint-Mary-thistle «растороп-ша пятнистая» ← Saint + Mary + thistle (дословно: репейник святой Марии) ← the thistle of Saint Mary ; Saint-Joseph’s-wand «пентас-темон заостренный» ← Saint + Joseph’s + wand (дословно: палочка святого Джона) ← the wand of Saint Joseph.
По проверсивной модели формируются фитонимы с предлогом в качестве соединительного элемента, соответствуя типу «noun + preposition + noun»: Jack-in-the-pulpit (дословно: Джек за трибуной) → Jack-in-the-pulpit «арезема трехлистная».
Область-источник – стихия и природные элементы. Метафорической основой единиц данной группы является элемент стихии, природные компоненты, материалы: wind , water , ice , snow , wax . Например: windflower (дословно: ветряный цветок) «анемон, ветреница»; water cabbage (дословно: водная капуста) «кувшинка»; water-bean (дословно: водный боб) «кубышка»; ice plant (дословно: ледяное растение) «хрустальная трава»; snowberry (дословно: снежная ягода) «снеже-ягодник обыкновенный»; waxberry (дословно: восковая ягода) «восковница». Единицы данной группы образованы по структурному типу «noun+noun», что предполагает реверсивный механизм репрезентации знаний.
Область-источник – эмоция. Провер-сивные механизмы номинации лежат в основе фитонимов, которые являются производными лексемами, возникшими в результате словосложения с помощью предлогов, например, с компонентом love : love in a mist (дословно: любовь в тумане) → love-in-a-mist «чернушка дамасская»; love-in-winter (дословно: любовь зимой) → love-in-winter «зимолюбка зонтичная»; love-in-idleness (дословно: любовь в безделье) → love-in-idleness «анютины глазки».
Фитонимы, образованные от форм побудительного наклонения в утвердительной форме, строятся по проверсивному механизму: touch and heal (дословно: Дотронься и исцелись!) → touch-and-heal «зверобой»; kiss me quick (дословно: Поцелуй меня быстро!) → kiss-me-quick «анютины глазки»; kiss me Dick (Поцелуй меня, Дик!) → kiss-me-Dick «молочай кипарисовый».
Фитоним love-lies-bleeding (дословно: любовь лежит кровоточащей) «щирица хвостатая, амарант», обладая яркой образной основой, связанной с формой и цветом растения, образован словосложением компонентов предложения в соответствии с проверсивным механизмом. Важно отметить, что у глагольно-адвербиальных фитонимов, возникших в результате конверсивных процессов, как в примере love-roses «калина обыкновенная», не всегда возможно идентифицировать частеречную принадлежность исходных основ, поскольку смыслоразличительная грань между ними довольно тонкая: to love / love roses (дословно: любить розы / любовные розы) → loveroses «калина обыкновенная», что представляет интерес для исследования.
Фитонимы, возникшие в результате словосложения по типу «noun + adjective», например love-entangled (дословно: любовью опутанный) «очиток едкий» ← to entangle with love , отражают действие реверсивного механизма, но такие номинации являются немногочисленными.
Область-источник – форма. Внешний вид растениий играет важную роль в их номинации. Например, форма зафиксирована в следующих номинациях: shooting star « первоцвет, дряквенник», sword lily «гладиолус», star bloom «жимолость приморская», arrowroot «маранта», pennywort «щитолистник», pipewort «шерстестебельник». В структурном плане данная группа представлена типом
«adjective + noun / noun + noun», что предполагает проверсивный и реверсивный механизмы репрезентации знаний.
Когнитивная метонимическая модель
Когнитивная метонимическая модель отражает внутреннюю форму фитонима, актуализируя представления о практическом применении растений. Данная модель отличается от метафорической модели, основанной на ассоциациях, прагматической направленностью: важно практическое применение фитонима. Анализ фактического материала позволил выделить группы фитонимов с такими областями-источниками, как соматизм и животное (ядовитые растения, корм для домашних и диких животных).
Область-источник – соматизм. Довольно рекуррентна группа фитонимов, в основе которых лежат знания о лечении человека. Продуктивным является тип «noun (соматизм) + noun ( wort / wurt )». Этимология древнеанглийской лексемы wyrt «корень» восходит к древневерхнегерманскому warz и готскому waurts с тем же значением. Данный фитоним в качестве морфемы входил в состав фитонимов, номиру-ющих лечебные травы. Иллюстрацией тому служат современные фитонимы с компонентами wort («целебный корень») и vetch («горошек»), актуализирующие представления о целебном влиянии на различные органы: liverwort «печеночник, печеночный мох; печеночники» ← liver + wort (дословно: печень + корень) ← wort for a liver ; spleenwort «костенец или кочедыжник» ← spleen + wort (дословно: селезенка + корень) ← wort for a spleen ; woundwort «язвенник, чистец, окопник» ← wound + wort (дословно: рана + корень) ← wort for a wound ; lungwort «медуница или мертензия» ← lung + wort (дословно: легкие + корень) ← wort for a lung ; kidney vetch «язвенник многолистный» ← kidney +vetch (дословно: почки + горошек) ← vetch of a kidney. Рассмотренные фи-тонимы строятся по реверсивному механизму.
Область-источник – животное. Практическая направленность дифференцирует фитонимы с компонентом bane «яд, паслен», которые отражают действие реверсивного механизма: baneberry (дословно: ядовитая ягода) «воронец колосистый» ← berry of a bane; henbane (дословно: куриный яд) «белена» ← bane for a hen; fleabane (дословно: блошиный яд) «мелколепестник, полынь, блошница дизентерийная» ← bane for a flea.
В основу номинации единиц этой группы может быть положены представления о корме для домашних животных. Так, интеграция компонентов словосочетания в соответствии с реверсивным механизмом способствует формированию фитонимов сow-wheat (дословно: коровья пшеница) «иван-да-марья» ← wheat for a сow ; cowgrass (дословно: коровья трава) «клевер» ← grass for a cow ; cowherb (дословно: коровья лекарственная трава) «тысячеголов пирамидальный» ← herb for a cow ; cow-lily (дословно: коровья лилия) «кубышка» ← lily of a cow ; dog-lily (дословно: собачья лилия) «кувшинка» ← lily of a dog ; dog daisy (дословно: собачья маргаритка) «пупавка собачья» ← daisy of a dog. Аналогичным образом репрезентируются представления с компонентом «корм для диких животных»: frogbit (дословно: лягушачья еда) «во-докрас» ← bit for a frog ; tick seed (дословно: зернышки клеща) «череда» ← seed for a tick.
Когнитивная пропозициональная модель
Ключевым для понимания такой модели как единицы хранения знаний является определение Дж. Лакоффа, который отмечает, что когнитивная пропозициональная модель «не использует механизмы воображения, то есть метафору, метонимию или ментальные образы» [Лакофф, 2011, с. 370]. Термин «пропозиция» понимается как способ осмысления опыта через призму пропозициональных моделей, которые накладываются на объективистскую структуру [Лакофф, 2011, с. 370]. Пропозициональная модель как способ категоризации знаний о растениях актуализируется в случаях, когда «человек, вычленив существенные признаки, реалии характеризует ее напрямую, кодируя... объективные свойства растений, как они есть» [Лукьянова, 2017, с. 42]. Данная модель категоризации знаний о растительном мире кодирует информацию о форме, вкусе, аромате цветов в морфеме, занимающей атрибутивную позицию, что отражено в следующих примерах: sour grass (дословно: кислая трава) «щавель малый, щаве- лек»; sour trefoil (дословно: кислый клевер) «кислица обыкновенная»; saltweed (дословно: соленый сорняк) «ситник лягушечный или лебеда серебристая»; saltwort (дословно: соленый корень) «солянка»; saltbush (дословно: соленый куст) «лебеда»; sweet peas (дословно: сладкий горошек) «сладкий горошек».
Морфема в атрибутивной позиции следующей группы фитонимов фиксирует внешние характеристики растений: strangleweed «повилика», creeping sally «луговой чай, вербейник монетный», creeping trefoil «клевер ползучий».
Фитонимы когнитивной препозиционной модели строятся по типу «adjective / verb + noun», который отражает действие проверсивного механизма.
Заключение
В работе рассмотрены когнитивные модели, лежащие в основе фитонимов английского языка, с учетом проверсивных и реверсивных когнитивно-словообразовательных механизмов. Анализ фактического материала показал, что наиболее рекуррентные способы словосложения представлены древнейшими структурами, лежащими в основе образования фитонимов по типу «noun + noun», «noun + ’ + noun», отражающих реверсивный механизм. Проверсивный механизм номинации также возможен при образовании фито-нимов, но такие единицы немногочисленны. Для образования фитонимов по проверсивной модели характерно словосложение по типам «noun + preposition + noun», «adjective + noun». Категоризация национально-культурных представлений о растительном мире, в частности о цветах и травах, в английском языке основана на метафорической, метонимической и пропозициональной моделях, которые эксплицируют картину мира его носителей. Областями-источниками метафорической когнитивной модели могут выступать такие структуры знания, как цвет, растение, предмет одежды / быта / акссесуар, животное, библейский персонаж или святой, стихия и природные элементы, эмоция, форма. Метонимическая когнитивная модель представлена следующими областями-источниками: соматизм и животное. Когнитивная пропозициональная модель кате- горизации знаний о растительном мире кодирует информацию о форме, вкусе, аромате цветов и трав в морфеме, занимающей атрибутивную позицию.
Представленное в статье описание не является исчерпывающим, дальнейшее исследование проверсивно-реверсивных механизмов структурирования знаний о растительном мире, зафиксированных в английском языке, может быть ориентировано на изучение различных групп фитонимов, в том числе и в сопоставительном аспекте, что позволит установить универсальное и этноспецифическое в реализации когнитивных механизмов номинации.
Список литературы Когнитивные механизмы номинации растений в английском язык
- Аникина Т. В., 2018. Словообразовательная структура фитонимической лексики в английском и русском языках // Научный результат. Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. Т. 4, № 4. DOI: 10.18413/2313-8912-2018-4-4-0-1.4.
- Буслаев Ф. И., 2011. Исторические очерки русской народной словесности. М. : ЛИБРОКОМ. 426 с.
- Голев Н. Д., 1983. Вопросы отождествления, классификации и номинации в русской народной лексике флоры и фауны // Говоры русского населения Сибири : сб. ст. Томск : Изд-во Том. ун-та. С. 76–87.
- Забылин М., 2014. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. М. : Ин-т рус. цивилизации. 688 с.
- Кассирер Э., 1990. Сила метафоры // Теория метафоры : сб. тр. / под ред. Н. Д. Арутюновой, М. А. Журинской. М. : Прогресс. С. 33–43.
- Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г., 1997. Краткий словарь когнитивных терминов. М. : Филол. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова. 245 с.
- Лакофф Дж., 2011. Женщины, огонь и опасные вещи. М. : Гнозис. 515 с.
- Лакофф Дж., Джонсон М., 2004. Метафоры, которыми мы живем. М. : Эдиториал УРСС. 256 с.
- Лукьянова И. В., 2017. Когнитивные модели наименований растений (на диалектном материале) // Вестник Томского государственного университета. № 418. С. 36–43. DOI: 10.17223/15617793/418/5.
- МакКормак Э., 1990. Когнитивная теория метафоры // Теория метафоры : сб. тр. / под ред. Н. Д. Арутюновой, М. А. Журинской. М. : Прогресс. С. 360–381.
- Ортега-и-Гассет Х., 1990. Две великие метафоры // Теория метафоры : сб. тр. / под ред. Н. Д. Арутюновой, М. А. Журинской. М. : Прогресс. С. 69–81.
- Савенкова А. С., 2015. Комплексное исследование мотивированной лексики в русском, английском и французском языках // Вестник Томского государственного педагогического университета. № 10 (163). С. 74–80.
- Чекулай И. В., Прохорова О. Н., 2016. Проверсия и реверсия как основные механизмы структурирования языковых знаний о словосложении в разных языках // Современные проблемы языкознания, литературоведения, межкультурной коммуникации и лингводидактики : материалы II Междунар. науч. конф. (Белгород, 20–21 апр. 2016 г.) / редкол.: В. А. Виноградов [и др.]. Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ». С. 47–51.
- Шевченко Е. М., Данилова Е. С., 2019. Гендерные стереотипы во фразеологической картине мира английского языка // Фразеология в языковой картине мира: когнитивно-прагматические регистры : сб. науч. тр. по итогам 4-й Междунар. науч. конф. по когнитив. фразеологии (г. Белгород, 26–27 марта 2019 г.) / редкол.: Н. Ф. Алефиренко [и др.]. Белгород : Эпицентр. С. 176–179.
- Osborn M., 2009. The Trajectory of My Work with Metaphor // Southern Communication Journal. Vol. 74, № 1. P. 79–87.
- Shamne N., Rebrina L., Petrova A., Milovanova M., Eltanskaya E., 2014. Space of Memory: Interactional and Semantic Aspects // Journal of Language and Literature. Vol. 5, № 4. P. 147– 154. DOI: 10.7813/jll.2014/5-4/34.