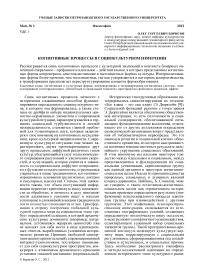Когнитивные процессы в социокультурном измерении
Автор: Борисов Олег Сергеевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (124), 2012 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается связь когнитивных процессов с культурной эволюцией в контексте бинарных оппозиций сакральное - профанное и идеальное - действительное, в которых представлены когнитивные формы интроверсии, самотождественные в эксплицитных формах культуры. Интернализованные формы более прочные, чем эксплицитные, так как утверждаются в паттернах воспроизводства, а трансформация предполагает переструктурирование концепта формообразования.
Когнитивные и культурные формы, интровертивная и экстравертивная когнитивные системы, гипостазирование и интернализация, личностный и социальный гомеостаз, пространство свободного движения, эффект
Короткий адрес: https://sciup.org/14750137
IDR: 14750137 | УДК: 1
Текст научной статьи Когнитивные процессы в социокультурном измерении
Связь когнитивных процессов личности с исторически сложившимся способом функционирования определенного социокультурного типа, в котором она формировалась, а также степень ее дрейфа (в наборе индивидуальных ценностно-нормативных элементов) в современной культурной ситуации, характеризующейся в терминах социальной турбулентности и личной неопределенности, становится главной проблемой для гуманитарных наук, которые акцентируют свое внимание на когнитивных исследованиях кросс-культурной направленности. Современную культурную ситуацию еще можно характеризовать двумя противоречащими друг другу процессами: диффузией различных типов культур, убыстряющейся в силу технологического сокращения расстояний и увеличения скоростей, и кумуляцией, которая ставится в зависимость со сдерживающим диффузию возвращением к фундаментальным ценностям, стремящимся удержаться в нише традиционных ког-нитивно-нормативных оснований (религиозных доктрин и секулярных идеологем). Степень этой зависимости такова, что объем поступающей информации переходит критическую массу возможности ее обработки, и личность в силу невозможности адекватного усвоения ищет и находит успокоение в сложившейся веками традиции или почти полностью отказывается от нее. Трансформация в сторону построения глобальной культурной картины мира на современном этапе требует определенной селекции, в которой архаические культурные доминанты (например, патернализм, устоявшаяся иерархия ценностей) уже не находят для себя места в виде адаптационных ответов, выработанных условиями исторического развития. Принцип свободной самоорганизации (горизонтальный), спровоцированный интернет-технологиями, постепенно завоевывает для себя социокультурное пространство, конкурируя с атавизмами архаического принципа установки «высшей инстанции» (вертикальный).
Исторически этногрупповые образования интегрировались символизирующим их тотемом: «Бог клана - это сам клан» (Э. Дюркгейм [9]). Социальной функцией религии с точки зрения Э. Дюркгейма является обеспечение общественной интеграции, то есть сплоченности и социальной солидарности, обеспечивающей оптимальное функционирование коллектива, отделяющего его от других коллективов посредством символической организации вокруг представления об эмблематическом первопредке. Это тот минимум религии в «социальной клетке» общественного организма, из которого выстраиваются политеистические системы в результате дальнейшего укрупнения социальных образований. В этом минимуме мы находим некоторое тождество между идеальным и социальным, между представлениями и фундирующими их социальными установками, скрепляющими группу как единый организм в некоторое когнитивносоциальное целое. Исходя из принципа единства природных, социальных и душевных явлений (социал-дарвинизм, Лейбниц, Б. Спиноза), можно говорить о таком естественно-когнитивносоциальном целом как ограниченном историческим временем определенном результате (эпифеномене) психосоциального процесса адаптации группы при взаимодействии с другими группами. Этот эпифеномен, психопространственная интеграция, складывается из естественных географических условий, создающих определенную экологическую нишу оседлости, и межгруппового конфликтного взаимодействия, селектирующего успешный набор социальных элементов группы. Такой пространственно-временной континуум моделирует культурную картину мира, коррелирующую с социальными регулятивами, сформировавшимися под воздействием и естественных, и социальных причин. Здесь необходимо рассматривать специфику и методы коллективной адаптации на определенном историческом этапе культурного разви- тия, в котором фактор веры, основанной на эмоционально переживаемой общности синкретичных коллективных представлений, базируется на силе вождя и его адаптационных способностях, демонстрирующих эффективный результат выживания; синкретичное единомыслие достигается повторением и подражанием, и эмблематическое сопричастие объекту поклонения определяется субъективным адаптационно-значимым выбором, опосредующим дефицит какого бы то ни было ресурса. В процессе дифференциации коллективных представлений в связанности с социальной дифференциацией сакрализируется (выделяется как значимый) образ самого культурного героя помимо его предикаций. Это знак первичного процесса индивидуации коллективных представлений - выделение я-бытия посредством маркирования культурного героя и сопричастности уже с ним. Это с одной стороны. С другой стороны, взаимодействие таких социальных групп, взаимно претендующих, например, на территорию пребывания в целях распространения и тем самым выживания, оборачивается их укрупнением за счет фактора силы одной группы по отношению к другой и моделированием на другом уровне интеграции / сложности культурной картины мира, в которой отражаются и связи способов социальной интеграции через взаимозависимость, взаимообмен, взаимоотражение и поглощение, и когнитивная конфигурация символических рядов, отражающих эти связи. Под когнитивной конфигурацией символических рядов необходимо понимать когнитивный состав ценностнонормативных связей, выработанных в процессе социальной интеграции групп. Здесь нет надобности в функциональном смысле различать понятия религии и идеологии, играя словами, поскольку в силу современной конвергенции наук нас должны интересовать не столько исторические формы культуры и их дескрипция, тем более что они в достаточной мере хорошо описаны, сколько закономерности когнитивных процессов, структура которых при различении этих форм либо остается одной и той же, либо претерпевает метаморфозы, связанные со сменой форм.
Для того чтобы исследовать эту структуру, необходимо вслед за Э. Дюркгеймом обратиться к низшим обществам как элементарным социальным формам, которые как фундирующие структуры лежат в основе более развитых обществ. В примитивных обществах «незначительное развитие индивидуальностей, меньшие размеры группы, однородность внешних условий - все способствует сведению различий и изменчивости к минимуму. Группа постоянно создает интеллектуальное и моральное единообразие, которое в более развитых обществах мы находим лишь в редких случаях. Все одинаково присуще всем» [1; 181]. Их движения стереоти-пизированы, в одинаковых обстоятельствах они все одни и те же, «подобный конформизм поведения лишь выражает конформизм мышления. Поскольку все сознания втянуты в один и тот же круговорот, индивидуальный тип почти полностью смешивается с родовым. В то же время все не только единообразно, но и просто. Ничто так не примитивно, как эти мифы, состоящие из одной-единственной, бесконечно повторяемой темы, чем эти обряды, состоящие из небольшого числа беспрерывно возобновляемых жестов» [1; 181]. В таких обществах превалируют коллективные представления, выражающие коллективные реальности, и исторически они являются и называются религиозными. Обряды как поведенческие акты призваны возбуждать, поддерживать или восстанавливать определенные ментальные состояния групп. Они охраняют психологическое состояние группы в найденном однажды абрисе их пропозиции, закрепляя в своем поведенческом каркасе адаптационный результат. Социальный гомеостаз собственно и поддерживается ритуалами и обрядами, и требуется определенное нарушение внутренних условий существования группы в результате сложного комплекса внешне-внутреннего противостояния, чтобы привести к корректировке поведенческую программу. Социальный гомеостаз поддерживается составом ценностно-нормативных значимостей, сохраняя относительное динамическое постоянство внутренней среды, проявляющееся в поведении и артефактах и определяющее культуру группы, надстраивающуюся над инстинктивной биологической программой и корректирующую ее. В примитивных обществах ценностно-нормативные значимости, связанные с тотемом и табу, более жесткие и неприступные, чем в развитых обществах, связанных с моралью и правом, преступить которые индивиду, носителю я-бытия, оправдывающему свою исключительность, много легче именно в силу отдельности, отделенности, выделенности из коллектива и коллективных представлений; первые сродни детерминирующим поведение инстинктам, вторые связаны с обязательствами, которые добровольно накладывает на себя человек. Однако эта отдельность я-бытия понимает себя как таковая только в результате процесса сличения и отличения, возникшего в те времена, когда явно сформировался основной личностный конфликт между природой и культурой и когда внутриличностный конфликт стал разрешаться с перевесом в сторону влечения, а не долженствования. Ущемление телесности, связанное с возвышением духа, в развитых религиозных доктринах есть кардинальный ответ на фактор обособления, принужденный на более высоком уровне интеграции солидаризировать распадающуюся общность, минувшую телесно-психиче- ский синкретизм и разделившую человека на два эона: душу и тело, причем выделенный духовный эон становится интегрирующим фактором. Мышление в категориях сакральное -профанное сменяется другой бинарной оппозицией: идеальное - действительное, исторически акцентируя смещение то в сторону ментализма, то в сторону материализма.
«В истории человеческой мысли нет другого примера двух категорий вещей, столь глубоко дифференцированных, столь радикально противостоящих друг другу, - пишет Э. Дюркгейм, -священное и светское всегда и везде воспринимались человеческим умом как два отдельных рода, как два мира, между которыми нет ничего общего» [1; 219]. Переход между мирами возможен благодаря обряду инициации, при помощи которого человек вводится в круг священных явлений, в сакральный мир избранных, при этом осуществляется трансформация всей сущности человека, он умирает в профанном мире и возрождается символически и буквально на новом качественном уровне, одна личность перестает существовать и заменяется другой, в новой форме, сакральной. «Разнородность эта такова, что часто вырождается в настоящий антагонизм. Оба мира воспринимаются не только как разделенные, но как враждебные и ревниво соперничающие друг с другом» [1; 221]. Круг священных явлений выделяется относительно других, второстепенных, в особый мир как сущностно значимый, а потому высший относительно повседневного, профанного опыта бытия - это круг знаков и смыслов тех социальных и природных явлений, которые открылись и предстали как истина бытия, ее необходимо охранять и табуировать, поскольку в этом залог групповой идентичности, это та когнитивная поведенческая модель, воспроизводством которой занимаются избранные для того, чтобы поддерживать существование группы, это и есть ее способ существования. Многообразие и неоднородность священных явлений связана с многообразием и неоднородностью самих групп, пребывающих в разных условиях пространственно-временного континуума. Однако внутри группы наблюдаемы однородность и повторяемость. Разделение мира на сакральный и профанный уровни повсеместно, хотя круг явлений, распределяемых между ними внутри группы, специфичен и зависит от условий адаптации. Но сама бинарная структура универсальна и предполагает незыблемость сакрального уровня и вариативность профанного. Именно в вариативности профанного уровня - исток для коррекции сакрального, связанной с изменением природных и социальных условий бытия, хотя эта коррекция осуществляется в остром конфликте двух миров в силу консервативности одного (как охранительной функции социума, характеризующейся менталь- ной и поведенческой инертностью) и императивности другого (как поисковой функции, характеризующейся ментальной и поведенческой активностью). Так профанные явления могут добавляться в сакральные, и наоборот, так трансформируется сакральный мир. Императив, возникающий в результате нарушений ассоциативных связей социального гомеостаза, уловленных индивидом на уровне личностных нарушений (личностного гомеостаза) в силу групповой связанности индивидов, требует активировать адаптационный поисковый процесс и проявляет себя в религиозном сознании как повеление свыше, как внутренний голос, ответственный и откликающийся на священный призыв, как миссия, возлагаемая высшими силами. (В разных религиозных формах это шаман, осуществляющий самоинициацию в результате «шаманского призыва»; Моисей, услышавший голос Яхве, требующий вывести народ из египетского плена, пусть и сначала активно сопротивляющийся ему; смиренный Иов, взвешивающий все соблазны; Иисус, действующий от имени Бога Отца; Мухаммад, услышавший повеление «читать» коранические свитки и сопротивляющийся «доисламской эпохе»; Лютер, уповающий на личную веру и ответственность в противовес институту священства.) И этот императив уже сам по себе оправдывает появление новых религиозных явлений и связанных с ними религиозных форм и институтов.
«Поскольку понятие священного в мышлении людей всегда и повсюду отделено от понятия светского, поскольку мы усматриваем между ними нечто вроде логической пустоты, ум испытывает неодолимое отвращение к тому, чтобы соответствующие явления смешивались или даже просто оказывались в контакте. Ведь такое смешение или даже чрезмерно тесное соприкосновение слишком сильно противоречат состоянию диссоциации, в котором эти понятия оказываются в сознаниях. Священная вещь - это главным образом та, которой непосвященный не должен, не может безнаказанно касаться. Конечно, этот запрет не может доходить до того, чтобы сделать невозможной всякую коммуникацию между обоими мирами, так как если бы светское не могло вступать ни в какие отношения со священным, последнее было бы бесполезно. Но помимо того, что вступление в эти отношения само по себе всегда является тонкой процедурой, требующей определенных предосторожностей и более или менее сложной инициации, оно невозможно даже без того, чтобы светское не утратило своих специфических черт, без того, чтобы оно само стало священным в какой-то мере, до какой-то степени. Обе категории не могут сближаться между собой и в то же время сохранять свою собственную сущность» [1 ; 221-222]. Бинарная оппозиция сакральное - профанное очерчивает две сферы сознания, связанные со значимостью ценностно-нормативных регулятивов и с неучтенностью, а значит, неин-ституализированностью свободных вариаций. Взаимосвязанные, но несводимые друг к другу сферы, находясь в некоторой конфронтации, нуждаются друг в друге, определяя состав элементов личностной системы, включая и бессознательное, обнаруживающее себя в непроизвольно возникающих образах и элементах поведения, инспирированных потребностями и мотивами различной степени сложности (иерархия мотиваций). Человек двойственен, и об этом говорит не только Э. Дюркгейм, «в нем находятся два существа: существо индивидуальное, имеющее свое основание в организме и уже тем самым имеющее узко ограниченную сферу действия, и существо социальное, представляющее в нас самую высокую в интеллектуальном и моральном отношениях реальность, которую мы можем познавать путем наблюдения» [1; 195]. В той мере, в какой индивид участвует в жизни общества, он «естественным образом превосходит самого себя, когда он мыслит и когда он действует» [1; 195]. Социальный характер индивида позволяет понять, откуда происходит необходимость категорий. Общество откажется от самого себя, если оставит категории, как говорит Э. Дюркгейм, «на произвол частных лиц». «Чтобы иметь возможность существовать, оно испытывает потребность не только в достаточном нравственном конформизме; имеется и минимум логического конформизма, без которого оно также не может обойтись. По этой причине оно подавляет всем своим авторитетом своих членов, чтобы предупредить расколы. Вот почему, когда даже в глубине души мы пытаемся освободиться от этих основных понятий, мы чувствуем, что не совсем свободны, что что-то сопротивляется нам, в нас и вне нас. Вне нас судит общественное мнение; но кроме того, поскольку общество представлено также в нас, оно противодействует внутри нас самих этим революционным попыткам» [1; 195]. И это авторитет самого общества. Это то, что З. Фрейд назовет совестью и цензурой Я, то, что имплицитно присуще личности, интернализовано, и то, с чем человек ведет борьбу внутри самого себя прежде, чем будет вести борьбу с обществом, желая освободиться (высвободиться), выделяя самого себя в результате процесса индивидуации (К. Г. Юнг), или вместе с борьбой против общественного уклада, вместе с тем ведет, может быть, неведомо для самого себя борьбу с самим собой*. Однако человек может вести борьбу против самого себя за соответствие общественному идеалу (все это вариации когнитивного диссонанса при формировании я-концепции). На этих основаниях мы можем различать психологические типы, характеризующиеся интровертивной или экстравер- тивной установками, исследованными К. Г. Юнгом [7]. В этом заключается добавление к пониманию социального происхождения представлений, на котором остановился Э. Дюркгейм и которое продолжила группа исследователей, фундирующих конфликтную модель общества (от Г Спенсера, К. Маркса и Г Зиммеля до Л. Козера и Р Дарендорфа). Да, категории имеют социальное происхождение, разделяются группой, но с процессом усложнения групповой организации общества критерием и основанием этой борьбы при снятии бинарной оппозиции сакральное - профанное выступает иной механизм двойственности: в нем идентификация личности происходит вне собственной группы, и тогда ценностно-нормативные связи предстают не как мифологемы, но как идеологемы, трансцендирующие субъекта в иные пространственно-временные континуумы. Они отрывают субъекта от почвы, увеличивая раскол личности (объективируя внутриличностные конфликты имплицитно-эксплицитных связей). Тогда в разрешении этого конфликта в сознании закрепляется новая бинарная оппозиция: идеальное - действительное. Религия утрачивает прерогативы, вступает в силу идеология (сначала в форме религии в «осевое время» (К. Ясперс [8]), потом в собственной форме в постосевое время, когда объединительный принцип, предложенный мировыми религиями, возвысившимися над этнонациональными и социальными различиями и определившими различия между самими религиями на основе специфических ценностнонормативных значимостей, сменился секуляризировавшимися идеологиями, сохраняющими в разных пропорциях «старого» и «нового» тот или иной ментальный остов). Тождество между социальным устройством клана и его сакральной моделью, характерное для тотемных групп, разрушается. Социальный мир, организованный по принципу тождества, диверсифицируется, в адаптационный процесс включаются доминанты гипостазированных идеологем, выступающих в роли императивов. Действенность системы, предстоящая в ментальной оппозиции сакральное - профанное, где последний член лежал вне пределов системы, но как таковой не аннулировался, в оппозиции идеальное - действительное предполагала аннигиляцию последнего члена в результате ущемления тела, в том числе и социального тела, его переустройства не основе идеологем. Собственно, в этом различении лежит революция мотивационных оснований в эволюционном процессе, сменившем биологическую эволюцию когнитивной. От императивов, связанных с биологической адаптацией, включая мифологемы как бессознательные неотчуждаемые от нее ее собственные отражения, к императивам, инспирированным идеологемами, получившими самостоятельный статус бытия и оторвавшимся от процессов жизни -когнитивным формам как эпифеноменам, на острой стадии конфликта вступившим в противоречие с самой жизнью в ее вечном становлении. Когнитивные формы как закрепленные в имплицитной памяти схемы несут функцию когнитивного самовоспроизводства, однако при столкновении с действительностью требуют коррекции. Именно это противоречие вскрыл Г. Зиммель: «Как только жизнь возвысилась над чисто животным состоянием до некоторой духовности, а дух в свою очередь поднялся до состояния культуры, в ней обнаружился внутренний конфликт, нарастание и разрешение которого есть путь обновления всей культуры. <_> Скрытый смысл этой эволюции заключается в том, что жизненная стихия, беспокойная в своем вечном движении, ведет постоянную борьбу со всеми отверделыми остатками, засоряющими ее волну. Но так как она может иметь реальное бытие лишь в определенных формах, то весь этот процесс представляется нашему сознанию как процесс вытеснения старых форм новыми... но вместе с тем и символ ее бесконечной творческой силы и того противоречия, в каком неизменно находится вечное становление с объективной значимостью и самоутверждением форм» [2; 61-62]. Таким образом, когнитивные формы, связанные с формами жизни (культуры), тождественны этим формам, но в процессе развития жизни и вследствие адаптации к ней субъекта они требуют переформатирования согласно тому способу адаптации, который вырабатывается субъектом и, следовательно, откладывается в его внутренних структурах. Иными словами, относительное тождество идеального и действительного есть функция способа адаптации, и когда вызовы естественного и социального толка разрушают это единство, то ради поддержания динамического равновесия внутренних условий существования личность, заполняя образовавшуюся пустоту, опосредует во внутренних структурах фундирующий ее адекватный адаптационный ответ. Иным путем после пережитого кризиса эта пустота восполняется в субъекте, компенсирующем свою неадекватность действительности архаическими когнитивными формами, которые удерживают самотождественность и восстанавливают утраченное равновесие до тех пор, пока складывающиеся условия существования еще делают возможным простое воспроизводство культурных форм, позволяющее старым формам существовать наряду с возникающими новыми с наименьшими для них издержками конфликта. Человечество выработало культуру как мощное противостоящее природе средство адаптации, но она сама, и на это пророчески указывали и З. Фрейд, и Ф. Ницше [6], [4], на определенном этапе становится тормозом дальнейшего развития, и этот момент торможения воспроизводится всякий раз, когда набирают силы инновационные тенденции. Зиммель требует существенных изменений самой структуры культуры как адаптационного механизма, поскольку предельная самостоятельность когнитивных / культурных форм всегда разбивается о рифы тех процессов, которые всегда «неожиданно» возникают на горизонте человеческого развития. Эта вскрытая Г Зиммелем закономерность развития любой культуры демонстрирует и устойчивые закономерные когнитивные процедуры, найденные К. Г. Юнгом, смысл которых имеет двоякое заполнение: когнитивные формы как системы замкнутого единства (интровертивного типа), самотождественные в эксплицитных культурных формах и связанные с имплицитной памятью (различение имплицитной и эксплицитной памяти см. [4]), всякий раз размыкаются, утрачивая самотождественность и тогда, когда естественные закономерности развития физического и социального мира требуют сформировать адекватные адаптационные системы существования, когерентные изменяющимся условиям. Подобные процессы требуют размыкающейся экстравертивной когнитивной системы, характеризующейся активными волевыми действиями, ломающими когнитивные / культурные формы - как гипостазированные, так и интернализованные. При этом последние (имплицитные) оказываются более прочными, чем эксплицитные, так как эмблематические формы есть результат социального договора, который разрушить проще в силу более слабых связей, чем внутреннюю структуру. Последняя лишь проявляет себя в эмблематической форме, но утверждается и несется в неявных паттернах воспроизводства, характеризующегося на уровне мозга сильными нейронными связями, проявляющимися в относительно программируемых реакциях поведения, все еще получающих подкрепления. Здесь мимикрия внешних форм не всегда означает сущностную трансформацию культуры, поскольку трансформация предполагает именно переструктурирование концепта формообразования, то есть идеологемы, затрагивающей концептуальные связи практически на уровне нейронных сетей. Наличие экстравертивной когнитивной системы позволяет использовать энергию напряжения психологического поля, возникшего из квазипотребности, связанной с «истинными потребностями» личности в силу коммуникации потребностей и имеющей, согласно К. Левину [3], внезапный характер. Квазипотребность вызвана нарушением внутренних условий равновесия полевого поведении. Разряжение напряжения, которое возникает в системе при возникновении потребности, происходит при условии совершения намеренного действия, приводящего к удовлетворению этой потребности, то есть к восстановлению личностного / социального гомеостаза, когда валентность вещи, говоря в терминах К. Левина, соответствует смыслу потребности, то есть существует оптимальное пространство свободного движения. Отложенное же, незавершенное действие есть механизм памяти, согласно Б. В. Зейгарник, ученице К. Левина; незавершенные действия запоминаются лучше, чем завершенные. Видимо, эта память, имея имплицитное происхождение, активизируется в результате экстравертивной установки, когда все более сокращается пространство свободного движения, и полевое поведение уже невозможно в силу накопленной массы отложенных действий, представленных в виде вновь открывшихся обстоятельств. Внезапный характер реакции провоцируется фактором новизны, который улавливается экстравертивной когнитивной системой, работающей как считывающий механизм – это ее сущностный механизм функционирования. Насколько радикальными будут изменения внутренней структуры зависит от того, насколько будет сужаться пространство свободного движения и насколько активными будут действия по расширению этого пространства за счет новых форм (идеологем и технологий). Однако активность действий все больше становится заложником приемлемых прежде культурных форм, все более их нивелирующих к общему знаменателю процедуры отработанного культурного типа, и обратной стороной того гуманистического процесса, который постулировал идеологической доминантой смысл жизни в ее устойчивом и справедливом развитии. Общий уровень турбулентности социальной среды говорит о скорой смене парадигмы. Ее специфика будет заключаться в том, что произойдет скачок в разрыве традиционных форм с новыми способами адаптации, которые предполагают сиюминутный эффект в противовес долгосрочным проектам и тяжеловесным основаниями. Этот эффект, визуальный, слуховой, поведенческий, будет тем информантом, кото- рый станет форматировать социальные и когнитивные структуры в гибкие конфигурации, отвечающие запросам не исторической памяти и не будущего конца истории (от эсхатологии до футуристических моделей), а подчиняющиеся тому сегментированному течению времени, адекватности которого они должны соответствовать в точечной элементарности своего бытия. Иными словами, секуляризационный процесс связан с когнитивными процессами, и ренессанс фундаментальных ценностей лишь демонстрирует общий кризис культуры, на фоне которого формируется новая бинарная оппозиция виртуальное – практическое, где исходным основанием, формирующим развитие, будет виртуальный принцип социальной интеграции групп, выходящих в социальное поле взаимодействия, минуя принцип сложившейся иерархической организации. Бог как эмблема социальной структуры или гипостазированный внешний наблюдатель, контролирующий поступки людей на основе исторически сложившихся ценностно-нормативных значимостей, в силу утраты своих «истинных» значений приобретают иную понятийную конфигурацию: она трансформируется от идеологемы группы к информанту, который форматирует взаимодействие на основе «положения дел» эфемерно считываемого расклада сил, в результате взаимодействия информантов постоянно обновляющего свою конфигурацию, в которой ценность имеет приходящее значение, отдавая приоритет праксису. Роль внешнего наблюдателя и «всевидящего ока» вполне реально замещает не ин-тернализованный / инфантильный образ отца (З. Фрейд), а своеобразный «бог из машины», призванный к адептам не вселить веру в чудо и на этой основе «управляющий» ими, а контролирующий взаимодействие групп вполне не эфемерным способом: всевидящим оком Интернета, следящим за реальными мотивами и поступками людей.
ПРИМЕЧАНИЕ
* Имеется в виду топографическая модель личности З. Фрейда в сочетании с введенным К. Г. Юнгом понятием коллективного бессознательного (архетипическая модель) и выделением самости в процессе индивидуации.
Список литературы Когнитивные процессы в социокультурном измерении
- Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни//Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология: Пер. с англ., нем., фр./Сост. и общ. ред. А. Н. Красникова. М.: Канон+, 1998. С. 175-231.
- Зиммель Г. Конфликт современной культуры//Зиммель Г. Избранные работы. Киев: Ника-Центр, 2006.
- Левин К. Разрешение социальных конфликтов. СПб.: Речь, 2000. 231 с.
- Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни//Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1990. С. 158-230.
- Солсо Р. Когнитивная психология. СПб.: Питер, 2011. 589 с.
- Фрейд З. Неудовлетворенность культурой//Фрейд З. «Я» и «Оно». СПб.: Азбука-классика, 2009. С. 157-281.
- Юнг К. Г. Психологические типы. СПб.: Ювента; М.: Прогресс-Универс, 1995. 716 с.
- Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Республика, 1994. 527 с.
- Durkheim Е. The Elementary Forms of the Religious Life. London: George Alien & UnwinLtd, 1976.