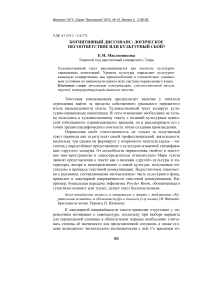Когнитивный диссонанс: логическое несоответствие или культурный сбой?
Автор: Масленникова Евгения Михайловна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории и практики исследований
Статья в выпуске: 2, 2012 года.
Бесплатный доступ
Художественный текст рассматривается как носитель культурно-окрашенных коннотаций. Уровень культуры определяет культурно-языковую конвергенцию как приспособление к относительно одинаковым условиям во внешнекультурном поле системы переводящего языка.
Текстовая коммуникация, художественный текст, перевод, интерпретирующий диапазон текста
Короткий адрес: https://sciup.org/146120984
IDR: 146120984 | УДК: 81’255.2
Текст научной статьи Когнитивный диссонанс: логическое несоответствие или культурный сбой?
Текстовая коммуникация предполагает наличие у читателя стремления выйти за пределы собственного (реального пережитого и/или вымышленного) опыта. Художественный текст кодирует культурно-окрашенные коннотации. В этом отношении необходимо не только подходить к художественному тексту с позиций культурных ценностей собственного «принимающего» времени, но и рассматривать его с точки зрения специфического контекста эпохи создания произведения.
Переводчик несёт ответственность не только за получаемый текст перевода как за результат своей профессиональной деятельности, поскольку тем самым он формирует у вторичного читателя (далее – чи-тателя 2 ) определённое представление о культурно-языковой спецификации «другого» социума. От способности переводчика «войти» в текстовое ино–пространство и самоопределиться относительно Мира текста зависят представления о тексте как о явлении «другой» культуры и литературы, авторе и непосредственно о самой культуре, получаемые чи-тателем 2 в процессе текстовой коммуникации. Недостаточное знакомство с реалиями, составляющими неотъемлемую часть культурного фона, приводит к лакунарной напряжённости текстовой коммуникации. Например, буквальная передача эвфемизма Powder Room , обозначающего туалетную комнату или туалет, делает текст бессмысленным.
Бонд понаблюдал немного и отправился к дверям с табличками «Курительная комната» и «Комната пудр» в дальнем углу казино (Я. Флеминг. Бриллианты вечны. Перевод П. Шошина).
К лакунарной напряжённости текста приводит отсутствие у переводчика мотивации к самоцензуре, поскольку при выборе варианта для переводимой единицы в обязательном порядке необходимо учитывать степень её значимости для представленной ситуации, а также степень возможного читательского (не)знакомства с ней. Со временем из- меняется понятийная область, с которой связана реалия. За переводчиком остаётся право выбора средств, необходимых для её вербальной репрезентации, таких, как, например, расширение получаемого текста с помощью комментария, непосредственно включаемого в перевод, или через ситуативный перевод. Главным остаётся выявить содержательные признаки и дополнительные характеристики объекта с тем, чтобы обеспечить коммуникативное равенство оригинала и перевода с учётом пространственно-временной ориентации на читателя2, пребывающего в системе переводящего языка и культуры.
Д. Майерс описывает особое состояние, наступающее у индивида в том случае, когда «две одновременно воспринимаемые мысли или два убеждения (“когниции”) психологически несовместимы» [2, с. 183]. При взаимном несоответствии поведения и установок закладываются смешанные чувства относительно текущей ситуации. Проблема фоновых знаний связана с выходом на культурные параллели, возникшие, например, в массовой культуре. Перевод предполагает не только передачу «сухой» структуры текста, но и построение текстового Мира так, чтобы читатель 2 получил возможность построить проекцию текста, исходя из принципа «что - есть - текст - для - меня».
Для благотворительных приходских базаров леди предлагали изделия собственного рукоделия, но в переводе бездетная старая дева, проживающая с больной сестрой, действует с точностью наоборот:
... she promised to produce a consignment of penwipes and babies’ socks (A. Christie. The Case of the Perfect Maid) ↔ ... обещала купить перочистки и детские носочки (А. Кристи. Дело идеальной служанки. Перевод В. Вебера). Ср.... пообещала прислать на продажу перечистки и детские носочки (А. Кристи. Дело о безупречной служанке. Перевод Ю. Клейнера); ... тем не менее внесла значительную сумму и ещё предложила для благотворительного киоска партию перочисток и детских носочков (А. Кристи. Великолепная служанка. Перевод В. Флоренцева).
Читатель сталкивается с проблемой определения и установления взаимоотношений между объектами реальной действительности, преломлённой в культуре, поскольку художественный текст разворачивает свой модельный Мир относительно предметов и объектов реального окружающего мира. Религиозность итальянцев проявляется в поклонении многочисленным католическим реликвиям, многие из которых выставлены для верующих в специальных ковчегах или раках (shrine). In the calle dei Fabori there is a wall shrine to the Virgin Mother (J.H. Chase. Mission to Venice). Несмотря на то, что написание слова virgin с заглавной буквы и употребление его с определённым артиклем как the Virgin допускает единственно возможную трактовку исключительно в религиозном контексте как богородица, мадонна или Дева Мария, в переводе появляется загадочная гробница чьей-то родственницы. На Фаборе есть гробница Матери Виргилии (Д. Чейз. Миссия в Венецию. Перевод С. Вишенкова).
В то же время существует переводческая тенденция проецировать на переводимый текст нормы и роли, предписываемые собственной культурой. Диффузность границ текста и его содержания находятся в прямой зависимости от устанавливаемой степени коррекции относительно представленной ситуации. После бурно проведённых выходных Джеймса Бонда мучает похмелье. Среди принимаемых им лекарств упоминается средство «Eno’s» против расстройства желудка. Переводчики заставляют героя опохмеляться традиционным способом – пивом.
Bond swallowed down two Phensics and reached for the Enos (I. Fleming. Thunderball) ↔ Бонд проглотил два таблетки аспирина и запил имбирным пивом (И. Флеминг. Операция «Шаровая молния». Перевод Ю. Никитиной и В. Исхакова). Ср.: Бонд проглотил две таблетки, потянулся за третьей (Я. Флеминг. Операция «Гром». Перевод Т. Тульчинской).
Интерпретация событий из Мира текста предполагает умение скоординировать их относительно реальной действительности. Когда агент ЦРУ узнаёт, что в связи с проводимой секретной операцией ему предстоит отправиться на Багамские острова в Нассау, он шутит: And then they tell me to score and to pack my bathing trunks and my spade and bucket and come on down to Nassau (I. Fleming. Thunderball).
Перечисленные в списке предметы совпадают с теми, которые берёт с собой в поездку к морю герой английской детской книги.... he was also carrying his special seaside straw hat, a beach ball, a rubber bathing ring and a bucket and spade... (M. Bond. Paddington Marches On). Речь идёт о разделении общей культурной памяти, связанной с образами детства. Тем самым, с помощью обращения к детским воспоминаниям подчёркиваются лёгкость и простота проводимого расследования.
Ю.А. Сорокин [4] выводит на первый план влияние психобиоти-питических особенностей на получаемую читательскую проекцию текста. Сложившиеся в русскоязычном социуме представления о курортной жизни нашли своё отражение в переводе:
Явился, а мне говорят: пакуй чемодан, бери плавки, картишки и лети в Нассау (Я. Флеминг. Операция «Гром». Перевод Т. Тульчинской). Ср.: А потом мне объяснили причину, велели прихватить купальные принадлежности, ведёрко с совочком и оправляться в Нассау (И. Флеминг. Операция «Шаровая молния». Перевод Ю. Никитиной и В. Исхакова).
Непременными условиями успешности перевода как особой двуязычной коммуникации становятся умения переводчика: 1) упорядочить последовательность событий внутри Мира текста и относительно выстраиваемого заново в переводе Мира текста с помощью средств другого языка; 2) опознать ситуацию как актуальную для Мира текста; 3) вы- делить тот объём информации, который может быть успешно усвоен читателем2, входящим в сферу принимающего языка и «иной» культуры; 4) выйти за пределы собственного личного опыта.
Последний пункт обусловлен тем, что «опыт зачастую не может быть эксплицирован до конца, что и способствует возникновению дуги беллетристической аттрактивности между автором, текстом / художественным коммуникантом и реципиентом» [4]. Автор приведённого ниже лимерика К. Эттли (1883–1967) – премьер-министр Великобритании (1945–1951) от партии лейбористов. Включённые в текст реалии не только служат средством создания особого колорита, но и заставляют англоязычного читателя угадать личность высмеиваемого прототипа, отталкиваясь от предложенного описания: a starter , обладающий почётным званием CH ( Companion of Honour ‘почётный член или почетный кавалер ордена’), кавалер высшего ордена Подвязки (knight of the Garter), награждённый OM (Order of Merit) – орденом «За заслуги».
Few thought he was even a starter, Кто бы смог в этом гадком утенке
There were many who thought themselves Угадать хоть участника гонки! smarter, Но он кончил премьером,
But he ended PM, Графом и кавалером
CH and OM, Орденов и эпитетов звонких .
An earl and the knight of the garter .(C. Attlee) (Перевод Г. Варденги)
Под описание подходит бывший премьер-министр (1868, 1874– 1880), но от партии Тори. Современники неприязненно относились к Б.Дизраэли (1804–1881) и его стремительной карьере, благодаря которой он получил титул графа (1st Earl of Beaconsfield):
… has no power over Mr. Benjamin Disraeli's grinders, or any means of violently handling that gentleman's jaw. Jews are not called upon to wear badges. On the contrary, they may live in Piccadilly... (W. Thackeray. The Snobs of England).
Участники текстовой коммуникации ищут возможности для (са-мо)идентификации по отношению к определённой культуре. В этом случае текстовая коммуникация представляет собой совмещённую деятельность автора и «его» читателя, каждый из которых строит личностную проекцию текста. Роман А. Кристи «Sparkling Cyanide» (1945) переводился на русский язык два раза: один перевод выполнен женщиной, а другой мужчиной. «Мужской» взгляд переводчика Э. Островского на те эпизоды, в которых речь идёт о моде, светской жизни и т.д., стал причиной отдельных переводческих ошибок и неточностей, когда streams of parcels превратились в поток поздравлений , а невеста занимается подвенечным платьем .
Excitement, shopping, streams of parcels, bridesmaids dresses (A. Christie. Sparkling Cyanide) ↔ Волнение, беготня по магазинам, поток поздравле- ний, подвенечное платье (А. Кристи. Сверкающий цианид. Перевод Э. Островского). Ср.: Волнения, покупки, поток пакетов, платья для подружек невесты (А. Кристи. День поминовения. Перевод А. Ставиской).
Главное в образе дебютантки – простота, поэтому младшая сестра делает старшей замечание по поводу всего, что она называет bunch and fuss . В «мужском» переводе платье сшито не по фигуре :
I don’t like that new frock, Rosemary. It doesn’t suit you. It’s all bunch and fuss . (A. Christie. Sparkling Cyanide) ↔ Мне не нравится твое новое платье, Розмари. Сшито не по фигуре. Складки кругом топорщатся (А. Кристи. Сверкающий цианид. Перевод Э. Островского). Ср.: Мне не нравится твое новое платье, Розмэри. Оно тебе не идёт. Слишком много всего накручено (А. Кристи. День поминовения. Перевод А. Ставиской).
Установление когнитивной лакунарности предполагает установление наличия / отсутствия «в переводящем языке моделей, соответствующих репрезентированным в переводном языке», поскольку «когнитивная лакунарность приводит к неадекватному пониманию текстов даже при наличии высокого уровня языковой компетенции» [3, с. 20]. Попытка опираться исключительно на содержание не всегда приводит к более или менее полной и точной языковой репрезентации, так как вер-бализированный опыт носителя языка всегда стоит за фоном СЛОВА. Влиятельный адвокат, отец провинившейся девушки, угрожает директору школы увольнением. Адвокат обещает в неявной форме, что директор станет презираемым бродячим торговцем. В переводе срабатывает принцип влияния и слияния возникающих смыслов.
And when I’m done with you, you’ll be lucky to get a job selling encyclopedias door to door (S. King. Carrie) ↔ А когда я с вами покончу, то вам сильно повезёт, если удастся получить работу швейцара (С. Кинг. Кэрри. Переводчик не указан).
Работа с текстом предполагает восстановление и/или прогнозирование системы смысловых отношений, зафиксированных в нём.
Незнакомство с культурным фоном эпохи, являющимся неотъемлемой частью широкого контекста, приводит к тому, что личностные смыслы, во многом приписываемые тексту оригинала переводчиком, вытесняют исходные авторские смыслы. Д. Дитрич пишет, что «до 17– 18 лет девушки считались невидимками. Они присутствовали на вечеринках, но не имели права слова сказать, пока к ним кто-нибудь не обращался ... чтобы они не привлекали к себе внимания женихов, предназначавшихся для их старших сестер» [1, с. 163]. Для англоязычного читателя, а тем более для современника, абсолютно приемлемо, что внимание матери обращено на начавшую выезжать в свет старшую дочь. Сложившаяся ситуация внутрисемейной иерархии спокойно воспринимается младшей сестрой, поскольку ей только 17 лет.
She accepted, unhesitatingly, the fact that Rosemary was the important one. rosemary was ‘out’ – naturally her mother was occupied as far as her health permitted with her elder daughter. that had been natural enough, her own turn would come some day... Iris wasn’t to come out, officially, until the following year (A. Christie. Sparkling Cyanide).
В переводе по-иному расставлены акценты: мать не обращает внимания на младшую дочь. Автор нигде не подчеркивает пренебрежения, «вчитанного» в текст переводчиком: обе дочери получает традиционное образование для девочек согласно правилам своего сословия.
И молчаливо уступала Розмари первое место. Та шла «вне конкурса», внимание матери было отдано старшей. Так и должно было быть. А она, Ирис, терпеливо дожидалась своей очереди . (А. Кристи. Сверкающий цианид. Перевод Э. Островского). Ср.: Она без колебания признавала, что Розмэри из двух сестер главная. Понятно, что когда Розмэри начала «выезжать», мать, насколько позволяло её слабое здоровье, целиком занялась старшей дочерью. Это было вполне естественно. Потом должен был наступить черед Айрис (А. Кристи. День поминовения. Перевод А. Стави-ской).
По аналогии с понятием «когнитивный диссонанс», введённым в когнитивную психологию Л. Фестингером (L. Festinger), можно предложить понятие «переводческий диссонанс». Если когнитивный диссонанс подразумевает расхождение имеющегося у индивида опыта с восприятием актуальной текущей ситуации, то явление переводческого диссонанса обусловлено: 1) неумением связать ситуацию, представленную в оригинале, с ситуацией, знакомой для читателя 2 как представителя «другой» культуры; 2) неумением проецировать собственный опыт на текст. За датами, связанными в большинстве случаев с прецедентными событиями, закрепляются социально-значимые культурные коннотации, стратегии передачи которых во многом зависят от поставленных перед собой переводчиком целей. Так, Алиса делает вывод, что это французская мышь, потому что подобно Вильгельму Завоевателю ей потребовалось переплыть большое водное пространство.
«Perhaps it doesn't understand English» thought Alice. «I daresay it's a French mouse, come over with William the Conqueror.» (L. Carroll. Alice's Adventures in Wonderland) ↔ – Может, она по-английски не понимает? – подумала Алиса. – Вдруг она француженка родом? Приплыла сюда с Вильгельмом Завоевателем? (Л. Кэрролл. Приключения Алисы в стране чудес. Перевод Н. Демуровой); «Наверное, она не понимает по-английски, – подумала Алиса. – Вдруг это французская мышь, которая приплыла сюда с Вильгельмом Завоевателем?» (Л. Кэрролл. Алиса в Стране Чудес. Перевод А.А. Щербакова). Ср.: «Наверное, она не понимает по-нашему, – подумала Алиса. – А-а я догадалась: это, наверное, французская мышь. Приплыла сюда с войсками Вильгельма Завоевателя!» (Перевод Б. Заходера).
Для «своего» читателя Б. Заходер эксплицирует данную неявно имплицитную информацию в виде оформленной курсивом вставки, дополни- тельно пародируя стиль русских летописей: Вильгельм Завоеватель высадился со своей дружиной на берегах Альбиона в лето 1066 г.
Как иной вариант решения поставленной задачи переводчики снимают отсылки на исторический факт:
« Может, она не понимает меня? – подумала Алиса. – А что если это французская мышь?» (Л. Кэрролл. Алиса в Стране Чудес. Перевод Д. Сильвё-стровой). Ср.: «Может, она все-таки по человечески не понимает? – встревожилась Алиса. – А может быть, она просто иностранная мышь?» (Л. Кэрролл. Алиса в Стране Чудес. Перевод Л. Яхнина). Ср. также: «Быть может, она не говорит по-нашему, – подумала Алиса, – и не училась иностранным языкам» (Л. Кэрролл. Алиса в волшебной стране; анонимный перевод).
Если переводчик останавливает свой выбор на стратегии создания адаптивного перевода, то он, естественно, исходит из типа предполагаемой аудитории и возрастных параметров «своего» читателя (например, младший и средний школьный возраст). Для разных этносоциумов одно и то же историческое событие часто оказывается связанным с разными географическими координатами. Ситуация полного поражения после периода успеха для двух культур описывается как день Бородина и meet one’s Waterloo . В. Набоков, сохранив национальную принадлежность Мыши, изменяет хронологию событий: если завоевание Англии Вильгельмом Завоевателем относится к 1066 году, то для русского ребенка более актуальным событием будет война 1812 года с Наполеоном. «Может быть, она не понимает по-русски, – подумала Аня. – Вероятно, это французская мышь, оставшаяся при отступлении Наполеона» (Л. Кэрролл. Аня в стране чудес. Перевод В. Набокова).
Стремясь Колумбом» (Л. Кэрролл. Алиса в Стране Чудес. Перевод А. Кононенко). Решив, что Мышь имеет французское происхождение, Алиса обращается к ней с фразой из учебника французского языка «Qu est ma chatte?». В России большинство современных школьников изучает английский язык, поэтому в переводе А. Кононенко Алиса разговаривает с Мышью по-английски, прибегнув к часто используемой в обучении лексикограмматической структуре:сохранить авторскую игру с историческими датами, переводчик А. Кононенко делает Мышь англичанкой , которая к тому же приплыла с Колумбом : «Может она по-русски не понимает,» – подумала Алиса. – «Тогда, скорее всего, она англичанка, наверное приплыла вместе с
Поэтому она ляпнула первое, что ей пришло на ум из её учебника по английскому языку: «I am a cat!» (Л. Кэрролл. Алиса в Стране Чудес. Перевод А. Кононенко). Ср.: И она подумала: У ... э ... ма шат? Это была первая фраза в ее учебнике французского языка: «Где моя кошка?» (Л. Кэрролл. Алиса в Стране Чудес. Перевод А.А. Щербакова).
Различные формы адаптации и/или упрощения текста, к которым так или иначе вынужден прибегать переводчик, чтобы уменьшить количество затрачиваемых читателем усилий, призваны уменьшить возможный когнитивный диссонанс. К подобным стратегиям относятся попытки снять противоречия между правилами логики, соотнести объект и категорию, установить сце- нарий ситуации и порядок совершения нормативно закреплённых действий, поскольку текст выступает как носитель социальных отношений.