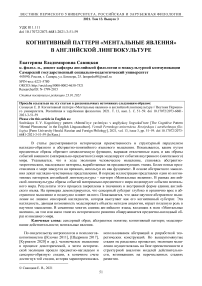Когнитивный паттерн "ментальные явления" в английской лингвокультуре
Автор: Савицкая Екатерина Владимировна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 3 т.13, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются историческая преемственность и структурный параллелизм наглядно-образного и абстрактно-понятийного языкового мышления. Показывается, каким путем предметные образы обретают символическую функцию, выражая отвлеченные идеи, и как образы событий внешнего (материально-предметного) мира моделируют события внутреннего (ментального) мира. Указывается, что в ходе эволюции человеческое мышление, становясь абстрактно- теоретическим, наследовало паттерны, выработанные на предшествующих этапах. Более новые представления о мире зиждутся на прежних, используя их как фундамент. В основе абстрактного мышления лежат наглядно-чувственные представления. В порядке иллюстрации представлен один из когнитивных паттернов английской лингвокультуры - паттерн «Ментальные явления». В рамках английской лингвокультуры образы событий материально-предметного мира моделируют события ментального мира. Результаты этого процесса закреплены в значениях и внутренней форме единиц английского языка. На примерах демонстрируется, что сенсорный субстрат глубоко и органично врос в абстрактное мышление и подспудно влияет на него. Показывается, что даже научное абстрактное мышление не лишено сенсорной наглядности, которая выступает как его когнитивный субстрат. Эта наглядность, дающая возможность моделировать объекты методом аналогии, играет полезную роль в научном мышлении. В семантике многих единиц английского языка, входящих в поле «Ментальные явления», на том или ином этапе их исторического развития обнаруживается предметно-наглядный образ из внешнего мира.
Сенсорный образ, абстрактное понятие, когнитивный паттерн, моделирование действительности, ментальные явления
Короткий адрес: https://sciup.org/147236763
IDR: 147236763 | УДК: 811.111 | DOI: 10.17072/2073-6681-2021-3-51-59
Текст научной статьи Когнитивный паттерн "ментальные явления" в английской лингвокультуре
Современное абстрактно-теоретическое мышление унаследовало ряд схем, сформировавшихся на более ранних исторических этапах и обретших характер архетипов; нынешние представления о реальности основаны на предыдущих, служащих когнитивным фундаментом для новых представлений. Абстрактные понятия имеют в своей основе наглядно-чувственные образы мира.
С целью анализа вышеупомянутых схем в нашей статье используется термин когнитивный паттерн , который определяется как «совокупность совместных взаимно-сопряженных отношений между различными объектами, явлениями, свойствами и процессами окружающего мира <...> Когнитивные паттерны – это модели познания действительности <...>, базовые интуитивные репрезентации (образы), которые задают специфическое ви́дение действительности, являются точкой отсчета в осмыслении мира» [Баксанский, Гнатик, Кучер 2010: 5].
С лингвистических позиций проблема когнитивного субстрата языкового мышления рассматривалась исследователями, которые занимались вопросами соотношения значения и внутренней формы языковых единиц, начиная с трудов А. А. Потебни ([2019, 2020] и др.). Он перевел в лингвистическое русло гегелевский философский термин внутренняя форма содержания , обосновал необходимость использования термина внутренняя форма слова и ввел его в широкий научный обиход.
В XXI в. проблематика преемственности конкретно-наглядного и абстрактно-теоретического языкового мышления представлена в трудах отечественных ([Болдырев 2006; Рязанова 2008; Березина 2013; Сова 2014; Семененко 2017; Калмыкова 2019] и др.) и зарубежных лингвистов ([Gibbs 2006; Gleitman, Papafragu 2018; Clement 2017] и др.). Рассматриваются виды отношений между значением и внутренней формой языковых единиц, их взаимодействие в ходе языкового мышления и общения, отражение истории культуры в наслоениях семантических пластов языковых единиц и другие подобные вопросы. Наша работа написана в русле этого научного направления.
Материалом исследования послужил фрагмент английской лингвокультуры. Мы рассмотрели входящий в нее когнитивный паттерн «Ментальные явления». Образы событий материально-предметного мира моделируют и символизируют события духовного мира. Результаты этого процесса закреплены в значениях, внутренней форме и сочетаемости английских языковых единиц, именующих умственные действия и состояния.
В ходе эволюции мышления люди постепенно избавились от наивного отождествления внешнего (материального) мира и внутреннего (когнитивного) мира и научились различать их. Внешний мир они воспринимали с помощью своего сенсорного аппарата и потому имели о нем наглядное представление. Что касается внутреннего мира, он, как известно, не может непосредственно восприниматься органами чувств; люди делали выводы о его существовании исходя из человеческого поведения, то есть опосредованно. У людей возникли представления о рациональных, эмоциональных и интенциональных состояниях, действиях, событиях внутреннего мира, ждавших осмысления и именования.
Не располагая арсеналом средств научного исследования, древние люди использовали единственную доступную возможность: они стали осмысливать явления внутреннего мира сквозь призму известных им событий внешнего мира. На принципе моделирования неизвестного с помощью известного основан такой метод познания, как проведение аналогии – вписывание новооткрытых феноменов в имеющиеся когнитивные форматы; это начальный этап познания, на котором появилась историческая преемственность и возник структурный параллелизм предметно-практической и ментальной деятельности.
В рамках религиозных верований ментальный мир человека был назван душой. Душа понималась фактически как предмет, состоящий из материи, но не грубой, а тонкой – чего-то вроде выдыхаемого пара. Пар почти неосязаем и почти невидим, но только почти: он всё-таки немного осязаем и видим. Такое представление о психике было наивной попыткой компромиссного решения когнитивного противоречия между реальностью и нематериальностью психики. Представить себе нечто реальное, но не материальное было не по силам неискушенному сознанию древних людей. На этой почве возникли английские наименования, увязывающие ментальность с дыханием:
‒ spirit / sprite ‘дух’ от лат. spirĭtus ‘дух’ от лат. spiro ‘дышу’;
‒ Breath of God (= Holy Spirit) ‘Дух Святой’ от breath ‘дыхание’;
‒ ghost ‘дух’ от древнеангл. gāst ‘дыхание’.
В представлениях древних людей душу вне тела можно было видеть:
‒ spectre / specter ‘привидение’ от лат. spicĕre ‘зрить’;
‒ vision ‘виде́ние’ от лат. v isǐo / visiōnem ‘ви́дение; зрение’;
‒ wraith ‘привидение’ от гэльск. arrach ‘прозрачное облачко пара’;
‒ apparition ‘призрак’ от лат. apparĕre ‘являться, появляться на виду’;
‒ phantom / phantasm ‘виде́ние’ от греч. phainein ‘быть / становиться видимым’;
‒ shadow / shade в значении ‘дух, призрак’, производном от значения ‘тень’.
В этих примерах тоже наблюдается попытка совместить материальное с нематериальным: из всех физических свойств у приВИДения имеется только способность быть ВИДимым, что отражено во внутренней форме его названий, но у него почти нет веса (оно пари́т над землей), плотности и осязаемости (оно проходит сквозь предметы), почти нет других свойств материального тела.
Здесь важна оговорка «почти». В русле наивных представлений дух, душа не могут быть полностью нематериальными – ведь тогда их невозможно было бы моделировать, а следовательно, и осмысливать. Ментальный мир немыслим без сенсорных (прежде всего визуальных) представлений о нем. Невозможно осмыслить пустоту; ведь обыденное сознание воспринимает пустоту как ничто.
Таковы традиционные многовековые представления о психике, которые закреплены в английском языке. Следует подчеркнуть: здесь мы говорим не о текстах, а о системе языка, о том, что́ содержится в языковых единицах – словах и устойчивых словосочетаниях. Именно через них, через их значения, внутреннюю форму и сочетаемость, вышеупомянутые представления влияют на картину мира и мировоззрение англосаксов и передаются в поколениях.
До сих пор многие представители английской лингвокультуры, хотя они и получили современное естественно-научное образование, верят в бессмертную душу, общение с призраками и т. п. Но даже те, кто в это не верит, словесно формулируют свои мысли так, как будто они в это верят, потому что, согласно гипотезе лингвистической относительности (см.: [Sapir 2014], [Whorf 2020]), выражать мысли таким способом предписывает им родной язык. Например:
‒ to keep body and soul together ‘выживать’ (букв. ‘держать тело и душу вместе’);
‒ to give up the ghost / to yield one’s breath ‘испустить дух’;
‒ to join the silent majority ‘отправиться к праотцам’;
‒ to pour out one’s soul ‘излить душу’ и др.
Даже у атеистов этот когнитивный паттерн подспудно влияет на восприятие мира – столь велика сила слова, заставляющая людей мыслить в этом формате.
Но если, по логике этого формата мышления, психика есть в некотором смысле материальное образование, то внутри себя она тоже организована по образцу материального мира. Такие представления естественны для наивного сознания. Дефицит фактов компенсируется воображением, которое при этом выполняет не развлекательную и не эстетическую, а познавательную функцию.
С целью составить представление о строении психики народ создал ее визуальную модель. Подчеркнем: в обыденном сознании визуальная модель ‒ это не абстрактная научная схема, а жизненно-наглядная «картина».
Проведем параллель. По свидетельству К. И. Чуковского, когда родители рано начинают разъяснять ребенку тайну его рождения, сообщая, что сначала он «жил у мамы в животике», ребенок тут же принимается реконструировать ситуацию, исходя из того житейского опыта, который у него уже имеется; так, он фантазирует, что в животике у мамы у него был домик, садик, в котором он гулял и играл, и т. д. и т. п. [Чуковский 2019]. По закону Геккеля [Haeckel 2016], который действует не только в области биологической наследственности, но и в сфере культурного наследия, в филогенезе происходило то, что в свернутом виде повторяется в онтогенезе. Подобно вышеупомянутому ребенку мыслили в давние времена люди взрослые, но в ряде отношений столь же наивные. Они представляли себе, что духовный мир – это пространство, имеющее измерения, что в нем находятся различные предметы и происходят разнообразные события, аналогичные событиям внешнего мира. Согласно данным английского языка, ментальный мир обладает некоторыми пространственными характеристиками:
глубиной :
‒ the depths of smb.’s soul, deep / shallow mind, the bottom of smb.’s soul (в глубине души, глубокий / поверхностный ум, мелкая душонка, на дне души);
высотой :
‒ high soul, elevated soul / mind, high / low intellect / intelligence (высокий / возвышенный дух, низкие помыслы, высокий / низкий интеллект); шириной :
‒ broad / narrow mind, vast / big soul, narrow / petty soul (широта помыслов / души, широкий горизонт мышления, бескрайний дух).
Согласно распространенному представлению, ментальный мир человека расположен не в мозгу, а в сердце и имеет центр ( in / from the core of smb.’s soul, in the heart of hearts – в самом сердце) и периферию ( at the back of smb.’s mind – на задворках ума / души).
Понятия об умственных операциях возникли на основе понятий о действиях внешних, пред- метно-практических. Это видно на примере английских названий арифметических действий:
-
‒ to add ‘складывать’ от лат. ad- ‘при-’ + dare ‘ставить’, букв. ‘приставлять’;
-
‒ to subtract ‘вычитать’ от лат. sub- ‘от-’ + trahĕre ‘тащить’, букв. ‘оттаскивать’;
-
‒ to multiply ‘умножать’ от multi ‘много’+ plexĕre ‘плести’, букв. ‘переплетать’;
-
‒ to divide ‘делить’ от лат. dis- ‘рас-’ + visāre ‘членить’, букв. ‘расчленять’;
-
‒ to extract a root ‘извлекать корень’ от л ат ex- + trahĕre + root , букв. ‘корчевать’;
-
‒ to square / to cube ‘возводить в квадрат / в куб’, букв. ‘квадратить / кубить’;
-
‒ to exponentiate ‘возводить в степень’ от ex + ponĕre ‘двигать’ букв . ‘выдвигать’;
-
‒ to compute ‘считать’ от лат. com- ‘ со- ’ + putāre ‘ставить’, букв. ‘ставить в ряд’.
Внутренняя форма этих слов наглядно демонстрирует, какими путями возникали в диахронии соответствующие понятия и наименования. Согласно М. М. Маковскому [2007], современное значение слова – это вершина большой вертикали исторических наслоений лексической семантики, которая возникла в результате развития семантической структуры (спектра значений) слова. В ходе анализа абстрактных значений, спускаясь по этой вертикали в историю языка, на той или иной «глубине» мы обнаруживаем конкретно-наглядную образную основу рассматриваемых нами абстракций.
В порядке иллюстрации приведем историческую вертикаль английского существительного interest (по данным словарей [KED], [OED]): ‒ “интерес; прибыль” (XX в.);
-
‒ “денежный заём” (XVI в.);
-
‒ “корысть; забота” (XV в.);
-
‒ “важность, значимость” (XIV в.);
-
‒ англо-норманд. “центральное положение” (XII в.);
-
‒ лат. inter est (презенс 3-го лица ед. числа от inter esse “находиться посреди”).
Другие ментальные действия тоже обозначаются словами, восходящими к названиям предметно-практических действий, например:
-
‒ синтезировать : to synthesize от древнегреч. syn- ‘со-’ + tithenai ‘ставить’, букв. ‘составлять’;
-
‒ анализировать : to analyse от древнегреч. ana- ‘раз-’ + lyein ‘класть’, букв . ‘разлагать’;
-
‒ предполагать : to suppose от лат. sub- ‘под-’ + ponĕre ‘класть’, букв. ‘подкладывать’;
-
‒ полагать : to assume от лат. ad- ‘при-’ + sumĕre ‘брать’, букв. ‘прибирать’;
-
‒ размышлять : to brood ‘вынашивать мысль’ от to brood ‘высиживать (птенцов)’;
-
‒ рассуждать : to consider от лат. considerāre ‘пристально смотреть, наблюдать’;
-
‒ делать выводы : to deduce от лат. de- ‘вы-’ + ducĕre ‘водить’, букв. ‘выводить’;
‒ обдумывать : to ponder от лат. ponderāre ‘взвешивать’ etc.
У тематической группы английских глаголов, обозначающих понимание, постижение, усвоение сведений, в качестве внутренней формы выступает семема ‘брать, хватать’ и тематически близкая семема ‘принимать внутрь, глотать’:
‒ to get it / to grasp / to catch ‘угадать, ухватить смысл’ (букв. ‘поймать’);
‒ to comprehend ‘постичь’ от лат. com- ‘со’ + prehendĕre ‘хватать’;
‒ to conceive ‘уяснить’ от лат. con- ‘со-’ + cipĕre ‘захватывать’;
‒ to take in ‘усвоить’ (букв. ‘принять внутрь’); ‒ to swallow ‘уразуметь’ (букв. ‘проглотить’).
Что касается английского глагола to understand ‘понять’, в его составе, по данным этимологического словаря [OED], префикс under- означает не ‘под’ (как в настоящее время), а (устар.) ‘посреди’. С учетом того, что -stand означает ‘стоять, находиться’, мы убеждаемся в том, что понимание сущности объекта представлено в данном случае как пребывание в его центре.
Упомянем в этой связи и английское прилагательное clever ‘умный’ от ( диал .) cliver ‘искусный в хватании, ловле’ (ср. рус. хват ‘ловкач’; ловкий от ловить ). Проведение параллели между пониманием и хватанием подчеркивает, что понимание – это усвоение сведений, их включение в чей-л. когнитивный мир.
Глаголы, которые входят в другой синонимический ряд, – to penetrate, to permeate, to pervade – буквально означают ‘проникать внутрь’, а фигурально – ‘постигать глубинный смысл че-го-л., переходить с уровня явления на уровень сущности’. Научное познание нередко метафорически представляется как прорыв ( break in ), как погружение в глубину ( immersion, going deeply in ). Ср. также superficial / deep / profound knowledge (поверхностные / глубокие знания). Таким путем высвечивается еще один аспект феномена понимания, а именно приближение к скрытой сущности объекта.
Английское слово intelligence ‘разум’ восходит к причастию настоящего времени intellĭgens от латинского глагола intellegĕre “понимать, постигать”, а английское слово intellect – к причастию прошедшего времени intellēctus этого же латинского глагола, в котором произошла фонетическая ассимиляция: его первоначальной формой была форма inter legĕre ‘читать между (строк)’. Здесь понимание представлено как умение находить имплицитный смысл.
Взаимное наложение вышеуказанных семантических моделей феномена понимания позволя- ет убедиться, что в английском языке понимание подается как проникновение внутрь объекта, в самую его сердцевину, поиск и схватывание скрытого там «предмета» (сущности), расположенного в этой сердцевине.
Рассмотрим в этой связи также средства выражения понятий созидания и уничтожения. Они относятся и к внешнему (материальному), и к внутреннему (духовному) миру. Наблюдения показывают, что соответствующие английские названия имеют предметно-физический, конкретно-наглядный когнитивный субстрат, хотя они могут обозначать абстрактные ментальные действия.
В английском языке отражено складывавшееся в течение многих веков интуитивное представление британского народа о законах сохранения материи и энергии; по этим законам, нечто не возникает из ничего и не превращается в ничто. Во внутренней форме английских наименований созидание образно представлено не как сотворение чего-либо из ничего, а как формирование, т. е. придание той или иной формы (структуры) тому, что до сих пор существовало, но не имело данной формы:
‒ to erect ‘сооружать’ от лат. e- ‘вы-’ + rectus ‘прямой’, т. е. букв . ‘выпрямлять’;
‒ to build ‘созидать’ от древнеангл. byldan ‘строить дом’ от герм. * bōþlą ‘жилище’;
‒ to design ‘конструировать’ от лат. designāre ‘маркировать; чертить, рисовать’;
‒ to make ‘делать’ от древнеангл. macian ‘придавать форму; строить’;
‒ to fabricate ‘фабриковать’ от лат. fabricāre ‘конструировать, строить’;
‒ to construct ‘изготавливать’ от лат. con- ‘со-’ + struĕre ‘строить’;
‒ to form / to shape ‘формировать, придавать форму’.
Далее, созидание представлено в английском языке как выдвижение объекта с заднего плана на передний:
‒ to produce от лат. pro- ‘вперед’ + ducĕre ‘водить’, букв. ‘выводить вперед’;
‒ to frame ‘сооружать’ от древнеангл. fram ‘вперед’, т. е. букв. ‘выдвигать’;
‒ to project от лат. pro- ‘вперед’ + iacĕre ‘толкать’, т. е. букв. ‘выталкивать’;
‒ to spawn от лат. expandĕre ‘метать икру’ от лат. ex- ‘вы-’ + pandĕre ‘лить’;
‒ to generate ‘порождать’ от лат. generāre ‘давать начало роду; рожать’;
‒ to (pro)create от лат. pro- ‘вперед’ + creāre ‘выталкивать; рожать’;
‒ to bring forth ‘создавать’ (т. е. букв. ‘выводить вперед; рожать’).
Кроме того, созидание мыслится как воздвижение (вертикализация):
to originate ‘созидать’ от лат. oriri ‘поднимать’ от индоевр. *heri- ‘поднимать’ to put up to build up / to make up / to set up ‘созидать’ (т. е. букв. ‘воздвигать’)
Выдвижение предмета на передний план и его переведение из лежачего положения в стоячее ведут к тому, что он становится видимым наблюдателю. Возникновение предмета из небытия приравнивается к его появлению в поле зрения. Объективный процесс (созидание) представлен в виде субъективного процесса (попадания на глаза). Не случайно глагол to appear ‘появляться’ имеет два значения: 1) ‘to start to exist’ (начать существовать); 2) ‘to start to be seen or to be present’ (начать быть видимым / присутствовать) [CALD].
С субъективной точки зрения возникнуть – значит попасть в поле зрения. Люди воспринимают всё со своих позиций. Язык антропоцентричен.
Кроме того, созидание представлено как соединение частей в целое:
‒ конституировать : to constitute от лат. con- ‘со-’ + stituĕre < statuĕre ‘ставить’, букв. ‘составлять’;
‒ синтезировать: to synthesize от древнегреч. syn- ‘со-’ + tithenai ‘ставить’, букв. ‘составлять’;
‒ собирать: to assemble от старофранц. assembler ‘собирать вместе, соединять в одно’;
‒ сочинять: to compose от лат. com- ‘со-’ + ponĕre ‘ставить’, букв. ‘составлять’;
‒ устанавливать: to establish от лат. stabilīre ‘делать прочным’, букв. ‘скреплять’.
Итак, судя по внутренней форме слов и устойчивых оборотов речи, в представлении англосаксов вещи возникают не из ничего, а из чего-то. Исключение составляют лишь обороты to cause to be (букв. ‘каузировать быть’) и to bring into being / existence (букв. “привести в бытие, вызвать из небытия”), внутренняя форма которых подразумевает, что вещам придается не форма, а само бытие. Однако даже в этом случае творец приводит ( brings ) вещь в зону бытия. Этот глагол имплицирует наличие зоны небытия, из которой приводится вещь. Вопреки обыденным представлениям, небытие не есть ничто. Категория «ничто» не задействована и в данном случае.
Многое из сказанного выше об обозначении созидания относится и к обозначению уничтожения. Единицы английского языка, обозначающие его, своей внутренней формой имплицируют деструктуризацию объекта, лишение структуры (формы), превращение в аморфную массу (субстанцию):
‒ to demolish от лат. de- ‘раз-’ + molīri ‘строить’, букв. ‘расстраивать, разрушать’;
‒ to destroy от лат. de- ‘раз-’ + struĕre ‘строить’, букв. ‘расстраивать, разрушать’;
‒ to pulverize от лат. pulvis ‘пыль; порошок’, букв. ‘превращать в пыль / порошок’;
‒ to liquidate от лат. liquīdus ‘жидкий’, букв. ‘превращать в жидкость’;
‒ to vaporize от лат. vapor ‘пар’, букв. ‘превращать в пар’;
‒ to ruin от лат. ruĕre ‘валить; разбивать на куски’;
‒ to break down ‘ломать вдребезги’;
‒ to tear down ‘рвать на куски’.
При совершении перечисленных действий форма предмета разрушается, он утрачивает свою идентичность и качественную определенность, но остается то, из чего он состоял, т. е. субстанция (пыль, порошок, жидкость, пар, дребезги / осколки, руины, куски). Здесь нет превращения в ничто. И только у глаголов to annihilate ‘аннигилировать’ / to annul ‘аннулировать’ (от лат . ad- ‘к’ + nihil / nullum ‘ничто’) и производных существительных annihilation ‘аннигиляция’ / annulment ‘аннулирование’ в порядке исключения внутренняя форма выражает превращение чего-то в ничто. Все эти слова относятся к разрушению не только материальных, но и ментальных объектов – таких как планы, замыслы, чаяния, надежды и т. п. Образы внешнего мира выступают в качестве когнитивного субстрата для презентации событий мира внутреннего.
Особая тема – это английские фразеологические единицы, описывающие события духовного мира. Согласно их внутренней форме, люди выходят за пределы своего внутреннего мира ( to go out of one’s mind ‘сойти с ума’, to be beside oneself ‘быть вне себя’) или, наоборот, замыкаются в нем ( to withdraw into oneself ‘уйти в себя’, to hide in one’s inner self ‘замкнуться в себе’ ); подвергаются обыскам в душе ( I the Lord search the heart and examine the mind ‘Я, Господь, проникаю в сердце, испытую душу’. Иеремия 17:10); падают в ямы ( to fall into a rage / fury / panic / temper / tantrum / melancholy – впасть в ярость / панику / гнев / уныние); взвинчивают что-либо в своей голове ( to screw up / to pluck up oneself – взвинчивать / будоражить себя); погребают и вновь оживляют что-л. ( to bury / to revive one’s hope / aspiration – похоронить / возродить надежду); хранят что-л. в своем внутреннем мире ( to have / keep smth. in mind – иметь что-либо на уме / держать что-либо в голове) и совершают множество иных вещей – таких, которые происходят и в материальном мире. Материальный мир выступает как модель духовного мира.
Итак, с точки зрения обыденного сознания духовный мир – это такое пространство, в котором кто-то что-то хватает, что-то к чему-то приставляет и оттаскивает, что-то куда-то вставляет и вынимает, вталкивает и выталкивает, куда-то проникает и откуда-то выбирается, что-то строит и разрушает и т. д.
Отмеченная закономерность обнаруживается не только при сопоставлении внутренней формы (или этимологического значения) английских наименований ментальных явлений с их нынешним значением, но и при рассмотрении их сочетаемости. Например, по данным комбинаторного словаря [BBI] и интернет-источников, мысли ( ideas, thoughts ) приходят в голову ( come into / enter smb.’s head; occur от лат. ob- ‘при-’ + currĕre ‘бежать’), хранятся в мозгу ( are stored in smb.’s brain ), проносятся в голове ( run through / pass through / cross smb.’s head ), сверкают в уме ( flash in smb.’s mind ), взрывают кому-л. мозг ( blow smb.’s brain ), крутятся в голове ( run around in smb.’s head ), вынашиваются в голове ( are nurtured in smb.’s head ), созревают ( mature ); бывают прозрачными ( transparent ), яркими ( bright ), тяжелыми ( heavy ). Всё это – характеристики материальных предметов. Мысли фигурально репрезентируются как материальные предметы.
Не только обыденное, но и профессиональное мышление не обходится без предметно-наглядных аналогий. Приведем примеры.
В так называемой топической модели З. Фрейда [2019] психика представлена как трехслойный сандвич («Сверх-Я» ‒ «Я» – «Оно»). Л. С. Выготский [2015] сравнивал психику с колодцем, на срубе которого располагаются высшие психические функции, а на дне – животные инстинкты. Он же [2016] писал об облаке мысли, которое проливается дождем слов.
Образная основа обнаруживается не только в англоязычных текстах по психологии, но и в психологических терминах (в системе английского языка). Многие термины психологии имеют предметно-наглядную образную основу (образная основа – это разновидность внутренней формы, присущая языковым единицам с переносным значением [Мелерович 1983: 81]). Приведем примеры:
‒ bifurcation of motives ‘раздвоение мотивов’ (от лат. bi- ‘два’ + furсa ‘вилка’);
‒ temperament (от лат. temperamentum ‘микстура, смесь веществ’);
‒ motive (от лат. motus ‘движение’ от индоевр. * meue- ‘толкать’);
‒ boomerang effect (от bumarini из австралийского языка даруг);
‒ personality ‘личность’ (от лат. persona ‘маска’);
‒ character (от древнегреч. kharakter ‘клеймо, метка’);
‒ phlegmatic (от древнегреч. phlegma ‘лимфа’) etc .
Как видим, даже научное абстрактное мышление бывает не свободно от сенсорной наглядности, которая выступает как его когнитивный субстрат. Эта наглядность, дающая возможность моделировать объекты методом аналогии, играет полезную роль в научном мышлении. Говоря в целом, какую бы единицу английского языка, входящую в семантическое поле «Ментальный мир», мы ни приняли к рассмотрению, на том или ином уровне исторической глубины обнаруживается конкретно-наглядное значение, например: ‒ to hesitate ‘пребывать в нерешительности’ от лат. hesitāre ‘шататься’;
‒ to excite ‘волновать’ от лат. excitāre ‘поднимать, приводить в движение’;
‒ touchy ‘эмоционально ранимый’ от to touch ‘трогать’;
‒ to be moved ‘быть растроганным’ от to move ‘двигать’;
‒ to feel ‘чувствовать’ от древнеангл. felan ‘щупать’;
‒ to solve ‘решать’ от to solve букв. ‘растворять’.
Как видим, сенсорный субстрат глубоко и органично врос в абстрактное мышление и подспудно влияет на него. Это одно из проявлений упоминавшейся выше исторической преемственности и структурного параллелизма конкретно-наглядного и абстрактно-понятийного мышления.
Associate Professor in the Department of English Philology and Cross-Cultural Communication Samara State University of Social Sciences and Education
ResearcherID: N-1799-2015
Submitted 23.01.2021
Список литературы Когнитивный паттерн "ментальные явления" в английской лингвокультуре
- Баксанский О. Е, Гнатик Е. Н, Кучер Е. Н. Нанотехнологии, биомедицина, философия образования в зеркале междисциплинарного контекста. М.: URSS, 2010. 224 с.
- Березина О. А. Конфигурация как когнитивный субстрат безличных структур // В мире научных открытий. 2013. URL: http://naukarus. com/konfi-guratsiya-kak-kognitivnyy-substrat-bezlichnyh-struk-tur (дата обращения: 12.03.2014).
- Болдырев Н. Н. Языковые категории как форма знания // Вопросы когнитивной лингвистики. 2006. № 2. С. 5-22.
- Выготский Л. С. История развития высших психических функций. М.: Юрайт, 2015. 359 с.
- Выготский Л. С. Мышление и речь. Психологические исследования. М.: Нац. образование, 2016. 368 с.
- Калмыкова О. С. Въелось в мозг: как метафоры влияют на наши решения // НОЖ. Интеллектуальный журнал о культуре и обществе. 09.11.2019. URL: https://knife.media/watch-your-mouth/?utm_source=pulse _mail_ru&utm_referrer=-https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru (дата обращения: 12.02.2020).
- Клочко В. Е. Эволюция психологического мышления: этапы развития и закономерности усложнения // Сибирский психологический журнал. 2011. № 40. С. 136-151.
- Курпатов А. В. Мышление. Системное исследование. М.: Капитал, 2020. 672 с.
- Маковский М. М. Лингвистическая генетика: Проблемы онтогенеза слова в индоевропейских языках. М.: Изд-во ЛКИ, 2007. 208 с.
- Мелеpович А. М. Образная основа и внутренняя форма фразеологических единиц // Лексические и грамматические компоненты в семантике языкового знака: сб. науч. тp. Воронеж: Изд-во Воpонеж. гос. ун-та, 1983. С. 80-86.
- Потебня А. А. Мысль и язык. М.: Юрайт, 2019. 238 с.
- Потебня А. А. Символы и мифы. М.: Юрайт, 2020. 257 с.
- Резанова З. И. Внутренняя форма слова как объект метаязыковой рефлексии // Язык и культура. 2008. № 1. С. 78-85.
- Семененко Н. Н. Когнитивный субстрат паремий в фокусе задач моделирования паремиче-ской семантики // Вестник Вятского государственного университета. 2017. № 2. С. 46-51.
- Сова Л. З. У истоков языка и мышления. Генезис африканских языков. М.: Директ-медиа, 2014. 383 с.
- Фрейд З. Психология бессознательного / пер. с нем. А. М. Боковикова. СПб.: Питер, 2019. 528 с.
- Чуковский К. И. От двух до пяти. М.: Азбука, 2019. 576 с.
- Шадриков В. Д. Эволюция мышления и появление слова // Мир психологии. 2017. № 4(92). С.11-21.
- BBI - The BBI Combinatory Dictionary of English / M. and E. Benson, R. Ilson. Amsterdam: John Benjamin's Publishing Co., 1990. 286 p.
- CALD - Cambridge Advanced Learner's Dictionary / ed. by P. Gillard. Cambridge University Press, 2003. 1549 p.
- Clement M. Relationship between Language and Thought // Language and Thought. February 3, 2017. URL: https://www.translit.ie/relationship-lan-guage-thought/ (accessed 17.02.2020).
- Gibbs R. W. Cognitive Linguistics and Metaphor Research: Past Successes, Skeptical Questions, Future Challenges // Educational Development Innovations in Applied Linguistics Research. 2006. Vol. 22. P. 1-20.
- Gleitman L., Papafragou A. New Perspectives on Language and Thought // K. Holyoak and R. Morrison, eds. Cambridge Handbook of Thinking and Reasoning. 2nd ed. New York: Oxford University Press. P. 1-81.
- Haeckel E. Anthropogenie. Vol. 1. Leipzig: Engelmann, 1877. Scanning Date: Jan. 27, 2016. URL: http://biodiversitylibrary.org/page/3146520 (accessed: 20.01.2021).
- KED - A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language / E. Klein. Amsterdam, London, New York, Elsevier Publishing Co., 2013. 844 p.
- OED - Online Etymology Dictionary of English / ed. by D. Harper. Athens, Ohio University Press, 2003. URL: http://www.etymonline.com/ (accessed 17.06.2020).
- Sapir E. Language. An Introduction to the Study of Speech. Reissue Edition. Cambridge University Press, 2014. 272 p.
- Whorf B. L. Language, Thought and Reality. Reissue Edition. Cambridge (Mass.), MIT Press, 2020. 278 p.