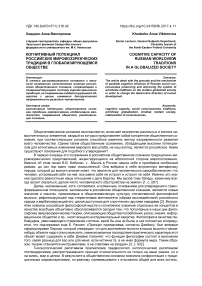Когнитивный потенциал российских мировоззренческих традиций в глобализирующемся обществе
Автор: Ходорко Анна Викторовна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Сообщения
Статья в выпуске: 4, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основания и механизм возможного когнитивного влияния российского общественного сознания, сохраняющего и совершенствующего систему мировоззренческих традиций, на современное глобализирующееся общество с целью изменения деструктивной направленности развития человечества.
Когнитивный потенциал, общественное сознание, традиции, мировоззрение, глобализация, менталитет, современное общество, релятивизация сознания
Короткий адрес: https://sciup.org/14941244
IDR: 14941244 | УДК: 140.8(470+571):316.42 | DOI: 10.24158/fik.2017.4.11
Текст научной статьи Когнитивный потенциал российских мировоззренческих традиций в глобализирующемся обществе
ТРАДИЦИЙ В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ
Общечеловеческое сознание многоаспектно, включает множество различных и вполне самостоятельных элементов, каждый из которых представляет собой конкретное общественное сознание, при соответствующих условиях способное изменить вектор направленности развития всего человечества. Одним таким общественным сознанием, обладающим высоким потенциалом для когнитивных изменений мирового масштаба, на наш взгляд, является российское. Какие существуют основания для подобного утверждения?
В первую очередь это сохранение в российском общественном сознании традиционно-мировоззренческих представлений, акцентирующихся на абсолютной стороне миропостижения. Именно об этом писал В.В. Бибихин: «…Мысль в России нашла себя и приобрела особенный размах, до сих пор мало нами осмысленный. Она вобрала в себя встроенную метафизику народа, который до всякого знания знает, что земля не для человеческого самообеспечения; что человек, устроивший себя на ней, все равно себя не устроит и устроит не себя. Именно это знание сделало ревностным наше отношение к делу Европы. Мы вызов тому Западу, каким ему всегда грозит оказаться, делом чисто человеческого обустройства на земле» [1, с. 267].
Далее, несомненным, хотя, согласимся, и косвенным, основанием для утверждения о трансформационном потенциале, заложенном в российском общественном сознании, являются новые значения и смыслы, привносимые в общечеловеческую культуру отечественной философской мыслью, рефлексирующей над стереотипами менталитета (образа мыследействий) российского народа и вербализирующей его, делая доступным для «прочтения» другими народами [2]. Восприятие новизны российской философской мысли и когнитивное усвоение отдельных ее концептов в качестве всеобщих объективно обусловливаются сегодня тем, что популярные в наши дни философские (мировоззренческие) теории, описывающие общества потребления, риска, знания, информационное общество и пр., носят всецело инструментальный характер. Философия в качестве любомудрия, увенчивающего стремление к истине, какой бы она ни была, в них полностью игнорируется, что подчеркивал еще Б. Рассел: «Принцип прагматизма, согласно Джеймсу, был впервые сформулирован Пирсом, который утверждал, что для достижения ясности в наших мыслях о каком-нибудь объекте надо только выяснить, какие возможные последствия практического характера этот объект может содержать в себе. Джеймс поясняет, что функция философии состоит в выяснении того, какая разница для вас или для меня, если истинна та, а не иная формула мира. Таким образом, теории становятся инструментами, а не ответами на загадки» [3, с. 932].
Гносеологический релятивизм прагматизма предвосхитил онтологический релятивизм постмодернизма, распространившего принцип относительности не только на наши знания, но и на жизнь, мир в целом. В результате в общественном сознании возникла конфронтация с традиционными мировоззрениями, по-разному стремившимися к отысканию общей для всех истины, ведь «…как легко потерять истину, как легко за нее принять ложь, когда в общественной философии эпохи постмодерна отсутствует само понятие истины» [4, c. 102].
Мировоззренческо-гносеологическому релятивизму современной западно-философской мысли, на наш взгляд, предшествовал выбор неверной методологической парадигмы, т. е. несоответствие комплекса принимаемых в качестве верных и используемых в дальнейшем методов объекту исследования – миру в целом или его сегментам. По мысли А.Х. Султанова, этому способствовала слепая вера в науку (сциентизм), породившая особенный тип философствования, задачей которого стало обобщение результатов частнонаучной деятельности и приведение их в систему, что, как предполагалось, должно предоставить всем разнообразным наукам некие универсальные методологические принципы. Мало того, что такие принципы оказались невостребованными со стороны самой науки, стремительно дифференцирующейся на относительно независимые друг от друга области исследований, но и само существо философии «не имеет ничего общего с подобной практикой. Возможно, именно такое поверхностное отождествление ее с методологией науки привело к сильному падению значимости философии. На самом деле, что это за любовь к мудрости, если она сводится к пересказу на свой лад добытого вне ее. Философия исконно устремлена к самому сущему – к его бытию, поэтому неслучайно прежде она была одновременно и поэзией, неотделимой от стихии языка» [5, с. 94–95]. Ясно, что такие явления, как философия и методология, науке не нужны, вызывают с ее стороны отторжение, что в целом способствует росту общечеловеческого мировоззренческого кризиса.
Таким образом, и сохраняющаяся преемственность российских мировоззренческих традиций в общественном сознании, и востребованность концептуализаций этих традиций и сознания в отечественной философии дают основание утверждать, что российское общественное сознание способно изменить вектор направленности развития всего человечества (при этом мы совсем не отрицаем наличие таких возможностей и в общественном сознании других народов). Этот вывод полностью соответствует «мультилинейной схеме» развития цивилизаций, «согласно которой всемирная история не укладывается в рамки однонаправленного процесса, задаваемого нормативами и признаками европейского жизненного уклада, но представляет собой единство многообразия независимых и провиденциально связанных между собой культур. Значимость мультилинейной историософской установки в том, что она при осмыслении истории отдает предпочтение тому, что отличает цивилизации друг от друга и препятствует их смешению и тем самым позволяет расценивать в качестве основного достоинства культуры ее своеобразие, автохтонность формирования и “персональное” выражение» [9, с. 254]. При этом мультилиней-ная историософская установка совсем не предполагает утверждение принципа разобщенности культур. В ней отдается должное и тенденции к универсализации общественной жизни в масштабах всего человечества.
В.С. Соловьев писал, что в идеале отношения между индивидуальными членами общества должны быть братскими. Для описания должной связи индивида с целыми общественными сферами (местными, национальными, вселенской) ученый ввел понятие живого сизигического отношения как связи «активного человеческого начала (личного) с воплощенною в социальном духовно-телесном организме всеединою идеей» [10, с. 545]. Представляется, что и отношения между народами, обладающими уникальными социокультурными характеристиками, следует строить на основании сизигических связей. Но для их установления необходимо формирование «всеединой идеи» для человечества, и в связи с этим возникают трудности, порой кажущиеся непреодолимыми. Каков механизм образования общечеловеческих идей, основывающихся на приемлемых для всех целях, ценностях, смыслах? Думается, в качестве такого механизма можно рассматривать только «эволюционный процесс универсализации социокультурной жизни, не опосредуемый искусственными воздействиями, инициируемыми властными структурами» [11, p. 110]. Последнее совсем не означает дистанцирования властных институтов от участия в этом процессе, поскольку они должны обеспечить условия для него. Здесь доминирующей становится проблема воспитания и образования гражданина как самостоятельно мыслящей личности.
Ссылки:
-
1. Бибихин В.В. Другое начало. СПб., 2003.
-
2. Лагунов А.А. Русская религиозная философия в контексте социальных реалий современного мира : монография.
-
3. Рассел Б. История западной философии : в 3 кн. СПб., 2001.
-
4. Сила нации – в силе духа. Книга размышлений Святейшего Патриарха Кирилла. Минск, 2009.
-
5. Султанов А.Х. Слово и термин: пролегомены к философии имени : монография. М., 2007.
-
6. Гулыга А.В. Русская идея и ее творцы. М., 2003.
-
7. Там же. С. 24–25.
-
8. Там же. С. 27.
-
9. Семушкин А.В. Проблематичность евразийского мировидения // Семушкин А.В. Избранные сочинения : в 2 т. Т. 2. М., 2009.
-
10. Соловьев В.С. Смысл любви // Соловьев В.С. Сочинения в 2 т. Т. 2. М., 1990.
-
11. Boyer P. Tradition as truth and communication: a cognitive description of traditional discourse. Cambridge, 2006.
Ставрополь, 2007.
Список литературы Когнитивный потенциал российских мировоззренческих традиций в глобализирующемся обществе
- Бибихин В.В. Другое начало. СПб., 2003.
- Лагунов А.А. Русская религиозная философия в контексте социальных реалий современного мира: монография. Ставрополь, 2007.
- Рассел Б. История западной философии: в 3 кн. СПб., 2001.
- Сила нации -в силе духа. Книга размышлений Святейшего Патриарха Кирилла. Минск, 2009.
- Султанов А.Х. Слово и термин: пролегомены к философии имени: монография. М., 2007.
- Гулыга А.В. Русская идея и ее творцы. М., 2003.
- Семушкин А.В. Проблематичность евразийского мировидения//Семушкин А.В. Избранные сочинения: в 2 т. Т. 2. М., 2009.
- Соловьев В.С. Смысл любви//Соловьев В.С. Сочинения в 2 т. Т. 2. М., 1990.
- Boyer P. Tradition as truth and communication: a cognitive description of traditional discourse. Cambridge, 2006.