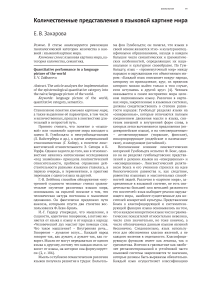Количественные представления в языковой картине мира
Автор: Захарова Е.В.
Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 3 (17), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются реализации гносеологической категории количества в наивной / языковой картине мира.
Языковая картина мира, категория количества, семантика
Короткий адрес: https://sciup.org/14219715
IDR: 14219715
Текст научной статьи Количественные представления в языковой картине мира
Становление понятия языковая картина мира , а также выделение её параметров, в том числе и количественных, прошли в лингвистике длительный и непростой путь.
Принято считать, что понятие о «языковой» или «наивной» картине мира восходит к идеям В. Гумбольдта и неогумбольдтианцев (Л. Вайсгербера и др.), к идеям американской этнолингвистики (Г. Хойер), к гипотезе лингвистической относительности Э. Сепира и Б. Уорфа. Однако задолго до того, как в этнолингвистике начались интенсивные исследования «под знамёнами» принципа лингвистической относительности, проблема отражения действительности разными языками ставилась, в первую очередь, в герменевтике, в практике переводов с одного языка на другой.
Г.-В. Лейбниц способом обнаружения «внутренней сущности человека» считал сравнительное изучение различных языков мира, основываясь на скрытой посылке о том, что человеческая натура постоянна и мышление одинаково. Он фактически предложил пути анализа, которыми спустя два столетия воспользовался Ф.Леви-Брюль.
И.-Г. Гердер утверждал, что мышление, в сущности, идентично говорению, а потому меняется от языка к языку и от народа к народу. «Человеческий дух мыслит при помощи слов. Что такое мышление? – Внутренняя речь… Говорение – думание вслух… Каждый народ говорит так, как думает, а думает так, как говорит. Мысли не могут передаваться от одного языка к другому, потому что каждая мысль зависит от языка, на котором она формулируется» [2, с. 186].
Мысль о глубоком семантическом различии языков получила развитие в трудах Вильгель- ма фон Гумбольдта; он полагал, что языки в своей основе являются этно- и культурноспецифичными образованиями, находя в каждом большое число семантических и грамматических особенностей, определяющих их национальное и культурное своеобразие. По Гумбольдту, язык – «промежуточный мир» между народом и окружающим его объективным миром: «Каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, из пределов которого можно выйти только в том случае, если вступаешь в другой круг» [4]. Человек оказывается в своем восприятии мира целиком подчиненным языку. Различия в картинах мира, закрепленные в языковых системах, должны свидетельствовать о степени развитости народов: Гумбольдт разделял языки на «совершенные», которые отличаются полным соединением движения мысли и языка, синтезом внешней и внутренней форм слова, в которых легко вычленяются предложения (индоевропейские языки), и на «несовершенные» – агглютинирующие (тюркские, финские), инкорпорирующие (индейские и палеоазиатские), изолирующие (китайский).
Несомненное влияние лингвистических воззрений Гумбольдта испытал Ф. Боас, однако он не разделял гумбольдтовских представлений о делении языков на «совершенные» и «несовершенные». Лингвистический релятивизм Боаса и его учеников строился на идее биологического равенства и, как следствие, равенства языковых и мыслительных способностей людей. Различия в «картине мира», закрепленные в языковой системе, не есть свидетельство большей или меньшей развитости его носителей: язык выбирает реалии окружающего мира, наиболее существенные для носителей конкретной культуры. Представление Боаса о классифицирующей и систематизирующей функции языка основывалось на том, что в каждом конкретном языке число грамматических показателей относительно невелико, число слов значительно, но тоже конечно, а число обозначаемых данным языком явлений бесконечно. Следовательно, язык используется для обозначения классов явлений, а не каждого явления в отдельности. Классифицирующую функцию имеет как лексика, так и грамматика. Именно в грамматике как наиболее регламентированной и устойчивой части языковой системы закрепляются те значения, которые должны быть выражены обязательно. Каждый язык осуществляет классификацию по-своему. Например, носитель русского языка или другого европейского не может употребить название предмета, не указав, имеется ли в виду один такой предмет или некоторое их множество: нельзя употребить слово книга «ни в каком числе», любая форма слова книга содержит обязательную информацию о числе. Набор грамматических категорий конкретного языка красноречиво свидетельствует о том, какие значения на определенном историческом этапе развития этого языка были выделены как наиболее существенные и закрепились в качестве обязательных.
Языковая картина мира – одно из важных звеньев гипотезы лингвистической относительности Сепира-Уорфа, разработанной в 30-е годы ХХ века. Можно выделить два основных предположения теории.
Первое предположение. Язык, будучи общественным продуктом, представляет собой лингвистическую систему, в которой человек воспитывается и мыслит с детства. Овладевая языком, человек усваивает и определенное отношение к миру, видит его под углом зрения, «навязанным» структурами языка, принимает картину мира, отраженную в родном языке. Поскольку языки по-разному классифицируют окружающую действительность, то и их носители относятся к ней неодинаково: «Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим родным языком. Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что они самоочевидны; напротив, мир предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим сознанием, а это значит в основном – языковой системой, хранящейся в нашем сознании» [8]. Язык хранит в себе определенную систему ценностей, выражаемые в нем значения имеют оценоч-ность и складываются в коллективную философию, свойственную всем носителям данного языка.
Второе предположение. В зависимости от условий жизни, от общественной и культурной среды различные группы могут иметь разные языковые системы. Поскольку язык представляет строго организованную систему, все компоненты которой (звуковой состав, словарный фонд, грамматика) находятся в жёстких иерархических отношениях, спроецировать систему одного языка на систему другого, не исказив при этом содержательных отношений между компонентами, невозможно. Понимая лингвистическую относительность именно как невозможность установить покомпонентные соответствия между системами разных языков, Сепир ввел термин «несоизмеримость» языков (incommensurability). Языковые системы отдельных языков не только по-разному фиксируют содержание культурного опыта, но и предоставляют своим носителям не совпадающие пути осмысления действительности и способы ее восприятия. «Миры, в которых живут различные общества, – это разные миры, а вовсе не один и тот же мир с различными навешанными на него ярлыками. Мы видим, слышим и вообще воспринимаем окружающий мир именно так, а не иначе главным образом благодаря тому, что наш выбор при его интерпретации предопределяется языковыми привычками нашего общества» [Сепир 1993]. Человек живёт в своего рода странной интеллектуальной тюрьме, стены которой возведены структурными правилами его языка; факт «заключения» осознаётся только при столкновении с другой культурой. Аналогичным образом высказывались и другие лингвисты. Л. Витгенштейн: «Границы моего сознания очерчены моим языком». Или: «Он [язык – Е. З.] позволяет человеку объединить весь опыт в единую картину мира и заставляет его забыть о том, как раньше, до того, как он изучил язык, он воспринимал окружающий мир» [3, с. 51].
Инструментом «построения» особо языковой картины мира той или иной общности, по Уорфу, служат не только слова и грамматические показатели, но и избирательность языковых правил (то, как те или иные единицы могут сочетаться между собой, какой класс единиц возможен, а какой не возможен в той или иной грамматической конструкции).
Безусловно, основные положения гипотезы приводятся нами в несколько упрощённом виде; японский лингвист Д. Мацумото высказал мысль о том, что научные работы по исследованию гипотезы лингвистической относительности «выглядят так, как будто это не одна и та же гипотеза, – на самом деле в них рассматривается несколько научных гипотез Сепира-Уорфа» [5]. Гипотеза лингвистической относительности сохраняет статус гипотезы до настоящего времени: хотя её сторонники утверждают, что она ни в каких доказательствах не нуждается, ибо зафиксированное в ней утверждение является очевидным; а противники считают, что она и не может быть ни доказана, ни опровергнута (с точки зрения строгой методологии научного исследования это выводит ее за границы науки).
Идеи, сопоставимые с гипотезой лингвистической относительности, разрабатывались в русле двух разветвлений неогумбольдтиан-ства – европейском (Л. Вейсгербер, И. Трир, Х. Глинц, Г. Ипсен и др.) и американском (куда кроме Э. Сепира и Б. Уорфа, входили Д. Хаймз и проч.). Схожие идеи высказывались А. Ко-жибским, К. Айдукевичем, Л. Витгенштейном, Л. В. Щербой и другими. В своё время из гипотезы лингвистической относительности в язы- кознании выросли новые направления. Например, представительницами феминистской критики языка (Р. Лакофф, С. Тремель-Плетц, Л. Пуш, Ю. Кристева, Е. А. Земская, М. А. Китайгородская, Н. Н. Розанова) на основании гипотезы было выдвинуто требование реформирования языка для преодоления заключенной в нем гендерной асимметрии, поскольку язык, в силу своего андроцентризма, навязывает говорящим на нем людям картину мира, в которой женщинам отводится подчиненная роль [Кириллина 2002. Электронный ресурс].
Неоднократно предпринимались попытки эмпирической проверки гипотезы. Примером тому могут быть психолингвистические эксперименты Дж. Люси, изучавшего влияние грамматических категорий на языковое поведение носителей английского языка и носителей юкатекского майя, распространенного в Мексике. Исследования показали: в языках майя, в отличие от английского, количественные конструкции строятся с использованием так называемых классификаторов (счётных слов) – особого класса служебных единиц, которые присоединяются к числительному, показывая, к какому классу относятся исчисляемые предметы (в русском языке сходные функции выполняют выделенные слова в выражениях типа триста голов скота, пятнадцать штук яиц, двадцать человек студентов ). Как и во многих других языках мира, использующих классификаторы, существительные в майя делятся на классы на основе таких признаков, как размер, форма, пол и ряд других. Например, для того чтобы выразить значение ‘три дерева’ , строится конструкция “дерево три штуки-длин-ной-цилиндрической-формы”, ‘три коробки’ предстают как “картонка три штуки-прямо-угольной-формы”. Кстати, исследования показали, что существительные с предметным значением вызывают у носителей английского и майя разные ассоциации. Названия физических объектов ассоциируются у носителей английского языка прежде всего с их формой и размером, а у носителей майя – с веществом, из которого они состоят, или с материалом, из которого они сделаны; это различие объясняется тем, что за форму и размер в юкатекском майя «отвечают» классификаторы, а сам предмет осмысливается в картине мира майя как аморфный фрагмент некоторой субстанции. Подобные различия в количественных характеристиках тех или иных предметов действительности говорят о различных способах категоризации действительности.
М. Коул, В. Д. Шарп, Дж. Глик, М. Херсковиц, С. Скриб-неру исследовали различия мыслительных процессов у представителей разных культур. Они предположили, что «культурные различия в области мышления больше осно- вываются на различиях ситуаций, к которым приложимы те ли иные когнитивные процедуры, нежели на существование процедуры у одной культурной группы и ее отсутствии у другой» [2, с. 159].
В зарубежной лингвистике описанию языковой картины мира посвящены работы основателей когнитивного направления Р. Лан-гакера, Л. Талми, Р. Джэкендоффа, а также работы семантистов Дж. Лакоффа, Ч. Филлмора. Исключительное место занимают все исследования А. Вежбицкой. Исследованию языковой картины мира посвящены исследования российских лингвистов. Л.В. Щерба считал необходимым отграничивать «обывательские» и «научные» понятия, тем самым относил их к разным картинам – наивной и научной. Особенностям русской языковой картины мира посвящены работы отечественных лингвистов: представителей российской этнолингвистической школы Н.И. и С.М. Толстых (опыт изучения языковой картины мира, присущей славянским народам, положен в основу многотомного словаря «Славянские древности»), недавние работы представителей московской семантической школы Ю. Д. Апресяна (1986), В.Ю. Апресян (2006), Т. В. Булыгиной (1997), А. Д. Шмелева (2002; 2002а), Н. Д. Арутюновой (1987), Анны А. Зализняк (2003; 2005), И. Б. Левонтиной (1999), Е. В. Рахилиной (1994; 2000), Е. В. Урысон (1999; 2003), Е. С. Яковлевой (1994). Особого внимания заслуживают работы В. Н. Топорова (1983).
Под языковой картиной мира принято понимать определенный способ категоризации действительности, совокупность представлений о мире, исторически сложившуюся в сознании языкового коллектива и отраженную в языке. Естественные языки не передают действительность непосредственно (такой, какая она есть), а задают определённый способ её восприятия и организации. Носители разных языков воспринимают мир несколько по-разному, через призму культурных, этнических особенностей, выделяют значимые в контексте данной культуры реалии. Наивные представления о мире находят отражение в языковой картине мира. По выражению вайсгербера, словарный запас конкретного языка включает в целом вместе с совокупностью языковых знаков также и совокупность понятийных мыслительных средств, которыми располагает языковое сообщество; и по мере того, как каждый носитель языка изучает этот словарь, все члены языкового сообщества овладевают этими мыслительными средствами; в этом смысле можно сказать, что возможность родного языка состоит в том, что он содержит в своих понятиях определенную картину мира и передает ее всем членам языкового сообщества.
Языковую картину мира нередко называют «наивной» в том смысле, что во многих существенных моментах она отличается от «научной» картины мира. Отражённые в языке наивные представления отнюдь не примитивны: во многих случаях они не менее сложны и интересны, чем научные: в наивной картине мира можно выделить наивную этику и психологию, наивную геометрию, наивную физику пространства и времени. Мир, воспринимаемый носителем любого языкового сознания, значительно сложнее, чем мир, описанный формальным языком, например, мир чисел.
Носитель языка расчленяет мир на ситуации, выделяет в нём предметы, фиксирует отношения, свойства, признаки, которые помещаются в некую систему типов, классов, в своего рода систему координат. Помимо названных «крупных» классов (предметов, свойств, отношений, обстоятельств и т. д.), в языковом сознании объективно существуют более «мелкие». Например, словари употребляют в толкованиях самые разные подклассы предметов: лица, животные, артефакты; разделяют вещи по назначению: посуда, одежда, мебель. Таким образом, конкретные реалии окружающего мира воспринимаются вместе с наложенной на них сеткой типов. По замечанию Л. Теньера Мысль может охватить всю сложность мира, только накинув на него сетку общих идей, называемых мыслительными категориями [7]. Выделение типов или категорий, составляющих картину мира – естественная задача конкретных лингвистических исследований. Материалом для реконструкции языковой картины мира служат только факты языка, а именно: «лексемы, грамматические формы, словообразовательные средства, просодии, синтаксические конструкции, фраземы, правила лексико-семантической сочетаемости и т. п.» [1, с. 34].
Современные лингвистические и культурологические исследования языковой картины мира условно можно разделить на два направления. Цель первых: собственно воссоздание собственно языковой картины мира, на основании системного анализа лексики определенного языка реконструируется система представлений, отраженных в конкретном языке, безотносительно к тому, являются они универсальными или специфичными. Цель вторых: исследовать понятия, характерные для данной культуры, данной языковой картины мира. Как правило, такие понятия плохо или вообще непереводимы на язык другой культуры: переводной эквивалент либо вообще отсутствует (например, понятия характерные для русского менталитета – тоска, надрыв, авось, удаль, воля, задушевность), либо такой эквивалент в принципе имеется, но он не содержит именно тех компонентов значения, которые являются для данного слова специфичными (душа, судьба, счастье, пошлость) [Зализняк Анна]. Как неоднократно отмечалось лингвистами, «не всё, что может быть выражено на одном языке, может быть выражено (без добавлений и пропусков) на другом» [2]. «В разных языках слова, обозначающие одни и те же понятия, в большинстве случаев различаются семантической ёмкостью, содержат больше или меньше понятийного материала, сформированного в результате отражения в сознании окружающего мира под воздействием природных, экономических, культурных, исторических особенностей. Особенно показательны в этом плане абстрактные понятия, которые составляют основу культуры, так как именно они хранят в себе знание» [9]. В последние годы оба направления интегрируются с целью воссоздания более полной языковой картины мира.
Язык по своей природе антропоцентричен, этно- и социоцентричен: не существует без человека, он находится внутри человека, в его сознании, памяти, отражает культурные, национальные особенности и вместе с тем меняет свои очертания с каждым движением мысли, с каждой новой социально-культурной ролью. «Сама природа естественного языка такова, что не отличает экстралингвистической реальности от психологической и от социального мира носителей языка» [6, с. 5]. Поэтому «антропоцентричность описания языка должна быть его главной доминантой: в языковой картине мира нельзя «упустить» информацию, которая значима для человека» [2].
Как известно, традиция антропоцентризма была заложена ещё в античности Сократом, затем пережила несколько рождений в эпоху Возрождения, Нового времени. В настоящее время идея антропоцентризма затрагивает разные области человеческого знания, в лингвистике идеи антропоцентризма нашли отражение в трудах Р. Якобсона (1957), Э. Бен-вениста (1958), Ю. Д. Апресяна (1986), Н. Д. Арутюновой (1988) и др.
Список литературы Количественные представления в языковой картине мира
- Апресян Ю.Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира//Семиотика и информатика. Вып. 28. М.: ВИНИТИ, 1986. С. 5 -33.
- Вежбицкая А. Семантические примитивы//Семиотика (сб. переводов). М.: Радуга, 1983. 636 с.
- Витгенштейн Л. Голубая книга/Пер. с англ.. Людвиг Витгенштейн: Человек и мыслитель. -М.: 1993.
- Гумбольдт, В. фон О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества//Гумбольдт В. фон Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 2001. С. 35-298.
- Мацумото Д. Культура и язык. СПб: Питер. 2003 //Сайт «Политическая психология»проект кафедры Политических наук РУДН URL:http://shulenina.narod.ru (дата обращения: 14.02.07)/-
- Падучева Е.В. Феномен Анны Вежбицкой//Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1997. С. 5-32.
- Теньер Л. Основы структурного синтаксиса/Пер. с франц. В.Г. Гака. М.: Прогресс, 1988. 656 с.
- Уорф Б. О двух ошибочных воззрениях на речь и мышление, характеризующих систему естественной логики, и о том, как слова и обычаи влияют на мышление // Наука и языкознание. Перевод Е. С. Кубряковой и В.П. Мурат [Электронный ресурс] // Мир языка. Персональный сайт профессора Курдюмовой. URL: // http://yazyk.net/index.php?option=com_content&task= view&id=59&Itemid=38 (Дата обращения 18.03.07).
- Чернейко Л.О. Абстрактные и отвлечённые существительные и их отношение к категории числа//Языковая система и её развитие во времени и пространстве: Сборник научных статей к 80-летию проф. К.В. Горшковой. М.: Изд-во МГУ, 2001. С. 467-487.