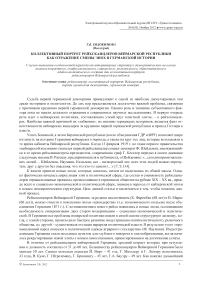Коллективный портрет рейхсканцлеров Веймарской Республики как отражение смены эпох в германской истории
Автор: Евдокимова Татьяна Васильевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4 (18), 2012 года.
Бесплатный доступ
С целью выявления особенностей перехода от авторитарных структур к демократическим на основе анализа возрастного, конфессионального, социального, регионального, образовательного, идейно-политического состава дан коллективный портрет рейхсканцлеров Веймарской республики
Рейхсканцлер, коллективный портрет, веймарская республика, первая германская демократия, германская империя
Короткий адрес: https://sciup.org/14821785
IDR: 14821785
Текст научной статьи Коллективный портрет рейхсканцлеров Веймарской Республики как отражение смены эпох в германской истории
Судьба первой германской демократии принадлежит к одной из наиболее дискутируемых тем среди историков и политологов. До сих пор представляется достаточно важной проблема, связанная с причинами крушения первой германской демократии. Однако роль и значение субъективного фактора пока не нашли должного отражения в современных научных исследованиях. В первую очередь речь идет о веймарских политиках, составлявших узкий круг властной элиты, – о рейхсканцлерах. Наиболее важной причиной их «забвения», по мнению германских историков, является факт ответственности веймарских канцлеров за крушение первой германской республики и приход Гитлера к власти.
Успех Боннской, а затем Берлинской республики (после объединения ГДР и ФРГ) позволяет шире взглянуть на историю Германии веймарского периода, а также на круг тех лиц, которые возглавляли в то время кабинеты Веймарской республики. Когда 13 февраля 1919 г. во главе первого правительства «веймарской коалиции» оказался первый рейхсканцлер социал-демократ Ф. Шейдеман, именовавшийся в то время рейхсминистром-президентом, современник граф Г. Кесслер передал в своем дневнике следующее мнение В. Ратенау, предпринимателя и публициста, о Шейдемане: «...сегодня время маленьких людей… Шейдеман, Науманн, Кюльман; все – низкорослый лес: всех этих людей можно перепутать друг с другом без опасения, что это кто-то заметит...» [7, S.134].
К власти пришли новые люди, которые, казалось, ничем не выделялись из общей массы. Однако фактически началась циркуляция элит в политической сфере, где состав и сменяемость рейхсканцлеров отражали важные процессы, происходившие в германском обществе на рубеже XIX – XX вв., прежде всего в социально-экономической и политической сфере, знаменуя переход от кайзеровской эпохи к новым демократическим структурам. Цель данной статьи и заключается в том, чтобы показать данный процесс.
Рейхсканцлеров Веймарской Германии, за редким исключением (К. Ференбах (68 лет) и В. Маркс (60 лет)), можно отнести к поколению эпохи «грюндерства» (т.е. экономического подъема после объединения Германии 1871 г.). С возникновением нового рейха появились и новые люди, осознававшие необходимость синхронизации двух сторон модернизации – социально-экономической и политической. В Германии все проблемы имперской политики имели в своей основе структурную дилемму, когда, с одной стороны, происходило быстрое развитие индустриально-капиталистического, рыночного общества, а с другой – существовала отсталая иерархия политической власти. В результате этого «промышленный народ оказался в политической одежде аграрного государства» (Ф. Науманн). Индустриализация Германии стала исходным пунктом для глубокого поворота в элитообразовании, когда началось рекрутирование новой элиты с новым самосознанием, ориентированным на достижение успеха.
В отличие от рейхсканцлеров кайзеровской Германии, средний возраст которых при вступлении в должность составлял от 51 до 60 лет, большинству рейхсканцлеров Веймарской Германии было меньше 50 лет. Самым молодым оказался Й. Вирт – 41 год, Г. Мюллеру и Г. Лютеру исполнилось 43 года, В. Куно, Г. Штреземану, Г. Брюнингу – 45 лет, Г.А. Бауэру – 49 лет. Как показал дальнейший анализ, именно их деятельность продемонстрировала определенную динамику, принятие неординарных решений. Те, кому было 60 лет и более, на политической арене играли роль стабилизационного фактора. Так, К. Ференбах был последним председателем кайзеровского рейхстага и первым председателем республиканского рейхстага; кабинеты В. Маркса в условиях стабилизации относились к числу наиболее продолжительно действовавших правительств, выступавших в качестве посредника между различными политическими силами.
Когда пала монархия, и в 1919 г. была провозглашена республика, Ф. фон Папену и К. фон Шлейхеру было около 40 лет. Они заняли пост рейхсканцлера, когда им исполнилось больше 50 лет, имея перед глазами пример неудавшегося эксперимента по строительству первой германской демократии. Только у Ф. Шейдемана возраст вступления в должность и время рождения Веймарской демократии совпали. Ему исполнилось 54 года.
Региональное происхождение рейхсканцлеров Веймарской Германии знаменовало начало процесса мобильности на земельном уровне. В рейхе Бисмарка сохранились государства, которые исторически представляли собой политически обособленные образования (Бавария, Баден, Вюртемберг, Саксония). Существование сильной региональной дифференциации по формам рекрутирования элит в Германии сохранились вплоть до начала Первой мировой войны. Региональная дифференциация Германии препятствовала не только дальнейшему общественному развитию, но также осложнила вообще становление типичных процессов в элитообразовании.
В Веймарской республике по-прежнему большинство рейхсканцлеров были выходцами из Пруссии – Г. А. Бауэр, Г. Штреземан, В. Маркс, Г. Брюнинг, Ф. фон Папен, К. фон Шлейхер. Это отражало давнюю традицию преобладания самой крупной земли Германии, занимавшей 2/3 территории, и ту роль, которую играла Пруссия во вновь созданном рейхе. Правда, политическое развитие пошло иначе, чем первоначально предполагал Бисмарк. Не имперская власть стала средством расширения власти прусской короны, а прусскую корону поставили на службу кайзеру. Ее собственные монархические легитимные основы были поглощены национально-унитаристской властью кайзера. Хотя титул прусского короля и пост прусского министра-президента были нужны для укрепления положения кайзера и правительства рейха, они были поглощены рейхом и для рейха. Это ясно проявляется в положении рейхсканцлера, который одновременно был и прусским министром-президентом. Однако имелись и исключения, когда с января по ноябрь 1873 г. и в 1892 – 1894 гг. пост прусского министр-президен-та занимали соответственно фон Роон и В. Ойленбург. Во время канцлерства М. фон Баденского должность прусского министра-президента оставалась не занятой [6, S. 826]. Не прусский министр-президент определял должность рейхсканцлера и его персональный выбор, а наоборот, должность прусского министра-президента была придатком положения рейхсканцлера.
Не являлось знаковым событием и появление на посту рейхсканцлера В. Куно из Тюрингии и Ф. Шейдемана, уроженца Гессена. Однако пребывание на посту главы рейхскабинетов представителей из южных земель, главным образом, из Бадена (К. Ференбаха, Й. Вирта, Г. Мюллера), свидетельствовало об успехах этих регионов, длительное время находившихся в противостоянии к Пруссии и являвшихся политическими изгоями в государственных структурах рейха в силу отличия по конфессиональному признаку.
Борьба за власть в объединенной Германии, против сепаратистских тенденций и за свободу вероисповедания привели к образованию на юге государства своеобразного «католического гетто», к превращению католиков в людей «второго сорта». Католическая Германия после культуркампфа должна была смириться с местом во вторых-третьих рядах [9]. С начала 1890-х гг. бывшие «враги рейха» в лице Партии центра усилено демонстрировали свою национальную «надежность». Реакция государства была следующей: за 1888–1914 гг. среди 90 государственных деятелей – на уровне рейхсканцлеров, статс-секретарей, прусских министров – только 9 человек являлись католиками.
В Германии во времена бисмарко-вильгельмовского рейха преобладало конфессиональное элитное сознание протестантов [5, S. 161]. Объединение германских земель под прусским, а значит, про- тестантским влиянием рассматривалось в религиозной и исторической перспективе протестантов как завершение начатого при Мартине Лютере «германского пути». Некоторые видели в германском рейхе под господством прусского короля выполнение всемирно-исторического процесса. Создание «Священного евангелического рейха германской нации» (А. Штекер) не только считалось выдающимся политическим успехом государства, но и знаменовало утверждение господствующего положения протестантизма над другими направлениями христианства. «Борьба за культуру», начавшаяся после объединения 1871 г., утвердила в Германии господство протестантизма как оплота свободы, прогресса и модерна по сравнению с второразрядным католицизмом.
И все же узаконенная государством борьба протестантов против католиков еще во времена Бисмарка не принесла ожидаемого успеха. В условиях начавшейся после Первой мировой войны демократизации Германии католическое вероисповедание имели 50% канцлеров (К. Ференбах, Й. Вирт, В. Куно, В. Маркс, Г. Брюнинг, Ф. фон Папен), в то время как евангелистами являлись только 25% (Г. Штреземан, Г. Лютер, К. фон Шлейхер). Ф. Шейдеман считал себя кальвинистом. О конфессио-нальности Г.А. Бауэра нет сведений, Г. Мюллер был неверующим. Отступление последних трех рейхсканцлеров от господствовавшей в Германии веры вполне соответствовало их нетрадиционным политическим взглядам.
Ф. Шейдеман, Г.А. Бауэр, Г. Мюллер были представителями реформистского направления социал-демократической мысли. Клерикально-центристские позиции занимали К. Ференбах, Й. Вирт, В. Маркс, Г. Брюнинг. Другими словами, около 60% рейхсканцлеров принадлежали к тем политическим течениям, представители которых относились, по выражению Бисмарка, к «врагам рейха». В связи с этим демократический потенциал у рейхсканцлеров от СДПГ и ПЦ несомненно присутствовал, и он соответствовал изменениям, происходившим в социальной структуре общества.
Рейхсканцлеры кайзеровской Германии в большинстве своем имели дворянские титулы и звания (с приставкой «фон»). Дворянство, по образному выражению исследователя середины XIX в. Ю. Мё-зера, представляло собой «тело нации» (цит. по: [2, c. 187]). Основой дворянской жизни считалось юнкерское поместье, а главными обязанностями дворян – «копаться в своем поместье, следить за законодательством своей земли и за образованием своих подданных». По сравнению с Западной Европой дворянство Германии как руководящий политический слой общества обладало высокими жизненными способностями. До 1848 г. оно не только сохранило свои господствующие позиции в локальных и региональных рамках, но и служило в качестве резервуара для руководящего состава надрегионального уровня, например офицерского корпуса. Феномен «дворянского ренессанса» на позднем этапе развития XVI в. проявился также после Тридцатилетней войны, Венского конгресса, а также в годы изменения правового положения бисмаркского рейха в 1878 г. Бисмарк сохранил консервативное государство, не препятствуя тенденциям реального социального развития, но дворянство к этому процессу не приобщил, что привело к постоянно увеличивавшемуся разрыву между реальной слабеющей силой дворянства и сохраняющимся политическим весом аристократии. Ставка стала делаться на бюрократию. «Германия, – с тех пор как князь Бисмарк ушел в отставку, – управлялась чиновниками (в духовном смысле этого слова), так как Бисмарк не терпел рядом с собой политических мыслителей, – утверждал М. Вебер. – Как и прежде, Германия сохраняет лучшую в мире военную и гражданскую бюрократию – по незапятнанности, образованности, добросовестности и уму» [1, c. 148]. После свержения Бисмарка рейх знал только один тип правительств – тип зависимого от кайзера «правительства».
Вплоть до 1918 г. ключевые политические решения принимались кайзером и высшими правительственными чиновниками. По мнению германского исследователя Х.-У. Велера, «униформа, сабля, орденская планка оставались до 1918 г. непреходящим символом особого положения бюрократии и значимого положения» [10, S. 858]. В железной сети бюрократии всякая попытка либерализовать императорскую политику была обречена на провал.
Ситуация стала меняться после революции 1918–1919 гг. в Германии. В отличие от рейхсканцлеров кайзеровской Германии, имевших в абсолютном большинстве дворянское происхождение и приставку «фон» с соответствующими сословными привилегиями, среди рейхсканцлеров Веймарской Германии только последние два рейхсканцлера – К. фон Шлейхер и Ф. фон Папен – считались представителями родовой знати, правда, их привилегии, согласно Веймарской конституции, исключались. В соответствии с традициями их отцы являлись военными, т.к. наряду с землевладением составной частью дворянского мировоззрения была идея служения, а если точнее – военной службы, поэтому «милитаристская» составляющая была важной особенностью прусского дворянства. И Па-пен, и Шлейхер, окончив военную академию при Генеральном штабе, были профессиональными военными, что затем существенно сказалось на их деятельности в качестве рейхсканцлеров.
Дело в том, что армия и военные сыграли особую роль в процессе создания единого германского национального государства. «Три войны за объединение» (1864 – 1871 гг.) совершенно изменили общественный микроклимат в Германии. Престиж службы в армии достиг небывалой высоты. Современники считали, что офицерский корпус занимал «первое место в государстве», что он образовал элитарную касту в обществе. В армии оформилась публично признанная функциональная элита. Однако милитаризация в начале 1870-х гг. отличалась от предшествующего ей прусского милитаризма новым качеством: она распространилась на всю гражданскую жизнь, стала составной частью менталитета всего германского общества. Это дало повод Х.-У. Велеру назвать его «социал-милитаризмом».
Самосознание армии в Пруссо-Германии формировалось под влиянием старопрусской военной монархии. Армия понимала себя как «представитель нации». Соответственно, представления элиты сводились к следующему: офицерский корпус притязал на политико-социальное руководство, которое выходило далеко за рамки чисто профессионального понимания своих задач. Военная элита в Германии понимала себя исключительно как властная элита. Долгое время она стремилась сохранить свой конституционный статус, а также общественную исключительность во всех политических случаях [4, S. 207–210]. Первая мировая война привела к изменению конституционных рамок существовавшей политической системы. Переход власти к военным, а потом и к OHL (Oberste Hochleitung – высшее верховное командование) знаменовал усиление политических позиций первых по отношению к гражданскому населению. В правительственной системе рейха в силу конституционного дуализма господствовал ярко выраженный политический дуализм. Однако путь к единству должен был осуществляться только на пути «личного режима». К этому Вильгельм II не был готов. К тому же, тогда отсутствовали конституционные предпосылки. С увеличением проблем среди военного руководства возникла потребность передачи политической власти подлинному «кайзеру» – OHL. Позиции военных усилились после прихода к руководству OHL героев Таннеберга – П. фон Гинденбурга и Э. Людендорфа. Неожиданно это получило плебисцитарную легитимность и, главное, без признания политической ответственности. Так был создан прецедент концентрации в одних руках власти военной и политической.
Руководство OHL первоначально было настроено антипарламентски, но когда летом 1918 г. все надежды на победу исчезли, произошел поворот во взглядах военных. После своего безответственного поведения генеральный штаб перешел к парламентаризации правительства, чтобы сделать его ответственным за поражение в войне. Еще до революции в Германии возник партийнопарламентский государственный режим, но его появление было связано не с внутриполитическим развитием. Толчком извне послужило требование американского президента В. Вильсона «парла-ментаризации» правительства, что было выдвинуто в качестве условия для ведения мирных переговоров. Все это делалось в рамках монархии как признак перестройки конституции. Происшедшие изменения делали неизбежным переход монархически-конституционной системы в русло демократической законности. Рейхсканцлер, зависевший от рейхстага, был несовместим с существовавшей разновидностью конституционной монархии германского образца, поэтому потребовался закон 28 октября 1918 г., согласно которому монархия как правительственная форма исчезла. Устанавливался парламентский контроль над правительством. В дальнейшем военные предоставили «почетное право» заключения «позорного мира» гражданским и вновь появились во главе исполнительной власти в лице Ф. фон Папена и К. фон Шлейхера только уже в условиях симптомов надвигавшегося кризиса Веймарской республики, накануне прихода Гитлера к власти.
Рейхсканцлеры Веймарской Германии, в отличие от рейхсканцлеров кайзеровской Германии, имели иное социальное происхождение. С процессом модернизации началось рекрутирование новой элиты с новым самовоспрятием, связанным с достижением успеха, которая находила возможности для развития в образовании, промышленности, самоуправлении, в то время как до революции дворянство сохраняло свои господствующие позиции в государственном управлении и не допускало ее туда. В новых условиях на смену традиционному оценочному критерию притязаний на должность, связанному с наследованием земли, титулов и т.д., пришел критерий личного успеха в различных сферах жизни.
Появление на посту рейхсканцлера печатника Ф. Шейдемана, сына мебельщика, и учителя Й. Вирта, сына печатника, стало полной неожиданностью как для чиновничьего аппарата, так и для общества в целом. Впрочем, это была неожиданность, как покажет дальнейшее изложение, и для них самих. Однако эта, как казалось, случайность свидетельствовала о рождении новой закономерности: демократизация должна осуществляться на всех уровнях. Случайность не восприняли серьезно, она проявилась только на первоначальном этапе руководства кабинетами. Большинство рейхсканцлеров произошло из семей предпринимателей среднего достатка (Г. Штрезе-ман, Г. Лютер, Г. Брюнинг, Г. Мюллер), интеллигенции (К. Ференбах, В. Маркс), госслужащих разного уровня (В. Куно, Г.А. Бауэр).
Говорить о непрофессионализме политиков, занимавших пост главы кабинета, достаточно спорно. Около 80% из них получили высшее образование в университетах Германии, за рубежом, в военной академии. Пять из двенадцати человек (Й. Вирт, В. Куно, Г. Штреземан, Г. Лютер, Г. Брюнинг) имели ученую степень доктора. Около 50% являлись юристами, что было распространенным явлением среди госслужащих кайзеровской Германии. Например, К. Ференбах служил адвокатом, В. Маркс – судьей, Г. Штреземан – юрисконсультом. Во многом отличный в профессиональном плане путь социализации прошли социал-демократы, не имевшие высшего образования, занимавшие посты в рабочих политических и общественных организациях. Ф. Шейдеман, Г. Мюллер были редакторами социал-демократических газет, Г.А. Бауэр – одним из руководителей профсоюзов. Последнее обстоятельство можно трактовать как связь руководства с массами, наличие большого практического опыта среди тех, кто составлял большинство германского общества – рабочих.
Все рейхсканцлеры имели практику государственного управления на различных уровнях: являлись депутатами рейхстага (Ф. Шейдеман, Г.А. Бауэр, Г. Мюллер, К. Ференбах, Й. Вирт, Г. Штреземан, В. Маркс, Г. Брюнинг), ландтага (К. Ференбах, Г. Брюнинг, Ф. фон Папен); занимали административные должности городского, общегерманского уровня (Г. Лютер). В. Куно принимал участие в управлении крупной торговой компании, К. фон Шлейхер служил в рейхсверминистерстве.
Предложенный коллективный портрет будет явно не полным, если не подчеркнуть, что практически все рейхсканцлеры являлись людьми, воспринявшими начало Первой мировой войны позитивно. Появление единого германского национального государства после длительного периода политической раздробленности немецких государств было связано не с процессом предшествующего складывания политической нации. Оно возникло раньше, чем идея национального единства стала доминирующей в обществе. Национализм местный возвышался над национализмом имперским. В данной ситуации государство взяло на себя роль катализатора объединительного процесса. Национальное государство сложилось в Германии раньше, чем появилась единая нация, что представляло собой длительный процесс. Кайзер черпал свою силу через олицетворение в своем лице национального единства в рейхе. Кайзер опирался не на монархическую, а на национальную, как бы данную взаймы, и демократиче- скую легитимность. Он был представительным органом и интегрирующим началом наконец достигнутого варианта малогерманского (т.е. без участия Австрии) национального единства. Вильгельм II считал своей задачей, где это было возможно, выступать в качестве интегрирующей фигуры и даже, совершая ошибки, рассматривал себя в качестве представителя вильгельмовского общества. Кайзер и национализм находились на одной почве. С отставкой Бисмарка первоначально молодой монарх трудился над тем, чтобы заменить неполную систему, которая существовала в соответствии с основными рангами исполнительной и представительной ветвей власти вместе со своими полюсами рейхсмонарха и рейхсканцлера, на «популярный абсолютизм», в котором Вильгельм II претендовал объединить функции кайзера и канцлера. Однако фактически он играл роль только «теневого кайзера» (Г. Дельбрюк).
Ситуация стала изменяться к 1914 г., когда Вильгельм II, объявляя о вступлении Германии в войну, сказал: «… мы сегодня братья-немцы и только братья-немцы» [3, S. 49]. Фактически провозглашалось, что нет сепаратистских тенденций, классовых, партийных и конфессиональных противоречий. Есть одно единое сообщество – немецкий народ, что получило в дальнейшем название «Volksgemein-schaft» («народное сообщество»). Содержание этого названия в дальнейшем будет изменяться в зависимости от политической ориентации лиц, употреблявших его. В дальнейшем именно национализм стал объединять и массы, и элиту самого разного уровня.
На национальных, патриотических позициях находились и будущие рейхсканцлеры Веймарской Германии. Выделение средств из государственного бюджета на военные нужды одобряли депутаты рейхстага (Ф. Шейдеман, Г.А. Бауэр, Г. Мюллер, К. Ференбах, Г. Штреземан, В. Маркс), правда, позиции некоторых из них впоследствии изменились. В организации военного производства принимал участие В. Куно, в планировании и осуществлении военных действий – К. фон Шлейхер и Ф. фон Папен как профессиональные военные. Г. Брюнинг и Й. Вирт ушли на фронт добровольцами: первый состоял в товариществе военных окопных стрелков и являлся офицером инфантерии, второй – сотрудником Красного креста. Все они не были «душами без Отечества», но это не означало единства их взглядов на проблему будущего Германии, особенно в условиях падения монархии и поражения в Первой мировой войне. Во многом это зависело от партийно-политической ориентации рейхсканцлеров, что стало атрибутом нового демократического германского государства.
Таким образом, сказать о том, что к власти в Веймарской Германии пришли случайные люди, нет оснований. Проблема заключалась в другом: насколько они видели существовавшие проблемы, были готовы их решить и насколько их видение как представителей правящей политической элиты соответствовало взглядам германского общества в целом. В условиях массового общества речь шла о создании массового государства как формы политического волеизъявления масс [12, S. 11]. Первыми это начали осуществлять социал-демократы. На долю этих «маленьких низкорослых людей», к которым относились демократически ориентированные политики, выпала задача, прежде всего, «вытянуть тачку рейха из грязи и ликвидировать войну» [8, S. 172].
Список литературы Коллективный портрет рейхсканцлеров Веймарской Республики как отражение смены эпох в германской истории
- Вебер М. Политические работы (1895 -1919)/пер. с нем. Б.М. Скуратова. М.: Праксис, 2003.
- Мусихин Г.И. Власть перед вызовом современности: сравнительный анализ российского и германского опыта конца XVIII -начала XIX веков. СПб.: Алетейя, 2004.
- Deutsche Quellen zur Geschichte des Ersten Weltkrieges. Darmstadt, 1991.
- Eliten in Deutschland und Frankreich im 19. und 20. Jahrhundert. Strukturen und Beziehungen/Hrsg. u. bearb.
- R. Hudemann. München: Oldenbourg Verlag, 1994. Bd. 1.
- Eliten in Deutschland und Frankreich im 19. und 20. Jahrhundert. Strukturen und Beziehungen/Hrsg.u.bearb.
- R. Hudemann. München: Oldenbourg Verlag, 1996. Bd. 2.
- Huber E. R. Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Stuttgart: Kohlhammer, 1988. Bd. 3.
- Kessler H. Graf. Tagebücher 1918 -1937/Hrsg. v. W. Pfeiffer-Belli. Frankfurt: Insel Verlag, 1961.
- Lademacher H. Philipp Scheidemann//Die deutschen Kanzler von Bismarck bis Schmidt. Koenigstein/Ts., 1985. S. 161-175.
- Morsey R. Die deutschen Katholiken und der Nationalstaat zwischen Kulturkampf und ersten Weltkrieg//Historisches Jahrbuch 90. 1970. S. 31 -64.
- Wehler H.-U. Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Von der "Deutschen Doppelrevolution" bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 1845/49-1914. München: Beck Wildt, 1995. Bd. 3.
- Winkler H.A. Der lange Weg nach Westen. Erster Band. Deutsche Geschichte vom Ende des alten Reiches bis zum Untergang der Weimarer Republik. München: Beck, 2000.
- Witt P.-Chr. Das Zerbrechen des Weimarer Gründungskompromisses (1919 -1923/24). Kleine Schriften. Stiftung Reichspräsident-Frierich-Ebert-Gedenkstätte. Nr. 11. Heidelberg. 1992.