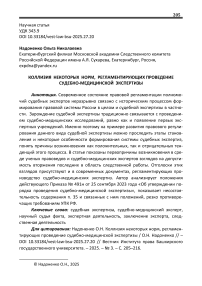Коллизия некоторых норм, регламентирующих проведение судебно-медицинской экспертизы
Автор: Надоненко О.Н.
Журнал: Вестник Института права Башкирского государственного университета @vestnik-ip
Рубрика: Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-разыскная деятельность
Статья в выпуске: 3 (27), 2025 года.
Бесплатный доступ
Современное состояние правовой регламентации полномочий судебных экспертов неразрывно связано с историческим процессом формирования правовой системы России в целом и судебной экспертизы в частности. Зарождение судебной экспертизы традиционно связывается с проведением судебно-медицинских исследований, равно как и появление первых экспертных учреждений. Именно поэтому на примере развития правового регулирования данного вида судебной экспертизы можно проследить этапы становления и некоторые особенности формирования системы судебных экспертиз, понять причины возникновения как положительных, так и отрицательных тенденций этого процесса. В статье показаны первопричины возникновения в среде ученых правоведов и судебно-медицинских экспертов взглядов на допустимость вторжения последних в область следственной работы. Отголоски этих взглядов присутствуют и в современных документах, регламентирующих производство судебно-медицинских экспертиз. Автор анализирует положения действующего Приказа № 491н от 25 сентября 2023 года «Об утверждении порядка проведения судебно-медицинской экспертизы», показывает несостоятельность содержания п. 35 и связанных с ним положений, резко противоречащих требованиям УПК РФ.
Судебная экспертиза, судебно-медицинский эксперт, научный судья факта, экспертная деятельность, заключение эксперта, следственная деятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/142245810
IDR: 142245810 | УДК: 343.9 | DOI: 10.33184/vest-law-bsu-2025.27.20
Текст научной статьи Коллизия некоторых норм, регламентирующих проведение судебно-медицинской экспертизы
Введение. Институт судебной экспертизы является одним из важнейших элементов современной системы правосудия в России. Этапы его развития представляют интерес, так как позволяют проследить ход формирования и понять текущее состояние данного института, а также первопричины ряда негативных тенденций этого процесса.
Считается, что начало развитию системы судебной экспертизы в России было положено Петром I в 1716 году утверждением Воинского устава, в котором предусматривалось привлечение врачей (лекарей) при административном и судебном расследовании ряда преступлений1. Именно поэтому с проведением судебно-медицинских исследований связывается зарождение судебной экспертизы как основного вида деятельности. В то же время и до введения Воинского устава в России выполнялись как судебно-медицинские, так и иные экспертизы, например, по сличению почерка (рукописных текстов), за производством которых обращались к дьякам и подьячим. Имеются сведения о проведении такого исследования в 1508 году [1, с. 19]. В XVII веке в среде судебномедицинских экспертиз формируются судебно-токсикологические, судебнопсихиатрические, судебно-химические экспертизы. Появление же первых экспертных учреждений в России обычно связывают с работой Аптекарского приказа и Ивановской площади. В начале XIX века создаются врачебные управы – Медицинская контора, Физикат. Также в конце XVIII–XIX веке к производству судебных исследований активно привлекают ученых, академиков Академии наук и в первую очередь по вопросам судебной медицины [2]. 28 июля 1912 г. Николаем II принят и утвержден закон о создании первого в России специализированного судебно-экспертного учреждения – кабинета научно-судебной экспертизы при прокуроре Санкт-Петербургской Судебной Палаты [3, с. 53]. Подобные кабинеты были организованы в Москве, Одессе и Киеве. В них проводились как судебно-медицинские, так и все существовавшие в тот период криминалистические экспертизы.
На протяжении всего периода формирования системы судебных экспертиз в первых рядах ее выступали судебно-медицинские исследования, которые не только самостоятельно развивались, но явились родоначальниками других видов судебных экспертиз, например, судебной химии, широко применявшейся при изучении документов и рукописных текстов на предмет их фальсификации. Не удивительно, что и отношение к специалистам судебной медицины, к их функционалу в рамках правосудного следствия ощутимо отличалось от специалистов других направлений.
История и современное состояние правовой регламентации полномочий судебно-медицинского эксперта. В опубликованной в 1910 году работе видный российский ученый Л.Е. Владимиров выдвинул концепцию, в соответствии с которой заключение эксперта не является доказательством и потому не может быть оценено следствием и судом. По его мнению, заключение эксперта являлось научным приговором, а экспертов он разделял на две категории – научные судьи и справочные свидетели. К первой категории относились судебные медики и психиатры, именно их заключения являлись научным приговором, ко второй – все остальные эксперты и их заключения могли оцениваться следственными и судебными органами [4]. Вполне ожидаемо, что его позицию разделяли представители судебно-медицинского сообщества, что нашло свое отражение в нормативных документах, принятых в первые годы советской власти.
Принятое в феврале 1919 года положение о правах и обязанностях государственных медицинских экспертов2 1 утверждало судебно-медицинское заключение обязательным для частных лиц и учреждений всех ведомств (п. 3), а также позволяло и даже обязывало судебно-медицинского эксперта для наиболее правильного разрешения вопросов, поставленных перед ним, «производить осмотры местностей и помещений, опрашивать потерпевших, свидетелей и сведущих лиц и принимать другие меры для выяснения тех обстоятельств, которые имеют существенное значение для выполнения экспертизы» (п. 4). В том случае, если для разрешения поставленных вопросов эксперту было необходимо производство дополнительных вспомогательных исследований внутренностей тела трупа или иных вещественных доказательств, выполняемых другими специалистами, он должен был изъять, упаковать соответствующий материал и направить их соответствующем эксперту (п. 22).
Указанные положения этого документа наглядно демонстрируют совпадение позиции должностных лиц, его составивших, со взглядами Л.Е. Владимирова и в части неоспоримости заключения (то есть научного приговора), и в части вторжения судебного медика в область следственной работы. Более того, в Положении о судебно-медицинской экспертизе 19213 2 года статья № 6 начинается с утверждения о том, что судебно-медицинский эксперт является ни более, ни менее как научным судьей фактов. Присутствуют в нем и указание на обязательность и неоспоримость заключения эксперта, на допустимость проведения им следственных действий в случае необходимости их для дачи полноценных ответов. Однако пересылка изъятых экспертом объектов для вспомогательных исследований другим специалистам закреплена уже не за экспертом, а за судебно-следственными властями (ст. 25).
Принятый в 1922 году Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР предписывал рассматривать заключение эксперта как доказательство, не выделял судебно-медицинские заключения из общего ряда экспертных заключений, никакого разделения экспертов по категориям не делал, наделяя всех экспертов равными правами и обязанностями и не предоставлял судебно-медицинским экспертам права самостоятельного производства следственных действий. Данная редакция была опротестована Народным комиссариатом здравоохранения в ходе пересмотра УПК РСФСР осенью 1922 года [5, с. 40]. Однако все притязания по данным положениями были отклонены Народным комиссариатом юстиции.
Неверно будет полагать, что на этом закончилось противостояние представителей судебно-медицинской экспертизы и уголовно-процессуального законодательства. Отголоски этих взглядов присутствовали и в последующих документах, регламентировавших производство судебно-медицинских экспертиз, а также приобретали новые формы.
Так, с середины XX века представителями судебно-медицинского сообщества активно продвигалась идея о том, что медицинский эксперт является консультантом следователя не только в вопросах экспертизы как таковой, но и в правовой оценке. Сторонниками этой позиции выступали такие известные ученые, как Райский М.И., Сапожников С.Ю., Кубицкий Ю.М., Гамбург А.М. и другие. Так, в предисловии к работе профессора Гамбург А.М. Сапожников С.Ю. определял сущность судебной медицинской экспертизы следующим образом: «именно врачами-экспертами там, где это возможно, должен быть четко определен переход от медицинских данных к правовой трактовке всего происшествия, в чем и состоит сущность судебно-медицинской экспертизы» [6, с. 4]. Данные взгляды нашли свое отражение не только в научных трудах, но и в ведомственных документах, например, в циркулярном письме СССР № 306 от 29.02.1956 г. «О пределах компетенции судебно-медицинского эксперта», разрешающем экспертам медикам давать заключение о роде насильственной смерти (убийство, самоубийство, несчастный случай)41. При этом Верховный Суд СССР и в тот период в своей практике придерживался иной позиции, определяя, что «заключение экспертизы не должно содержать в себе формулировку обвинения, что является компетенцией органов следствия»; «установление особой жестокости убийства как отягчающего вину обстоятельства относится к компетенции суда, а не эксперта» [7, с. 45–46]. Кроме разрешения юридических вопросов «Инструкция о производстве судебно-медицинской экспертизы в СССР», утвержденная Минздравом СССР 13.12.195252, напрямую обязывала судебных медиков «доводить до сведения соответствующих следственных и судебных органов о всех новых данных, выявленных при производстве эксперти- зы и не отраженных ранее в деле, а также в порядке личной инициативы обращать внимание следственных и судебных органов на обстоятельства и факты, имеющие значение для расследования и судебного разбирательства» (п. 42). Обращает на себя внимание формулировка «не отраженных ранее в деле», т.е. эксперт-медик должен был ознакомиться для этого со всеми материалами уголовного дела, а также оценить их, чтобы иметь возможность изложить следователю и суду, что еще, по его мнению, имеет значение для следствия. В этой и в следующей инструкции от 1978 г.61 все также присутствует положение о том, что эксперт обязан делать заявление в процессе судебного разбирательства в том случае, если его заключение неправильно истолковано одной из сторон, т.е. ему предписывалось находиться в суде на протяжении всего судебного слушания (п.п. 39, 2.30 соответственно) и оценивать то, как его заключение воспринято участниками разбирательства. Кроме этого, обе инструкции предписывают обязанность должностным лицам различного уровня осуществлять ведомственный контроль за работой экспертов в форме оценки выполненных экспертиз на предмет их правильности и полноты. А в случае выявления неточностей или сомнительности в результатах заключения обязаны сообщить об этом следственно-судебным органам (п.п. 50д, 54г, 54д инструкции 1952 года и п. 3 инструкции 1978 года). Таким образом, им опять же вменяется в обязанность оценка доказательства, что выходит за пределы процессуальных полномочий этих лиц. Только в приказе Министерства здравоохранения РФ № 407 от 10 декабря 1996 года «О введении в практику правил производства судебномедицинских экспертиз»72 мы наблюдаем отсутствие данных положений, как в рекомендательном, так и обязывающем формате.
До сих пор остается дискуссионным вопрос и о субъекте собирания доказательств. Например, высказываются предложения о предоставлении права сбора доказательств экспертам при производстве судебно-медицинских экспертиз трупа и живых лиц [8, с. 116–117]. Орлов Ю.К. относит всех экспертов к субъектам собирания доказательств, поскольку полагает производство экспертизы следственным действием [9, с. 3]. Ряд ученых считают расширение данного перечня путем включения в него экспертов недопустимым [10, с. 61]. Одна- ко пока ученые дискутируют, судебно-медицинское сообщество для себя решило данный вопрос однозначно. Начиная с положения о судебномедицинской экспертизы 1919 г. и по настоящий день во всех документах, регламентирующих производство судебно-медицинских экспертиз присутствуют пункты, определяющие порядок изъятия экспертом объектов, для производства дополнительных и (или) лабораторных исследований, необходимых для дачи им квалифицированного заключения. По положению от 1919 г. эксперт должен был самостоятельно их изъять, упаковать и направить соответствующему специалисту с утвержденными положением сопроводительными документами. В положениях от 1921 и 1952 года передача материалов на дополнительные и (или) лабораторные исследования возлагалась на следственносудебные органы. Инструкция от 1978 г. и приказ от 1996 г. снова разрешают направление материалов самому эксперту. Кроме этого, в инструкции от 1978 г. основаниями для изъятия и перенаправления объектов от эксперта, которому назначена экспертиза, к другому эксперту для проведения лабораторных исследований указаны не только необходимость разрешения вопросов, поставленных следствием или судом, но и для разрешения вопросов, возникших лично у эксперта (п. 2.19). Для передачи материалов эксперт заполняет специальный бланк, разработанный ведомством, в котором не только сообщает сведения об обстоятельствах дела, результаты своего исследования, но и самостоятельно определяет цели запрашиваемого исследования. Таким образом, опять усматриваются отголоски положений о том, что судебный медик может выходить за пределы поставленной перед ним задачи в рамках экспертной инициативы и оказания помощи следственно-судебным органам. В приказе от 1996 года отсутствует формулировка о возможности разрешения вопросов, возникших лично у эксперта в ходе производства экспертизы. Однако п. 7.1 гласит «Количество и характер изымаемых объектов, а также необходимые виды их исследований определяет судебно-медицинский эксперт, исходя из поставленных на разрешение экспертизы вопросов и особенностей данного случая». На наш взгляд, смысл конструкции «особенностей данного случая» ничем не отличается от «вопросов, возникших лично у эксперта».
Приказом № 346н от 12 мая 2010 г. «Об утверждении порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации» определено, что перечень и количество объектов, виды инструментальных и (или) лабораторных исследований составляет эксперт, исходя из результатов проведенного им исследования, предоставленных ему материалов уголовного дела и заявленной следователем или судом экспертной задачи (п. 50). Сама передача объектов осуществляется экспертом, но по согласованию с органом или лицом, назначившим судебную экспертизу (п. 51).
В настоящий момент документом, регламентирующим деятельность судебно-медицинских подразделений, является приказ № 491н от 25 сентября
2023 года «Об утверждении порядка проведения судебно-медицинской экс-пертизы»8 1 . Его положения в части изъятия объектов и направления их на инструментальные и (или) лабораторные исследования отличаются от положений приказа № 346н отсутствием упоминания о том, что передачу надлежит делать по согласованию с органом или лицом, назначившим судебную экспертизу.
Однако действующий приказ содержит одно весьма примечательное, на наш взгляд, нововведение. В п. 35 приложения № 2 к приказу № 491н речь идет все о тех же изымаемых экспертом объектах для проведения дополнительных инструментальных и (или) лабораторных исследований (п. 32, 34), а не о самостоятельной судебной экспертизе, выполняемой на основании постановления следователя. Данный пункт начинается следующим предложением: «Результаты экспертного исследования биологических объектов от трупа оформляются в виде заключения эксперта » (выделено автором). Далее прописано, что заключение эксперта оформляется в трех экземплярах, так как один остается в архиве структурного подразделения экспертной организации, а два направляются эксперту, инициировавшему производство исследования, для приобщения к его заключению.
Все предыдущие инструкции и приказы предусматривали оформление таких действий эксперта именно как части общего исследования, выполненного в ходе производства экспертизы по постановлению следователя. По сути, следственно-судебные органы получали одно заключение эксперта, выполненное несколькими экспертами. Прямого запрета выполнять одну экспертизу несколькими экспертами в уголовно-процессуальном законодательстве нет. Хотя и такое выполнение судебной экспертизы вызывало в ряде случаев вопросы относительно того, что следствие, защита не имели сведения о всех экспертах, принимавших участие в ее выполнении. Возникал вопрос, не является ли это нарушением п. 2 ч. 1 ст. 198 УПК РФ. Однако, по нашему мнению, подобная исторически сложившаяся практика производства судебно-медицинской экспертизы не нарушала общих правил проведения судебной экспертизы в уголовном процессе.
Совсем иначе обстоит дело с правовой оценкой последней редакции приказа № 491н в части оформления результатов исследования. Теперь следственно-судебные органы, вынося одно постановление с конкретными вопросами, получают от экспертного учреждения два, три и более самостоятельных заключений экспертов. При этом только одно из них составляется на основании постановления следователя или суда. Остальные – на основании направлений, вынесенных экспертом, и по вопросам, поставленным экспертом. Согласно п. 35 приказа № 491н «передача объектов сопровождается заполнением направлений, в которых указывают, кем и когда вынесено постановление (определение) о назначении экспертизы, обстоятельства дела, вопросы, под- лежащие разрешению при проведении дополнительного инструментального и (или) лабораторного экспертного исследования в конкретном структурном подразделении судебно-экспертной организации» (выделено автором).
Проиллюстрируем это конкретным примером. По факту обнаружения трупа гр. Т. с телесными повреждениями в области головы и тела было возбуждено уголовное дело № 12502**********109 1 и назначена судебномедицинская экспертиза, производство которой было поручено ГБУ Республика Марий Эл «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Звениговского РСМО. На разрешение эксперта следователем были поставлены вопросы:
– Какова причина смерти Т.?
– Имеются ли у Т. телесные повреждения? Если да, то каковы их количество, точное расположение, локализация, механизм и время образования?
– Каково количество травмирующих воздействий, какова их последовательность?
– Какова давность причиненных прижизненных повреждений?
– Какова степень тяжести каждого телесного повреждения, имеющихся у Т.?
– Каким предметом могли быть причинены телесные повреждения Т.?
– Принимал ли Т. незадолго до смерти алкоголь, и если да, то какой степени крепости, в каком количестве, за какое время до наступления смерти, какой степени опьянения соответствует обнаруженное количество алкоголя?
– В течение какого времени после нанесения телесных повреждений Т. мог передвигаться и совершать активные самостоятельные действия?
По окончанию экспертного исследования следователь получил пять самостоятельных заключений разных экспертов, за разными номерами. В заключении четырех экспертов было указано, что основанием для производства экспертизы является направление судебно-медицинского эксперта З. и постановление следователя С.
На разрешение экспертов, в частности, были поставлены вопросы (предлагаемый перечень не содержит все вопросы из 4 заключений экспертов):
– Количество травматологических воздействий.
– Механизм образования повреждений.
– Определение количества глюкозы, лактата в крови из синусов твердой мозговой оболочки и в крови из нижней полой вены.
Совершенно очевидно, что эти вопросы не были поставлены перед экспертами следователем. Если бы оформление результатов исследования оставалось частью общего экспертного исследования, то эти вопросы соответствовали бы этапам экспертного исследования. Однако в текущем варианте самостоятельных экспертиз мы приходим к тому, что первый эксперт (эксперт, полу- чивший постановление следователя) сам изъял материал у трупа и сам его направил на экспертизу. Первый эксперт сам назначил новые экспертизы и сам сформулировал перед другими экспертами новые вопросы по своему усмотрению. Таким образом, мы, как и в 1919 г., наблюдаем очередное вторжение судебных медиков в область следственной работы.
Ст. 195 УПК РФ четко и однозначно определяет, кто может назначить судебную экспертизу, и в ней нет упоминания ни об экспертах вообще, ни о судебно-медицинских экспертах в частности. Даже если судебно-медицинские эксперты будут ссылаться на достаточно широко распространенную практику регистрации в экспертном учреждении одного постановления следователя несколькими номерами экспертов, это не то же самое, что выполняется ими сейчас в соответствии с приказом № 491н. Как правило, на одно постановление о назначении экспертизы регистрируют несколько номеров экспертиз по следующим основаниям: во-первых, если вопросы, поставленные в постановлении, относятся к компетенции различных судебных экспертиз, выполняются разными экспертами, не связаны и между собой производством. Во-вторых, если при постановлении предоставлено большое количество объектов исследования, так как в экспертных учреждениях присутствует та же «галочная» система учета работы экспертов. Если эксперт будет заниматься одной многообъектной экспертизой месяц, то по формальной оценке руководства это недостаточная нагрузка. Надо в месяц делать, например, три экспертизы. Поэтому за постановлением с большим количеством объектов регистрируют несколько номеров экспертных исследований. Но при этом основанием производства экспертиз является постановление следователя, а не другого эксперта. Вопросы, которые решаются в ходе выполнения этих нескольких экспертиз, сформулированы следователем, а не другим экспертом. Можно дискутировать, насколько это допустимо, но в любом случае это не нарушает положений УПК РФ, в то время как положение п. 35 приказа № 491н резко противоречит требованиям УПК РФ.
Представляется, что приказ № 491н от 25 сентября 2023 года «Об утверждении порядка проведения судебно-медицинской экспертизы» не соответствует общим требованиям уголовно-процессуального законодательства о проведении судебных экспертиз. Следует пожелать, чтобы п. 35 и все связанные с ним положения приказа № 491н были отменены, как нарушающие законность.