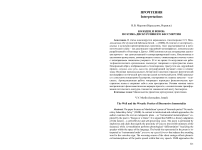Колодец и венок: поэтика дискурсивного бессмертия
Автор: Мерлин Валерий Вольфович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Прочтения
Статья в выпуске: 1 (60), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется воронежское стихотворение О.Э. Мандельштама «Не мучнистой бабочкою белой.» (НМБ). В отличие от интертекстуальных и культурно-ориентированных трактовок, текст рассматривается в мета-поэтическом плане - как реализация «орудийной метаморфозы», концептуально разработанной в «Разговоре о Данте». НМБ понимается как литературная адаптация причети - как самосознающий и саморезервирующий голос. Имплозивные и щелчковые артикуляции, доминирующие в тексте, символизируют смычку голоса с непоправимым онемением умершего. В то же время i/u-модуляция как работа фонологического «различения» локализует говорящего в пространстве языка. Похоронный обряд, изображенный в стихотворении, трактуется как «орудийный приказ» сохрани мою речь навсегда, редуцирующий звучащее слово к немому знаку. Волновая процессуальность беззвучного шествия отражает фонетический метаморфизм поэтической речи внутри самой поэтической речи. НМБ примыкает к советским концепциям бессмертия, подчеркивая их главное качество - телесность. Артикуляционная работа говорящего порождает фонологическое пространство языка и сохраняет себя в этом пространстве. Речевая мимика текста воспроизводит фоносемантические маркеры причети, а семиотическая трансформация поэтического дискурса становится эквивалентной жесту бессмертия.
Мандельштам, фонетика, артикуляция, причитания
Короткий адрес: https://sciup.org/149139962
IDR: 149139962
Текст научной статьи Колодец и венок: поэтика дискурсивного бессмертия
Речь пойдет о воронежском стихотворении Мандельштама:
Не мучнистой бабочкою белой В землю я заемный прах верну -Я хочу, чтоб мыслящее тело Превратилось в улицу, в страну: Позвоночное, обугленное тело, Сознающее свою длину.
Возгласы темно-зеленой хвои, С глубиной колодезной венки Тянут жизнь и время дорогое, Опершись на смертные станки -Обручи краснознаменной хвои, Азбучные, крупные венки!
Шли товарищи последнего призыва По работе в жестких небесах, Пронесла пехота молчаливо Восклицанья ружей на плечах. И зенитных тысячи орудий -Карих то зрачков иль голубых -Шли нестройно - люди, люди, люди, -Кто же будет продолжать за них? 27 июля 1935 - 30 мая 1936
Книга, посвященная этому стихотворению [Левинг 2021], открывается словами Надежды Яковлевны: «Стихи для него как управлять аэропланом». Я бы хотел позаимствовать эту цитату. Если поэт - пилот своей машины, то главный вопрос не куда летит аэроплан, а как он летает. И если машина летит, пилот знает, что он делает.
«Представьте себе самолет, <.. .> который на полном ходу конструирует и спускает другую машину. Эта летательная машина также точно, будучи поглощена собственным ходом, все же успевает собрать и выпустить еще третью» (2, 173; ссылки на тексты Мандельштама даются с указанием тома и страниц в скобках по трехтомнику: [Мандельштам 2009-2011]).
Свободный полет возможен, если он обеспечивает сам себя. «Производство и спуск машин <...> составляет необходимейшую принадлежность и часть самого полета и обусловливает его возможность и безопасность». Новая машина - это и есть летящий само-лет. Речь идет об «орудийной метаморфозе»: поэтическая речь на полном ходу производит свой язык - конструирует саму себя. И поскольку «язык не является чем-то звучащим» [Соссюр 1999, 119], речь себя обеззвучивает.
«Поэтическая речь, или мысль, лишь чрезвычайно условно может быть названа звучащей, потому что мы слышим в ней лишь скрещиванье двух линий, из которых одна, взятая сама по себе, - абсолютно немая, а другая, взятая вне орудийной метаморфозы, лишена всякой значительности и всякого интереса» (2, 155).
Если следовать этой мысли, поэтический текст сам по себе лишен интереса. Текст - это беззвучная запись немой метаморфозы, порождающей этот текст. Текст не только определенным образом сконструирован: текст несет на себе свою конструкцию: нести самого себя - это и значит лететь. Машина висит в воздухе:
И он лишь на собственной тяге Зажмурившись, держится сам, Он так же отнесся к бумаге, Как купол к пустым небесам (1, 186).
Здесь нет автометаописания, поскольку описанию нечего описывать: в тексте нет ничего, что не было бы метатекстом. Орудийная метаморфоза -сознающая и создающая себя речь - не в смысле перформативности, а в смысле пойэзиса - актуальной потенциальности языкового знака, обозначающего одновременно то, что он обозначает, и саму сигнификацию [Ava-nessian, Hennig 2018, 22]. В поэзии язык «отдыхает сам в себе, созерцает свою способность говорить» [Агамбен 2015, 71]. Как интерпретировать то, что по сути является автоинтерпретацией? По-видимому только одним способом - не потерять интерпретацию, не отстать от скорости, с какой поэтическая речь читает свое письмо и пишет чтение.
Тянут жизнь
В контексте «Разговора о Данте» НМБ - запись орудийной метаморфозы, неотличимая от самой метаморфозы. Мучнистая бабочка, мыслящее тело, молчаливая пехота - превращенные и превращаемые формы. Превращение станет понятным, если признать, что в тексте пишется музыка: похоронную процессию сопровождает траурный марш. Нестройное шествие - визуализация фальшивящего оркестра. Музыка превращается в киноряд:
Шли нестройно люди, люди, люди.
Продолжая музыку, шествие ее обеззвучивает:
Пронесла пехота молчаливо Восклицанья ружей на плечах.
«И стынет рожок почтальона» (1, 205): звонкость звука застыла в немом орудии так же, как зоркость зрения потонула в зрачках.
И зенитных тысячи орудий -
Карих то зрачков иль голубых... Продолженье зорких тех двоих.
Параллельное превращение - в «Египетской марке»:
«Можно сказать и зажмурив глаза, что это поют конники. Песня качается в седлах <...>. Она плывет в уровень с зеркальными окнами бельэтажей <.. > словно сама сотня плывет на диафрагме, доверяя ей больше, чем подпругам и шенкелям» (2, 302).
Песня отражается в зеркале, но отражение видимо не глазами, а слухом: зеркало встроено в песню. Это значит, что мы находимся внутри песни, или же песня - зеркало того, внутри чего мы находимся. Можно сказать и зажмурив глаза... Зажмурившись, держится сам - зажмурившись не от страха высоты, а сдерживая функцию органа в самом органе. Пение с закрытым ртом и зажмуренными глазами - это сновидение: песня снится самой себе. Может быть, ей снится, что она песня?
Под звездным небом бедуины,
Закрыв глаза и на коне, Слагают вольные былины О смутно пережитом дне (1, 71).
Абхазские песни удивительно передают верховую езду <.. .> Бесконечная, хоровая нота - камертонное бессловесное длинное а-а-а! И на этом ровном многокопытном звуке, усевшись в нем, как в седле, плывет себе запевала, выводя озорную или печально-воинственную мелодию (2, 403).
Песня поется «верхом и на верхах» (1, 225). Казачья сотня «плывет на диафрагме» (2, 302). Певческий голос поставлен. Музыканты проносят музыку на плечах. Тогда вариант второй строфы - тоже о песне:
И морской походкой шли в покое,
На живые опершись станки,
Обручи краснознаменной хвои -Азбучные крупные венки.
«Крупные венки, закрывая тела людей, создают “анимационный эффект самостоятельного хода венков”» [Левинг 2021, 193]. По улице, раскачиваясь, плывут венки. Песня качается в седлах. «Волновая процессу-альность», обнаруженная в поэме Данте (2, 437), присутствует в ранних стихах Мандельштама - в танцах сновидца.
О красавица Сайма, ты лодку мою колыхала.
Я качался в далеком саду На простой деревянной качели, И высокие темные ели Вспоминаю в туманном бреду.
Как кони медленно ступают, Как мало в фонарях огня! Чужие люди, верно, знают, Куда везут они меня.
Сновидение возвращается анонимно. Отражая себя в себе, поэтическая речь отражает себя как жизнь, сон и песню, но в превращениях речи отражается не жизнь, не сон и не песня, а скольжение звука в песне:
И тихая работа серебрит
Железный плуг и песнотворца голос.
И железой поэзия в железе, Слезящаяся в родовом разрезе.
Скользящая модуляция артикулирует беззвучное шествие, точнее само это шествие есть отражение скольжения: позвоночное - сознающее - темно-зеленой - колодезной - жизнь. Волновая процессуальность - это и есть фонетический метаморфизм поэтической речи, отраженный самой поэтической речью. В свободе читается самодетерминация, в скольжении - тяга: «И он лишь на собственной тяге...»; «Поэму насквозь пронзает безостановочная формообразующая тяга».
«У меня теперь новые “у” потянуло», - говорит поэт Рудакову 30 мая 1936 г. в день, когда была закончена работа над НМБ [Герштейн 1998, 132-133], и та же тяга присутствует в самом тексте:
Тянут жизнь и время дорогое...
Я хочу, чтоб мыслящее тело Превратилось в .улицу, в страну: Позвоночное, обугленное тело, Сознающее свою длину, что соотносится с другой музыкальной транскрипцией:
Тянули жилы, жили-были, Не жили, не были нигде, Бетховен и Воронеж - или Один или другой - злодей. На базе мелких отношений Производили глухоту Семидесяти стульев тени На первомайском холоду.
СтранУ, длинУ, глухотУ, холодУ: ударное окончание падает в рифму Оба текста строятся как грамматическое буриме, подборка слов наУ - как осознающая себя буква (ср. подборку слов «на шипящий»: «Любишь - не любишь, поймешь - не поймаешь... / Не потому ль, как подкидыш, дрожишь»: о «школьной грамматике» Мандельштама см.: [Успенский 2014]).
По поводу другого стихотворения - «Не у меня, не у тебя - у них» (декабрь 1936 г), Надежда Яковлевна пишет: «О.М. пересчитал, сколько раз встречаются сочетания “их” и “из”, и почему-то решил, что это влияние испанской фонетики» [Мандельштам 2006, 372-373]. Сосчитана и сама метапоэтическая формула. У меня новые “у” потянуло-, здесь три буквы «Н», три «О» и три «У». Счет имеет смысл. НОвое У - УНылый звук: не испанский, а вполне русский.
Как над озером круглистыим Летят лебеди гульливые Летят гуси горделивые Серы младенькие утушки... Как спрошу бедна горюшица У гусей дау лебедей
У серых у утушок [Причитания 1960, 303].
Я покинул кладбище унылое, Но я мысль мою там позабыл, -Под землею в гробу приютилася И глядит на тебя, мертвый друг! (Некрасов, «20 ноября 1861»)
Изображение траурного шествия пронизывает фонетика плача: «подхалимское» стихотворение проникает в свой предмет изнутри. НМБ - литературный вариант причети - самосознающий и саморезервирующий голос. Стихотворение родственно той разновидности плачевного жанра, которая была названа публикатором покойнишный вой по Ленине [Ханд-зинский 2021]. К причети отсылает;’-моногония и серия лексических и морфологических соответствий (включая «заполнитель» -то: «Карих то зрачков иль голубых»).
По заре-mo по вечерней
Не могла моя матушка
Не учуть да не услышали
Моего-то зычна голоса [Причитания 1960, 364].
Но верно и другое: стихотворение изображает плач, подменяя акустический ряд визуальным. И если на экране немое кино, то вопрос, кого хоронят и состоялись ли похороны, теряет смысл. Похоронное шествие -отражение поэтической речи, отражающей саму себя. Стихотворение исполняет орудийный приказ сохрани мою речь навсегда-, сохранить навсегда - это и значит похоронить.
Причеть - это не только часть похоронного обряда; обрядовое действие встроено в причеть. Фонетическая тяга отражает стремление голоса вытянуться в длину - «да повыдти да повыступить / На широкую на улицу» [Причитания I960, 366]. Песня открывается в публичное пространство, но открывается внутри самой песни. У меня новые “у” потянуло-, улица тянется в звуках песни.
«В создании фонетики как бы участвует нянька. Губы то ребячески выпячиваются, то вытягиваются в хоботок» (2, 190). Сказано о поэме Данте, но губная мимика присутствует и в «Новых стихах» и в Сталинской оде:
Но эти наступающие губы -
Но эти губы вводят прямо в суть
Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба.
Становится понятным как мыслящее тело превращается в улицу страну - вытягивая губы. Звучащую речь продолжает огубленное тело.
«Если следить внимательно за движением рта у толкового чтеца, то покажется, будто он дает уроки глухонемым, то есть работает с таким расчетом, чтобы быть понятым и без звука, артикулируя каждую гласную с педагогической наглядностью» (2, 180).
Артикулируя речь, толковый чтец превращает звук в фонему - бессмертную единицу языка. Артикуляция есть момент осознания - фотогра- фия формы, консервация реального в складке виртуального. На губах речь становится видимой, а стих обнажает орудие речи - ГУБЫ:
Он так же отнесся к бумаге, Как купол к иустым небесам.
И вдруг дуговая растяжка Звучит в бормотаньях моих.
Я обращался к воз духу-слуге, Ждал от него услуги или вести,
Артикуляция - это и есть формообразующая тяга: несущая опора звука и смысла, не совпадающая со звуком и смыслом. «Как Слово о полКУ стрУна моя тУГа» (1, 202). В тяге читается туга, тучная печаль. Тянет унылое У - туга ум полонила, тугою им тули затче; тугою взыдоша по Руской земли: тУГая струна - ГУбная фонема.
«Слово о полку» отзывается в переводах из Петрарки [Левинтон 2011; Мерлин 2021]. Итальянскую фонетику транслирует артикуляционная мимика: «Страданье <.. .> приводит к губастому глазу <.. .> Виолончельный голос Уголино <...> выливается из узкой щели: Breve pertugio dentro dalla Muda - он вызревает в коробке тюремного резонатора, - тут виолончель не на шутку братается с тюрьмой» (2, 421).
Цитированная строка Данте отразилась в переводе 31 сонета Петрарки - «Исчезнувшей, как сокол после мыта» [Левинтон 2011, 320], но в резонансе участвуют и немые рыбы из того же сонета, и мучнистая бабочка, и сокол в мытех - немые и губные тела превращения. Фонетическую игру поддерживает мука. Музыка немеет силой звука. Речь становится видимой на губах. Длительность переходит в статическое усилие, а усилие принимает видимую форму. Мысль превращается в .музыку, а музыка в букву.
Этому контексту принадлежат и обручи краснознаменной хвои. Обруч стягивает, и само это слово стоит вместо другого - КРУЧИНА:
Обручи краснознаменной хвои, Азбучные, крупные венки!
На ретиво на с ердечу шко Кладу обручи железные, Скую полосы железные [Причитания 1960, 306].
При произношении гласного [у] губы сужаются. Тянуть У значит выжимать букву из звука и ужимать время в пространство. Обруч - артикулирующая себя речь, и так же как плач вытягивается в Улицу, Сталинская ода сжимается в Уголек-, это ода, которая не была написана - письмо, свернутое в орудие письма и орудие, искрошившееся в букву текста.
Сжимая уголек, в котором все сошлось, Рукою жадною одно лишь сходство клича, Рукою хищною - ловить лишь сходства ось, -Я уголь искрошу, ища его обличья.
Ключ к поэзии Мандельштама подобрал тот, кого поэт называл своим другом: «Стихи Мандельштама - силы необычайной. Значит, о них говорить нельзя. Их можно только произносить» [Кузин 1999, 154]. Произносить - это и значит анализировать. Произнося текст, читатель ничего в него не привносит: текст артикулирует сам себя. Дело не в самих оральных жестах, а в том, что эти жесты отрефлектированы в тексте - как если бы «Шинель» Гоголя и статья «Как сделана “Шинель” Гоголя» были написаны одним человеком в одно время и на одной и той же бумаге. Фонетика семантически проработана. Артикуляция артикулирована. Текст произно-сит-производит сам себя.
Темно-зеленый / краснознаменный
Свое стихотворение автор называл «Венок». Речь идет о предмете похоронного обряда - о знаковой форме бессмертия:
Возгласы темно-зеленой хвои, С глубиной колодезной венки.
Обручи краснознаменной хвои, Азбучные, крупные венки!
Темно-зеленая хвоя приравнивается к орденскому знаку. Это элементарный - азбучный знак и символ, обладающий глубиной. В классическом дискурсе живопись понимается как немая риторика, а риторика как говорящая живопись: средством красноречия является цвет [Lichtenstein 1993]. В качестве траурного символа темно-зеленая хвоя эквивалентна возгласу надгробной речи, но это немой возглас. Обозначая глубокое горе, символ обладает глубиной смысла. Символ тонет в своей глубине - падает в колодец Глаза, читающего его глубину, и так же, как в глубине зрачка содержатся все цвета, темно-зеленая хвоя насыщена смыслом: «Глаз превращался в хвойное мясо» (1, 202).
Траур - это театр. Похоронная причеть - репрезентация самой репрезентации [Адоньева 2004, 229], и если функцию траурного символа выполняет цвет, то «смертные станки» подразумевают станковую живопись. На похоронах Ленина присутствует художник («Прибой у гроба»), на похоронах Андрея Белого - «гравер, друг меднохвойных доек»: мелкая хвойная дрожь (1, 150) несет озноб медных духовых.
Художник - портретист знака, при-ставленный к речи:
Кто ж без меня поймет и в звук поставит Что смерть нашла прибежище в богине.
В звук поставлены СЛЕЗЫ.
Возглясы темно-зеленой хвои, С глубиной колодезной венки
Текст пишет свой жанр - ПЛАЧ:
Пронесла пехота молчаливо Восклицанья ружей на плечах.
Слезы застилают зрение. В Сталинской оде художник рисует свою модель сквозь слезы:
Смотри, Эсхил, как я, рисуя, плачу.
Переживание накладывается на изображение: и поскольку переживание становится видимым, переживание - часть изображения. «Горький дым ест глаза. Какой-то художник сует к огню замерзшие краски, оттаивает кисти». («Прибой у гроба»). Художник - свидетель орудийной метаморфозы: «Краски даны в той стадии, когда они еще находятся на рабочей доске художника, в его мастерской» (2, 426).
Позвоночное / обугленное
Первое значимое слово стихотворения (и возможно самое значимое) - мучнистой - соотносится с началом другого стихотворения, написанного в том же месяце:
Исполню дьгмчатый обряд, и еще с одним, тоже июльским:
Бежит волна - волной волне хребет ломая, Кидаясь на луну в невольничьей тоске, И янычарская пучина .молодая, Неусыиленная столица волновая, Кривеет, .мечется и роет ров в песке.
А через воздух сумрачно-хлопчатый Нена чаюй стены мерещятся зубцы.
Месяцем раньше написаны строки:
Мучным и потным карнавалом.
А кто с венгерской немчурой («За Паганини длиннопалым...»).
В стихах Мандельштама нередки случаи, когда хронологически близкие тексты связывает перекличка паронимов: Эривань и мигрень, мура и моруха, кошенили и Джугашвили, и, поскольку семантической ценности эта перекличка не имеет, остается признать, что интертекст растет из каламбура, или что каламбур заряжен интертекстом.
В «За Паганини длиннопалым...» речь идет о скрипичной музыке, в «Бежит волна...» - о настройке радиоприемника: канючат и хнычут голоса эфира. Но как быть с дымчатым обрядом, где предмет изображения - немые камни (один из них, по-видимому галечнику! Обряд молчалив, радиоволны беззвучны. Немое орудие скрипача - смычок. Чемчура - гремучая смесь чардаша и чехартмы - кошачья голова во рту. Каламбур обладает остротой: «- И угощение было тоже настоящее кавказское: суп с луком, а на жаркое - чехартма, мясное. - Черемша вовсе не мясо, а растение вроде вашего лука». (Чехов, «Три сестры»). Жгучее кушанье раздирает рот, и продолжая беззвучие, голодная пучина гложет камень, а голос плакальщика захлебывается горем. Инвариант фразеологических трансформаций - оральный жест, смычка говорящего с несказуемым.
И не рисую я, и не пою,
И не вожу смычком черноголосым:
Я только в жизнь впиваюсь и люблю Завидовать могучим, хитрым осам -впиваюсь в жизнь, смакуя молчание.
Мучнистый - лексически сдвинутая транскрипция причитания, воспроизводящая фонетические маркеры этого жанра: голос зычный, слезы горючие, леса дремучие, сироты горемычные-, плач - это смычка голоса с непоправимым онемением умершего [Рахимова 2010, 51]. Мучнистый как бесцветный - визуальный эквивалент онемения: как иначе можно высказать беззвучие, если не визуальной метафорой?
О семантике орального жеста не нужно гадать. Семантика сформулирована. Форма семантики - семиотика:
«Создается странная саранчовая фонетика: <...> “Работали зубами на манер кузнечиков” <...> И еще: “Подобно тому как голодный с жадностью кидается на хлеб, один из них, навалившись на другого, впился зубами в то самое место, где затылок переходит в шею...”» (1, 191).
Саранчовую фонетику иллюстрируют челюсти кузнечиков и голод
Уголино, то есть сама оральная жестикуляция. Обозначены два типа жестов - имплозивные сочетания [нч], [мч] и щелчковые [кл], [пл]: в качестве метаязыковых маркеров имплозивы и клики освоены в переводах из Петрарки [Мерлин 2021]. Язык присасывается к нёбу и отскакивает от него. Губы слипаются и разлипаются, втягивая прослойку пустоты. Саранча обгладывает фонетическое мясо, оставляя голый фонологический костяк.
Какое отношение к саранче имеет мучнистая бабочка? Отношение, по-видимому имеется, поскольку в тексте сочетаются те же два жеста:
Не мучнистой бабочкой бел ой
Позвоночное, о бугл енное тело
Азбучные круглые венки, и это сочетание сквозное:
Ис пол ню дьшчатый обряд: В о пал е предо мной лежат
И янычарская пучина мол одая, Неусыпленная столица вол новая
За Па ган ини длинно пал ым Бегут цы ган скою гурьбой -Кто с чохом - чех, кто с поль ским бал ом, А кто с венгерской чел/чурой.
«Щипки, причмокиванья и губные взрывы не прекращаются ни на одну секунду <.. .> Тут вскрывается новая связь - еда и речь» (2, 190-191). Еда артикулирует речь. Неопределенные дескрипции мучнистая бабочка белая, позвоночное обугленное тело, азбучные круглые венки обозначают актуальную данность. Способ обозначения - указательный жест: присасывание и обгладывание, «максимальное прилегание и минимальное проникновение» [Регев 2015, 23]. Артикулирующее тело бесконечно близко к означаемому, но не ближе, чем само означивание.
Я к губам подношу эту зелень - Эту клейкую клятву листов, Эту клятвопреступную землю -Мать подснежников, кленов, дубков. Погляди, как я крепну и слепну, Подчиняясь смиренным корням, И не слишком ли великолепно От гремучего парка гчизам?
А квакуши, как шарики ртути, Голосами сцепляются в шар, И становятся ветками прутья И молочною выдумкой пар.
Стихи Мандельштама объектно ориентированы [Панова 2021, 222], но объект, на который они ориентируется, это облако: купы деревьев, толпы звуков, бугры голов, - множество, взятое как целое, то есть потенциально о-значаемое. Тем же способом конструируется математическое множество и так же определяется Бытие - оболочка всего, не равная ничему [Badiou 2006]. Совокупный объект не имеет имени, но может быть назван любым именем: мощность универсального множества равна полному объему говоримого.
В качестве текста круглые венки не сообщают ничего, кроме плеоназма, но на метатекстовом уровне азбучные круглые венки (вариант: крупные) - объект того же типа, что копна, гумно, кошачья голова, меблированный шар, шар-голован, слово-колобок - гаптическая вокабула и губная буква. Венок назван обручем: это оболочка пустоты. Колодезный сруб - рамка глубины. Губы артикулируют нулевой объект как тело бессмертия: «Бублик можно слопать, а дырка останется».
Люди, люди, люди
Тем не менее главный звуковой объект остается незамеченным. Слова мучнистый, улицу, глубиной имеют форму бублика. И не только эти слова: у/п-модуляция - сквозной мотив 1930-х гг.
И свои-то мне губы не любы - И убийство на том же корню -И невольно на убыль, на убыль Равноденствие флейты клоню.
И с благодарностью улитки губ людских Потянут на себя их дышащую тяжесть.
Дрожжи мира дорогие: Звуки, слезы и труды.
Влез бесенок в мокрой шерстке -Ну куды ему куды?
Наушники, наушнички мои
Рояль Москвы слыхали? Гули-гули
Гуди, старик, дыши сладко, Как новгородский гость Садко.
На акустической шкале [у] - максимально низкий, [и] - максимально высокий гласный. За минимальное время происходит максимальное изменение основного тона. В терминах синергетики это режим с обострением. Голос скользит. Флейтист свингует. Рыданье аонид переложено на голос губной гармоники: «Губы то ребячески выпячиваются, то вытягиваются в хоботок»; «Два клоуна засели - Бим и Бом <...>/ То слышится гармоника губная, / То детское .полочное иьянино». Бемольность чередуется с диез-ностью, лабиальность - с палатальностью. За людей продолжают губы -не как замкнутый объем, а как пластическая модуляция.
Улитки губ людских - мимический эквивалент улыбки. Там, где в текстах Мандельштама появляется слово улыбка, его сопровождают I- и и -лабиализация - «лисья» и «колобковая» улыбка [Мерлин 2021, 43].
Когда заулыбается дитя
С развилинкой и горечи и сласти, Концы его улыбки, не шутя, Уходят в океанское безвластье.
Детская улыбка не имеет причины. Улыбка - это forma formans, артикуляция, артикулирующая саму артикуляцию, энергия, искривляющая пространство, и гомомотопическое преобразование, порождающее само пространство:
На лапы из воды поднялся материк -
Улитки рта наплыв и приближенье -И бьет в глаза один атлантов миг Под легкий наигрыш хвалы и удивленья.
Атланты держат на плечах землю, на которую они опираются. Материк поднимается из океана на собственной тяге. Большевик - самородная сила: Пластами боли поднят большевик (1, 307). Музыка - сомонесущая конструкция.
Артикуляция формирует смысл, но сама не имеет смысла. Губы - опора речи, но эта опора висит в воздухе. Форма не имеет другого пространства кроме пустоты, она нуждается в пустоте, чтобы быть формирующей формой. Артикуляция и пустота связаны неразрывно, как лопата и котлован в повести Платонова.
Улитка выползла, улыбка просияла, Как два конца их радуга связала.
Улыбка - дуговая растяжка между двумя углами рта. Губы работают как маятник. Непрерывное колебательное движение опирается на две переломных точки; само это движение - инскрипция крайних точек и ломаных линий,
Извилистых как честные зигзаги
У конькобежка в пламень голубой.
Я б воздух расчертил на хитрые углы
И осторожно и тревожно.
На этом фоне работа в жестких небесах - это графика голоса и геометрия пустого пространства. Конькобежец движется зигзагами. Поэт - чертежник пустыни. Морскую походку продолжает раскачка - карих то зрачков иль голубых. Стихотворение рождается как двойчатка - растяжка между двумя равновесными вариантами. Отсюда и два финала:
Шли нестройно - люди, люди, люди.
-
1. Продолженье зорких тех двоих.
-
2. Кто же будет продолжать за них?
Казалось бы, чтобы ответить на заданный вопрос, нужно понять, о каких двоих идет речь. Но если текст - это матрица своего понимания, то заполнение матрицы не имеет значения. Речь идет о них - тех или иных-. Ленин и Сталин, Чкалов и Байдуков, Мандельштам и Пастернак. Ой ли, так ли, дуй ли, вей ли - все равно.
Заменяя одну строку другой, поэт сохраняет з/ж-модуляцию. Скольжение модуляции означает выход звука в пространство зрения. Песню-сон-жизнъ продолжает письмо. «Улитка выползла, улыбка просияла». Продолжая себя, звук разрывает с собой. Непрерывность двоится - фонетически и лексически. Поэтическая работа заключается в построении самого языкового пространства:
«Представьте себе, что производится грандиозный опыт Фуко, но не одним, а множеством маятников, перемахивающих друг в друга. Здесь пространство существует лишь постольку, поскольку оно влагалище для амплитуд» (2, 192-193).
Соссюровский langue - пространство значимостей, а не значений. Колебания маятника - работа различения, немая борьба означающих. Но здесь есть и другое продолжение:
«Термин “инструментовка” для обозначения упорядочения качественной стороны звукового материала в поэзии должен быть признан чрезвычайно неудачным; упорядочивается, собственно, не акустическая сторона слов, но артикуляционная, двигательная <...>; Значение творящего внутреннего организма <...> максимально в лирике, где порождающее звук изнутри и чувствующее единство своего продуктивного напряжения тело вовлечено в форму <...> Поэзия как бы выжимает все соки из языка» [Бахтин 1975, 46, 68].
Конструируя языковую форму, тело рождает себя как форму формы. НМБ примыкает к советским концепциям бессмертия, подчеркивая их главное качество - телесность [Гройс 2015, 9]. Бессмертие тела - в делах: не в результате работы, а в самой работе - в продуктивном напряжении и ценностной активности тела. Бессмертием обладает полное народное тело, орально воспроизводящее свою полноту.
Фонетическая работа стиха - практика бессмертия. Не бабочка вылупляется из куколки, а мЫслящее тело вытягивается в УлицУ, странУ: губы тянут узкое [у] и растягиваются в напряженное [ы]. Трансформация имманентна: она производится губами и на губах. В сущности, это у/п-модуляция в качестве продуктивного напряжения тела. Инструмент модуляции - мыслящий бессмертный рот (1, 181). Люди, люди, люди - речевая работа людей, порождающая пространство языка и сохраняющая себя в этом пространстве. В качестве артикулированного слова люди - это публика, резонатор голоса, продолжающий роботу губ.
«На амфитеатр надо смотреть не тогда, когда он пуст, а когда он наполнен людьми. Увидев себя собранным, народ должен изумиться самому себе - многоглавый, многошумный, волнующийся, - он вдруг видит себя соединенным в одно благородное целое, слитым в одну массу, как бы в одно тело» (1, 653).
В 1930-е гг. поэт ищет пространство резонанса, соответствующее новой - фольклорной природе его стиха. Сталинскую оду он передает античному хору - Эсхилу-грузчику, Софокла-лесорубу, а сталинские куплеты - «комсомольцам на улице» и читает эти куплеты людям. Работа губ бессмертна, но бессмертие заражено тревогой. Если люди - это те, кто продолжают сами себя, то за людей не будет продолжать никто. Не имея опоры вне себя, машина имманентности производит пустоту. Бессмертию угрожает смертельная опасность - проснуться.
Список литературы Колодец и венок: поэтика дискурсивного бессмертия
- Агамбен Дж. Костер и рассказ. М.: Grundrisse, 2015. 192 с.
- Адоньева С.Б. Прагматика фольклора. СПб.: Издательство СПбГУ; Амфора, 2004. 312 с.
- Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. С. 6-71.
- Герштейн Э. Мемуары. М.: Инапресс, 1998. 518 с.
- Гройс Б. Русский космизм: биополитика бессмертия // Гройс Б. Русский космизм. Антология. М.: Ad Marginem, 2015. С. 6-29.
- Кузин Б.С. Воспоминания. Произведения. Переписка. СПб.: Инапресс, 1999. 776 с.
- Левинг Ю. Поэзия в мертвой петле (Мандельштам и авиация). М.: Бослен, 2021. 224 с.
- Левинтон Г.А. Заметки к переводам Мандельштама из Петрарки // LAUREA LORAE: Сборник памяти Ларисы Георгиевны Степановой. СПб.: Нестор-История, 2011. С. 316-326.
- Мандельштам Н.Я. Третья книга. М.: Аграф, 2006. 559 с.
- Мандельштам О. Полное собрание сочинений и писем: в 3 т. М.: Прогресс-Плеяда, 2009-2011.
- Мерлин В.В. Жирная печаль и сочные двойчатки: к семантике фонетического перевода // Художественный перевод и сравнительное литературоведение. XVI. М.: Флинта, 2021. С. 15-45.
- Панова Л. Зрелый модернизм. Кузмин, Мандельштам, Ахматова и другие. М.: Рутения, 2021. 928 с.
- Причитания / Сост. Б.Е. Чистова, К.Е. Чистов. Л.: Советский писатель, 1960. 434 с.
- Рахимова Э.Г. «Туонельские свечушки»: словесная изобразительность карело-финских причитаний по покойным. М.: ИМЛИ РАН, 2010. 237 с.
- Регев Й. Коинсидентология: краткий трактат о методе. СПб.: Транслит, 2015. 56 с.
- Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 1999. 432 с.
- Успенский Ф.Б. Грамматика как предмет поэзии // Успенский Ф.Б. Работы о языке и поэтике Осипа Мандельштама: «Соподчиненность порыва и текста». М.: Фонд развития фундаментальных лингвистических исследований, 2014. С. 68-81.
- Хандзинский Н. Покойнишный вой по Ленине. Тель-Авив: Бабель, 2021. 72 с.
- Avanessian A., Hennig A. Metanoia. A Speculative Ontology of Language, Thinking, and the Brain. New York; London: Bloomsbury Academic, 2018. 226 p.
- Badiou A. Being and Event. New York; London: Continuum, 2006. 526 p.
- Lichtenstein J. The Eloquence of Color: Rhetoric and Painting in the French Classical Age. Berkeley: University of California Press, 1993. 269 p.