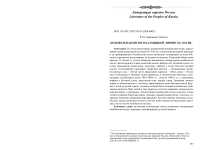Колыбельная песня в калмыцкой лирике XX-XXI вв.
Автор: Ханинова Римма Михайловна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Литература народов России
Статья в выпуске: 1 (52), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена литературная колыбельная песня, адресованная детям калмыцкими поэтами XX-XXI вв., в аспекте фольклорной традиции и ее трансформации. Колыбельная песня калмыцких литераторов не была объектом и предметом исследования, не издана и антология. В научный оборот нами введено 15 текстов 11 поэтов. Выявлена взаимосвязь литературной колыбельной песни с фольклорной в плане сюжетной модели, фабулы сна, мотивного ряда, системы персонажей, композиции, структуры, образов и стиля. Поэтика заглавия многих стихотворений проецирует жанровый архетип - «Колыбельная песня» («Саатулын дун» / «Ɵлгǝн дун»), фокусирует адресата - «Нилх үрнд» / «Ɵлгǝн дун» («Младенцу»). Влияние эпохи проявилось в политическом контексте литературных колыбельных песен 1930-1940-х гг., отчасти 1960-х гг., с советскими мифами о Большой семье, архетипами отца, матери, героя. Эволюция данного жанра от общественного к частному транслировала идею благополучного будущего детей в родной стране, служение которой было основой становления гражданина-патриота. Мир людей и мир природы в текстах выражают национальное мировоззрение и верования. Литературная колыбельная песня включала также элементы йоряла-благопожелания, заговора, охранительной магии, считалки, сохраняла традицию калмыцкой версификации. Русский перевод некоторых колыбельных песен калмыцких поэтов в той или иной степени соответствовал оригиналу, часть текстов положена на музыку.
Калмыцкая колыбельная песня, калмыцкая литературная колыбельная песня, традиция, трансформация, русский перевод
Короткий адрес: https://sciup.org/149127411
IDR: 149127411 | DOI: 10.24411/2072-9316-2020-00015
Текст научной статьи Колыбельная песня в калмыцкой лирике XX-XXI вв.
По словам Б.М. Коваевой, «непрекращающийся процесс трансформации калмыцкой песни, безусловно, продлевает жизнь некоторым песенным жанрам и в то же время способствует угасанию народной песенной традиции как вида искусства» [Коваева 2017, 3].
Колыбельная песня в калмыцком фольклорном наследии текстуально зафиксирована в небольшом количестве по разным причинам. Этот жанр всегда находился на периферии внимания этнографов, фольклористов, историков XVIII XIX вв. Их разыскание и изучение, прерванное трагическими событиями XX в. (Великая Отечественная война и тринадцатилетняя ссылка калмыцкого народа), возобновлено с 1960-х гг. Одна из таких песен с нотами впервые представлена А.Ш. Кичиковым в 1983 г. [Кичгэ Т. 1983, 4]. Тем не менее, до сих пор исследование этого жанра малочисленно и замедленно, нет сборника калмыцких народных колыбельных песен. Пять образцов данного жанра включены в книгу Т.Г. Басанговой (Борджановой) «Детский фольклор калмыков» (раздел «СаатулЬна дуд» / «Колыбельные песни») [Басангова 2009, 24-29]. Семь колыбельных пе-
" The study was conducted as part of the state subsidized project “Oral and written heritage of the Mongolian peoples of Russia, Mongolia and China: cross-border traditions and interactions” (registration number AAAA-A19-119011490036-1). 188
сен из устного народного творчества ойратов вошли в книгу «Шиньона оорднрин куукдин келна билг. Детский фольклор ойратов Синьцзяна» (раздел «Куукд саатулх дууни угмуд» / «Тексты колыбельных песен») [Шинтцана оорднрин куукдин келна билг... 2010, 6-10], одна - в статью Б.Х. Борлыковой [Борлыкова 2013, 200-201]. Все эти образцы не сопровождены нотами из-за того, что их мелодии утрачены.
Как известно, калмыцкий песенный фольклор подразделяется на две большие группы: «ут дун» («протяжная песня») и «ахр дун» (короткая песня). К «ахр дун» относится, например, колыбельная песня. Мнения современных исследователей, классифицировавших калмыцкую колыбельную песню, разнятся: согласно А.Ш. Кичикову [Кичгэ Т. 1983, 4], Т.Г. Басанговой [Басангова 2009, 4] и Б.Б. Манджиевой [Манджиева 2014], данный жанр, генетически восходя к заклинаниям, относится к детскому фольклору (созданному для детей), к поэзии пестования, согласно Ван Гао Чао, Б.Х. Борлыковой, - к семейно-бытовым песням [Ван Гао Чао 2012, Борлыкова 2014].
Терминологически колыбельная песня обозначена четырьмя способами словосочетаний. Три из них образованы от существительного «люлька, колыбель» (калм. «буувэ», «дуужц», «олгэ») [Калмыцко-русский словарь 1977, 131, 221, 414], которое в связке определение (колыбельная) + существительное (песня, калм. «дун») передает значение «колыбельная песня»: 1) буувэн дун; 2) луужцгин дун; 3) олгэн дун. Четвертый способ словосочетания образован от глагола «саатулх» - убаюкивать, соответственно «саатулын дун» (букв, «убаюкивающая песня»). Ср. «буувалх» - 1) баюкать песней, 2) пеленать (грудного ребенка); «буувэ», «буувэллБн» - убаюкивание [Калмыцко-русский словарь 1977, 131]. Калмыцкие исследователи в основном используют термин «саатуллБна дуд» («колыбельные песни»). Ср. в монгольском фольклоре: «буувэйн дуу» («колыбельная песня») от существительного «буувэ» («люлька, колыбель»), соответственно «буувэй» - бай-бай, убаюкивание; «буувэйлэх» - баюкать, убаюкивать [Большой академический монгольско-русский словарь 2001, 299].
У калмыков в прошлом люлька представляла собой ящик из тонких дощечек, подвешенный на креплении, внутри он устилался тканью, снаружи (во время холодов) обтягивался войлоком и покрывалом, обвязывался бечевкой [Бергман 1991, 118]. Эти детали отмечены в ойратском йоряле-бла-гопожелании люльке-олгэ: «Оосрнъ бат, елвгнь зузан, усн шицг цаИт. - Пусть завязь у люльки будет крепка, пусть будет постель толста, бела, как молоко» [цит. по: Борджанова 2007, 193]. Сравнение с молоком актуализировало сакральность вещи, поскольку молочные продукты относились к священной еде. Люлька передавалась от старших детей к младшим.
По жанровому определению В.В. Головина, «колыбельная - песня, адресованная младенцу, находящемуся в состоянии перехода, и функционально направленная на его завершение» [Головин 2000].
Как все колыбельные песни народов мира, калмыцкая также выполняла несколько функций - «функцию успокоения-усыпления, охранительную, прогностическую и эпистемологическую. Реализация данных функций в контексте традиционного мировоззрения обеспечивает как этапное, так и целостное “завершение” переходного состояния - сон и выход адресата жанра из “переходно-опасного” статуса в благополучное будущее» [Головин 2000]. Колыбельная песня встречается и в составе некоторых калмыцких народных сказок, например, в сказке о Будигар-Мерген-батаре с мотивом узнавания, таким образом, о племяннике [Манджиева 2014], в сказке о Хараде-Мерген-баатаре - о сыне [Борджанова 2007, 194]. Ср. подобный мотив в монгольских легендах [Кульганек 2010, 133-134]. Для колыбельной песни, как подчеркивают исследователи, традиционно характерны фабула сна и роста, основные мотивы сна-роста, благополучного будущего, отношения к адресату, утверждения сна, «все спят, и ты спи», маркировки адресата, мотивы колыбели, семьи, рода, страны, природы, божественных покровителей, дарения и др. [Головин 2000]. Это относится и к колыбельной песне калмыков, но в известных нам образцах нет мотивов смерти, страха (персонажей-вредителей типа Буки, волка и др.), мифологических персонажей-успокоителей вроде Сна и Дремы, Успокоя и Угомона. Поэтика заглавия указывала на жанр («Бууван дун»), на формулы-маркеры, выполняющие роль припева («Буувлда», «Буувэ», «Буувэ, буувэ, буувлдэ», равнозначные «баю-бай», «баюшки-баю», «люли-люли»),
В калмыцкой лирике разысканная нами колыбельная песня адресована младенцу / ребенку, но развивалась она на периферии жанровой системы национальной литературы и не имела широкого распространения, как в прошлом, так и в новом веке. Калмыцкая литературная колыбельная песня не была объектом и предметом исследования в отечественном литературоведении, нет и ее антологии. Если народная колыбельная песня отличается в общем импровизационным характером, то литературная, часто следуя за фольклорным аналогом, отвечает требованиям стихотворного жанра в аспекте ЗФК (заголовочно-финального комплекса), поэтики, версификации, разнообразной адресации. Как и фольклорная, колыбельная песня калмыцких поэтов мало переведена на русский язык, при этом первая имеет, как правило, дословный перевод ученых, а вторая - художественный перевод. Для части таких литературных песен музыка написана композиторами, тексты с нотами опубликованы в немногих песенных сборниках.
Первые колыбельные песни в калмыцкой лирике 1930-1940-х гг. соответствовали советской колыбельной песне, востребованной тоталитарной властью в идеологических, агитационно-пропагандистских целях: младенец рос в счастливой семье-стране под неусыпной заботой отца народов -Сталина [Богданов 2007]. Одна из таких колыбельных песен принадлежала Церену Леджинову (1910-1942). Датированная 1938 г, она опубликована в газете «Улан хальмг» («Красный калмык») в 1939 г. Ее название «Нилх урндан» («Младенцу») подчеркивало обращение к адресату: «мини урн» («мое дитя»), «коорк мини» («моя бедняжка»), «хоотк мана» («наше будущее»), просьбу-рефрен - «бича ууль» («не плачь»), мотивы утверждения сна - «унт» («спи»), семьи - любовь родителей, мотивы страны -

«эцкр терскнч дурта» («родина <тебя> любит»), благополучного будущего - «онр ящрЬл тосх» («встретит <тебя> лучшая жизнь»), подкрепленного метафорой: «Торскн орн-нутгчн / Tophap чама цуЬлх» («Родина завернет тебя в шелка») [Лежнэ Ц. 1939, 3]. Ср. в русской колыбельной песне формулы-маркировки мягкого, мехового обещают и будущее богатство [Головин 2000]. Современный русский перевод В. Стрелкова и Д. Долинского отступает от леджиновского оригинала включением формулы «люли», пейзажной картины (ночь, тучи, сад, месяц), изменением третьей строфы: «Родина склонила / Над тобой свой лик... / Маленький мой, милый, / С нею ты - велик!» [Леджинов 1964, 13].
Стихотворение «Элгон куукдт» («Младенцу», 1940) Гари Шалбуро-ва (1912-1942) в целом отвечает жанру колыбельной песни (центральная часть), правда, имеет кольцевое ситуативное [Карпов 2012, 80] обрамление: мать качает ребенка, и он после колыбельной песни заснул. Психологический параллелизм являет мир человека и мир природы. Вначале показан летящий над широкой степью горный сокол, в самой колыбельной мать поет ребенку о том, что в небе летит на самолете его отец, прославивший страну друг неба - сокол, завершается стихотворение полетом самолета-сокола. Сам текст колыбельной состоит из четырех катренов с припевом: «Унт, бичкн, унт, / Икар чидл хура. / Осад, боссн цагтан / Эвра эцкэн дура» [Шалвра h. 1940, 18]. «Спи, дитя, спи, / Набирайся сил. / Когда вырастешь, / Подражай своему отцу» (здесь и далее приводится наш смысловой перевод).
Характерно, что отец ребенка - летчик, олицетворяющий миф о «сталинских соколах», нашедший отражение и в калмыцкой поэзии тех лет. По словам X. Гюнтера, «миф о летчиках воплощает лозунг эпохи “вперед и выше” самым наглядным образом <...> Советские летчики 1930-х годов предстают как верные сыновья “любимого отца” Сталина, который является их “вдохновителем” и “организатором” побед» [Гюнтер 2010, 194, 193]. Советский миф о Большой семье-стране во главе с отцом Сталиным реализован в следующей строфе колыбельной: «Унтж; кевтх тадниг / Аав Сталин медиа. / Улм сан жирЬлитн / Одр болЬн делднэ» [Шалвра h. 1940, 18], т.е. мать переходит от частного к общему, утверждая, что отец Сталин знает обо всех спящих детях, которых ждет жизнь, все более прекрасная день ото дня. Ср. с «Колыбельной» М. Исаковского: «Даст тебе силу, дорогу укажет / Сталин своею рукой...», с «Колыбельной» С. Маршака о лучшем друге ребят [см. Богданов 2007]. «Мотивам убаюкивания и сна в колыбельных песнях часто сопутствуют мотивы бодрствования и бдительности тех, кто призван охранять спящего. Те же мотивы издавна используются в политической культуре и пропагандистских контекстах» [Богданов 2007]. Затем мотив будущего в шалбуровской колыбельной сфокусирован на ребенке, который вырастет богатырем, подобно великому Алому Хон-гору из эпической страны Бумбы. Мать выражает уверенность в том, что ее сын-герой преодолеет беды-невзгоды, разгромит любого врага, имя его будет устрашать неприятеля. Здесь понятие «враг» как мифологизирован- ный образ противостоит счастью Большой семьи, «в тоталитарном обществе враг и герой - явления, обусловливающие друг друга» [Гюнтер 2010, 199, 200]. Так в колыбельной Шалбурова актуализированы мотивы природы, сна-роста, счастливого будущего, малой и большой семьи, страны, архетипы мудрого отца, героя и врага. Глагольный рефрен-императив «унт» («спи») с другим императивом «дура» («подражай») проецирует переход от частного, интимного к общественному, публичному - подражай не только родному отцу, но и мудрому отцу Сталину. В таком политическом контексте образ обычной матери трансформируется в глобальный образ Родины-матери. «Выражение нежных чувств к ребенку санкционируется коллективно и идеологически, а сама сфера идеологии оказывается открытой для ответной интимности» [Богданов 2007].
Тот же социально-политический аспект обнаружен в колыбельной Тимофея Бембеева (1930-2003), написанной спустя двадцать лет. В оригинале «Саатулын дун» («Колыбельная песня», I960) посвящена сыну поэта - Вадикдэн (Вадику) [Бембин Т. I960, 15], в русском переводе А. Николаева - «Моим сыновьям» [Бембеев 1966, 17]. Стихотворение состоит из четырех строф с припевом: «Хоцх мет жицнэд, / Хоэмнь, бича ууль. / Саахн иньг, дегдэмлм, / Саатулсн айсдм унт, / Унт, кукм, унт, / Уульл уга унт» [Бембин Т. I960, 15]. «Звеня, как колокольчик, / Любимый, не плачь. / Милый дружок, птенчик мой, / засыпай под мой колыбельный напев, / Спи, мое дитя, спи, / Засыпай без плача». Колыбельная начинается с мотива сна-роста (младенец засыпает с соской во рту), переходящего в мотив героического будущего - освоение Луны с развевающимся советским флагом, до которой домчится спутник; при этом спутник отождествляется с волшебным богатырским конем Аранзалом, а ребенок - с богатырем. Мотив героического будущего взаимосвязан с мотивом благополучного будущего - со строительством коммунизма в стране: «Коммунизмин уудинь жицнулэд, / Кооркм, секэд орхч» [Бембин Т. I960, 16]. Автор использовал метафору: «В двери коммунизма, звонко раскрыв, войдешь, мой милый». В свой перевод бембеевской колыбельной песни А. Николаев вставил пейзажную картину с дождем, ввел рефреном формулу-маркер «баюш-ки-баю», «размыл» припев, соединил героику и строительство в будущем малыша («пахарь и боец»), объединил поколения: «В коммунизм тебе дорогу / Открывал отец» [Бембеев 1966, 18].
В другом произведении, названном «Чонын саатул» («Волчья колыбельная», 2001), Бембеев сделал адресатом маленьких волчат. В то же время автор «столкнул» здесь в названии и подзаголовке («Деермчин частр» / «Гимн разбойников») два разных жанра - колыбельную песню и гимн. Несмотря на это, «Чонын саатул» по фабуле сна именно колыбельная, которую волчица поет своим детенышам. Ср. монгольскую легенду о первой колыбельной песне, родившейся от воя волчицы, лишившейся найденного и выкормленного ею человеческого младенца, которого потом забрали люди; здесь отголоски мифологических представлений древних монголов о своем тотемном животном - волке [Кульганек 2010, 133]. В
отличие от первой своей колыбельной Бембеев в этом случае создал текст без деления на куплеты и припев, но ввел рефрен-императив - «унтыт», «бича уультн», «уульл уга унтыт» («спите», «не плачьте», «засыпайте без плача»). Мать-волчица обращается к волчатам с любовью и лаской, называя их «альвн бормуд» («озорные серые»), «бичкн гоогас» («маленькие сосунки»), «арБта эрмуд» («способные голыши»). Она желает им увидеть во сне объедки коровы, вырасти сильными и здоровыми, уговаривает не страдать от голода - найдутся для них овечий хвост, конская грива. В начале песни мать задает детям риторические вопросы: озорные волчата явились к ней для того, чтобы пососать овечий хвост, вкусить конскую гриву, обглодать бычью голову, вырасти на верблюжьем горбу? Способные голыши родились, чтобы быть похожими на своего отца? Перечислительный ряд домашних животных, привычных для кочевников, упоминается как добыча для волчьего семейства. Таким образом, в этой колыбельной есть традиционные мотивы обращения матери к адресатам-детям с их любовной характеристикой, сна-роста, благополучного будущего, семьи, появляются новые мотивы - сновидения и еды-угощения.
В «Колыбельной песне» («Элгон дун», 1963) Михаила Хонино-ва (1919-1981), посвященной сыну Айте («Мини Айтад»), три куплета без припева: «Бичкн окор иным, / Булокн олгодон ноорсич, / Байр за-ясн иным, / Баатр болж осич. // Цагин соонд Барен / ЦаБан хаалБд орхч, / Сарин бийднь курен / Седкл дуурц ирхч. // ЖщрБл нас зуух, / Жщгтэ урн торв, / Колинь дорад кургх, / Кесг нерд Барх» [Хоньна М. 1963, 63]. В нашем художественном переводе: «Маленький милый дружок, / В теплой ты люльке усни, / Радость судьбы, мой сынок, / Станешь батыром, расти. // К жизни прекрасной, малыш, / Белой дорогой пойдешь, / Месяц тебе лишь, малыш, / Много узнаешь, придешь. // Пусть много лет у тебя / Будет всегда впереди - / Ноги коснутся стремян, / Имя прославишь, скачи». С самого начала появляется мотив люльки с определением «теплая», в которой автор желает сыну уснуть (мотив сна), вырасти богатырем (мотив будущего), благодарит судьбу (богов) за такую радость, желает младенцу белой дороги, потому что он родился в хорошее время (мотив настоящего). Дорога жизни в связке с определением «белая» в представлениях монгольских народов манифестирует лучшее, чистое, святое, благополучное. Пожелание долгой жизни малышу и седлания коня актуализирует преемственность поколений с прославлением рода / народа / страны. Ср. с начальными строками калмыцкого йоряла-благопожелания в честь наречения новорожденного именем: «Пусть дитя родителей, / которое нарекают, / ступает по светлому пути предков. / Да родятся за ним сестры и братья. / Пусть ноги его коснутся стремян, / А руки достанут до тороков...» (пер. В. Еременко) [Калмыцкое устное народное творчество 2007, 278]. Ср. с благопо-желанием синьцзянских калмыков: «<...> Родившись по благословению / Небесных покровителей - зая, / Хозяин быстроного скакуна, / Мой сын, нареченный Улан Хонгором, / Лежишь ты в широкой колыбели, / Смастеренной из красного сандала, / Посасывая белый овечий хвост...» [Цацлын дееж; 1997, 55].
Политический контекст наблюдаем у Эрнеста Тепкенкиева (1929— 2017) в колыбельной песне под названием «Унтыч, куукм, осич» («Спи, мое дитя, расти», 1968) с припевом, в котором звучит призыв к младенцу спать, перестать плакать, отдохнуть, глаза закрыв, предаться сну Два куплета развивают мотивы будущего, в котором ребенок вырастет полезным для своей советской родины («Кундтэ Советин Торскндэн / Кергтэ урнь болхич» [Товкнкин Э. 1968, 24]), отсюда пожелание человечеству существовать без войны, а малышу - расти в счастье. Адресатом второго стихотворения поэта «Амр саатул делднэ» («Время игр заканчивается», 1986) стал не один ребенок, а малыши детского сада, место сна - не люлька, а кроватки. В пяти куплетах обыгрывается понятие «тихого часа» - послеобеденного сна в детсаду: «Удин хоон / Уудн хаагдв. / НомБн час / Нор дурдв» («После обеда / закрылась дверь. / Тихий час / пожелал <детям> сна» [Товкнкин Э. 1986, 73]. Поэтому рефреном-припевом в трех строфах звучит призыв воспитательницы: «Так-чик! /Так-чик!» («Ти-ше! Ти-ше!»). Она обращается к детям: «Тагчг болтн цуБар! / Тас дууБан зогсатн!» («Все затихните! Не разговаривайте!») [Товкнкин Э. 1986, 73]. Указание на саму колыбельную звучит в тексте: «Таалта цаг ирнэ, / Тааста айс саатулна» («Ласковое время пришло, Приятная песня убаюкивает») [Товкнкин Э. 1986, 73]. Поэтому «НомБн дуурв, / Нудн аньгдв» («Тишина наступила, глазки закрылись») [Товкнкин Э. 1986, 73]. Колыбельная завершается как бы словами детей, что им нравится такой отдых, он им полезен, пришло время для сна, закончилось время для игр: «Садын даран манд / Сон, берк зокна. / Амрх цаг ирод, / Амр саатул делднэ» [Товкнкин Э. 1986, 73]. Диалогическая композиция включает в колыбельную песню воспитательницы ответную реакцию детей, переданную ее словами. Подтверждением тому стало переложение этого стихотворения поэта уже под другим названием «Саатулын дун» («Колыбельная песня») на музыку Б. Манджиева: заключительный куплет стал вторым. Вместо формулы-маркера «баю-бай» эту функцию приняло слово «тагчг» («тише»), поэтому композитор преобразовал исходный текст, создав свой припев из разных строк оригинала: «Таг-чик, таг-чик! / Таалта цаг ирнэ. Таг-чик, таг-чик! Тааста айс саатулна. Таг-чик, таг-чик! Тагчг болтн цуБар. Таг-чик, таг-чик! Тас дууБан зогсатн» [Тепкенкиев 1997, 13]. «Ти-ше, ти-ше! / Ласковое время пришло. / Ти-ше, ти-ше! / Приятная песня убаюкивает. / Ти-ше, ти-ше! / Все затихните. / Ти-ше, ти-ше! / Не разговаривайте». Эта литературная колыбельная песня поэтому не относится к «ночной» поэзии, по определению Л.Н. Тихомировой [Тихомирова 2012], поскольку ее хронотоп - послеобеденный сон в детском саду.
Ср. Вера Шуграева (г.р. 1940) в стихотворении «Саатулын дун» («Колыбельная песня», 2010) также использовала в качестве подобного припева формулу-маркер «тагчг»: «Тагчг, тагчг, / Унт, унтич. / Тагчг, тагчг, / Уульхмн биш. / Тагчг, тагчг, / Удан унтич. / Тагчг, тагчг, / Серхм биш. / А-а-а, а-а-а» [Шуграева 2010]. «Тише, тише, / Спи, засыпай. / Тише, тише, / Не надо плакать. / Тише, тише, / Спи подольше. / Тише, тише, / Не просыпайся». В этой колыбельной поэтесса вначале ввела мотив люльки: «Олта дотр торБн конжл, / Окэр ковун кончал дор. / СооБэр шам терт шат-на, / СооБэр ээж; ду дуулна» [Шуграева 2010]. «В люльке шелковое одеяло, милый сынок под одеялом. / По ночам в доме горит свет, / По ночам мать песню поет». Здесь также звучит мотив благополучного будущего: «МацБдур шин одр ирх, / Мини ковун гууБэд наадх. / Чидл авад, ковум серх, / Чиирг баатр болад осх» («Завтра придет новый день. / Мой сынок побежит играться. / Силу набрав, мой сынок проснется,/ вырастет крепким богатырем») [Шуграева 2010]. Во втором куплете подчеркнута характеристика колыбельной песни в исполнении матери: «Эцкр туунэ айснь С99ХН. / Чини толэ дууБан дуулна» («Милая песня ее хороша. / Ради тебя поет песню») [Шуграева 20106].
В другой колыбельной песне поэтессы под тем же названием «Саату-лын дун» (2014) в качестве припева звучит мотив убаюкивания: «а-а-а». Колыбельная начинается со времени суток: «Нариг cap сольна, / Ноортэн цугтан орна», т.е. «Солнце сменила луна, / Все засыпают». В стихотворении главный персонаж уже не младенец, а ребенок постарше, умеющий считать до десяти. И это не собственное дитя, а внучка (калм. «зе куукн»). Здесь тоже есть указание на сон (ребенок, закрыв глаза, засыпает) и сновидение (ночью звезды подмигивают, покажут ему хорошие сны). В колыбельную включен трансформированный элемент калмыцкого заговора от бессонницы: «Чамдан дурта мисс / Цогц ус огх» («Любящая тебя кошка принесет чашку воды») [Шуграева 2014]. В известном подобном заговоре золотое ведро с водой приносит мышка, представительница иного мира, мира темноты, в который попадает во сне ребенок [Борджанова 2007, 31-32; Ханинова 2012, 139-141]. Так в колыбельной поэтессы появляется мотив дарения (еды). Кроме того, включен мотив «все спят, и ты спи»: «- har-har, - келдг / Валун шовун унтна. / - Нэг-Бэг, - келдг / Вурвн нуБсн унтна» («Гаг-гаг, - так говорящий гусь спит. Гяг-гяг, - так говорящие три утки спят») [Шуграева 2014]. В мир колыбельной введены домашние птицы, маркерами их узнавания ребенком становятся звукоподражания. В ранней «Колыбельной» («Саатул», 2000) Шуграевой введен фольклорный маркер-припев: буувлдэ, т.е. баю-бай. Здесь три куплета с припевом: «Буувэ, буувэ, буувэ. / Бичкн иным, унтыч» («Баю, баю, бай. / Мой дружочек, засыпай») [Шуграева 2000, 14]. Хронотоп первого куплета: «Сар тецгрт Барна, / СооБин дун соцсгдна. / Бул деерэн дерлэд / Бичкдуд зууд узнэ» [Шуграева 2000, 14]. «Луна появилась в небе, / Слышна ночная песня. / На пуховых подушках / Младенцы видят сны». К формуле-маркеру «все спят, и ты спи» присоединен и персонаж животного мира - зайчонок: «Теегин ноБа зууБад / Туулан кичг кевтнэ. / Окэр колэн дерлэд / Орун куртл унтва» («Наевшись степной травы, / Лежит зайчонок. / Ножки свои милые подогнув, / Заснул до утра») [Шуграева 2000, 14]. Ср. в калмыцкой колыбельной песне «Буувэн дун»: «<...> Туцг бутын йоралд / Туулан кичг бээнэ. / Тугдгр бийэн хураБад, / Тугдиж; кевтэд уптж, / ТормБр ковун, ун- тич! / Буувэ, буувэ, буувэ» [цит. по: Басангова 2007, 28; Кичгэ Т. 1983, 4]. То же самое в ойратской колыбельной песне «Буувэ»: «<...> Туцг бутын йоралд / Туулан жулжб хорйтж. / ТугдБр бийэн хураж, / Тугдиж; кевтэд унтв. / ТормБр ковун мини, унтич!» («У основания корневища ковыля / Зайчонок спрятался. / Сутулое тело свое собрав в комок, / Стал засыпать. / И ты, малыш мой, спи! / Баю-бай, баю-бай, баю-бай») [цит. по: Шиюцэнэ оорднрин куукдин келнэ билг 2010, 6, 67]. Музыку к первой колыбельной поэтессы написал А. Манджиев [Шугран 2010, 68-71].
В колыбельной песне Егора Буджалова (1929-2009) название «Баю-бай» (2005) дано по-русски, в самом тексте начало каждого из четырех куплетов тоже маркировано: «Баю-бай, баю-бай». Первый куплет вводит мотив «все хотят спать, и ты спи»: «Баахи зуур амрцхай, / Баавань цуцрад тарпана, / Бас унтхар седящнэ» («Давай немного отдохнем. / Мама устала, / Тоже хочет спать») [Буджала Е. 2005, 25]. Второй и третий куплеты, также начинаясь с призыва отдохнуть, развивают мотив «все спят, и ты спи»: «Туула кичгуд унтцхана, / Тедн зууд узцхэнэ. <.. .> Хееиа хурБд цуцрж, / Цугтан унтхар ксвтцхэж» («Зайчата спят, / Они видят сны. <...> Ягнята устав, улеглись спать») [Буджала Е. 2005, 25]. Мотив будущего, не столь отдаленного, проецирован на завтрашний день: «Мадн эрт босхмн, / Мадн ээждэн одхмн» («Мы рано встанем, / Мы пойдем к бабушке») [Буджала Е. 2005, 25]. Короткий припев с незначительным изменением завершает каждый куплет: «Но, унт, унт, унт, / Сээхн юмн энтн! <...> Нэ, нудэн, нудэн ань, / Сээхн юмн энтн! <...> Унтыч, хээмнь, унтыч, / Сээхн юмн энтн!» («Ладно, спи, спи, спи, / Это хорошо! <...> Ладно, глаза, глаза закрой, / Это хорошо! <...> Засыпай, милый, засыпай, / Это хорошо!») [Буджала Е. 2005, 25]. В этой песне связь поколений показана на семейном уровне: мать - ребенок - бабушка. Введение формулы-маркера «баю-бай» в название и в сам текст обусловлено не столько экспериментом, сколько, видимо, незнанием калмыцкого эквивалента. Это подтверждает редкое обращение поэтов к маркеру «буувэ».
Мотив «всем пора спать, и ты спи» развернут Босей Сангаджиевой (1918-2001) в «Саатул» («Колыбельная», 1980), адресованной внучке. В стихотворении пять катренов, две последние строчки каждого из них образуют короткий припев: «Амрич, зе куукм / Амулц товкнун унтыч» («Отдыхай, моя внучка, / Спи спокойно») [СацБящн Б. 1980, 130]. Такой же психологический параллелизм актуализирует время суток, когда мир людей и мир природы готовятся ночью ко сну, чтобы утром пробудиться. Солнце садится над широкой степью, а потом появится, чтобы играть с ребенком. Ясная луна мирно всходит, дождь стих, цветы опустили свои головки, жаворонки готовятся петь в ожидании утра. Ср. в калмыцкой колыбельной песне: «ХарБн бутын йоралд / Хамг богшурБа хорйдж. / Хойр живрэн хумэд, / ХарцБуд кевтэд уитж» [цит. по: Басангова 2009, 28] («У корней сосны приютился воробей, / прижав два крыла, / заснул в темноте»), В переводе Г. Фроловым «Колыбельной» припев акцентирует мотив «все спят, и ты спи»: «Спи, моя внучка, / Усни, / Детям пора засыпать» [Сангад- жиева 1983, 79]. Вместо жаворонков появились соловьи, а мотив будущего трансформирован: «Завтра мы выйдем с тобой / Новое утро встречать» [Сангаджиева 1983, 79], те. новый день будут встречать бабушка с внучкой. Из-за этого не использованы метафора и олицетворение из оригинала: «Нарн орундэн шарлхл, / Наадхар чамаг кулахл» («Утром солнце станет желтым, / Будет ждать тебя, чтобы поиграть с тобою») [СацЬящн Б. 1980, 130].
Две колыбельные песни имеют сезонный хронотоп: зимний в стихотворении Анджи Тачиева (1920-1993) «Увлин салькн» («Зимний ветер», 1982) с подзаголовком «Элгон дун» («Колыбельная песня»), весенний в стихотворении Николая Санджиева «Элгон дун» («Колыбельная песня»), В первом примере олицетворение актуализирует название: «Увлин салькн / Урньдж; шуукрна, / Ууд, терзор / Эрхар седно. / Уульсн ооЬичн / Соцсж; оркад, / Ургод цааран / Зулж; одна» [Тачин А. 1982, 79]. «Зимний ветер сердито шумит, / Хочет войти в дверь, окно. / Твой плач / Услышав,/ Эн, тревожась, / Убежал». Припев объединяет все три строфы: «Урглич, кукм, / Унтыч, кукм, / Таван авич, / Таалвр медич» («Спи, мое дитя, / Засыпай, мое дитя, / Получи удовольствие, / Познай негу») [Тачин А. 1982, 80]. Во второй строфе описан процесс баюканья / качания младенца в люльке. В третьей строфе - завершение ситуации с обращением к младенцу: глаза его закрылись, сон его победил, соска выпала изо рта, а обрадованные родители отошли от люльки (деталь - мать пошла на цыпочках).
«Колыбельная песня» («Элгон дун», 2004) Н. Санджиева (г.р. 1956), написанная без припева из трех куплетов, начинается с приготовления ко сну ребенка: «Этхм ковун / орндан орв» («Мой малыш / улегся в кровать») [Сангин Н. 2004, 6]. Пейзажная зарисовка открывается описанием весеннего неба, тепла, затем звездной ночи. «Тогрг одн / Терзар шаБана, / Чамла унтхар / Чирмэд баэна» («Круглая звезда / Заглядывает в окошко, / С тобою хочет спать, / Подмигивает») [Сангин Н. 2004, 6]. Приемом олицетворения вводится в общую картину месяц, к которому обращена просьба укрыть малыша: «ХулБр cap, / Хуча бол» (букв. «Корноухая луна, стань покрывалом») [Сангин Н. 2004, 6]. Прилагательное «хулБр» («корноухий») и существительное «сар» («луна») создают художественный образ неполной луны (месяца) в виде уха. Мотив «всем пора спать, и ты спи» соединяет людей и природу: «Унт, ковум, / Унт, одн» («Спи, мой малыш, / Спи, звезда») [Сангин Н. 2004, 6].
Василий Чонгонов (г.р. 1956) в «Саатулын дун» («Колыбельная песня», 1989) трижды ввел в припев маркер «Бууящ!» [Чонгонов 1989]. Это искаженное «Буува», т.к., по словам автора, в этимологии припева он ориентировался на монгольскую легенду о войне дербетов с халхасцами -когда дербетский разведчик принял услышанный у врагов мотив качания колыбели (буува) за появление богатыря Хатан Буува хатан, и с тех пор дети боятся слова «буува» [см. Басангова 2009, 8]. У калмыков есть мифологическое существо Бужи, которым пугают детей в страшилках [Басангова 2009, 8]. Поэт соединил два слова: буува и бужи, кроме того, сравнил ребенка с солнцем, с золотом, пожелал ему найти свое место в подоле времени («Эн цагин хормад / Эвинь олад осич»).
Подводя итоги, отметим, что колыбельная песня, адресованная детям, в жанровой системе калмыцкой лирики XX XXI вв. находится в периферийной области, не собрана и не изучена. Нами разыскано 15 стихотворений, созданных 11 поэтами. Из них 2 песни названы «Саатул» («Колыбельная»), 4 песни - «Саатулын дун» («Колыбельная песня»), 2 песни - «Элгон дун» («Колыбельная песня»), т.е. с обозначением жанра. Одна песня в названии имеет обращение: «Унтыч, куукм, осич» («Спи, мое дитя, расти»), другая, «Амр саатул делдно» («Время игр заканчивается»), указывает на процесс перехода ко сну. Есть песня, образованная русским маркером «Баю-бай». В заглавии другой песни сезонная проекция - «Увлин салькн» («Зимний ветер»), но с подзаголовком «Олгон дун» («Колыбельная песня»), она может быть отнесена и к «зимней поэзии». Название песни «Чонын саатул» («Волчья колыбельная») вступает в противоречие с подзаголовком «Де-ермчин частр» («Гимн разбойников»), кроме того, это единственный образец, обращенный не к миру людей, а к миру диких животных. Как правило, главный персонаж в литературных песнях представлен в единственном числе, исключением стала песня «Амр саатул делднэ», адресованная малышам в детском саду, а также «Чонын саатул», адресованная волчатам. Все колыбельные, кроме «Амр саатул делднэ», отсылают к ночному времени. Две песни Т. Бембеева и М. Хонинова посвящены собственным детям - Владику и Айте. В двух песнях Б. Сангаджиевой и В. Шуграевой главным персонажем становится внучка. Названия двух довоенных песен Ц. Леджинова и Г. Шалбурова подчеркивают статус заглавного персонажа - «Нилх урнд» («Младенцу»), «Элгон куукдт» («Младенцу»), Вторая из них обрамлена ситуативными коллизиями: приготовление ко сну и сон младенца.
Все примеры не включают имена собственные маленьких адресатов, кроме посвящений. Эбращения к единичному адресату передают любовь и ласку одного из родителей с притяжательным местоимением «мой»: мой дружок, мой милый, мой маленький, мой малыш, мой младенец, мое дитя (в том числе наше будущее, радость судьбы), с гендерным определителем - мой сынок, моя внучка. В отличие от фольклорных песен калмыков и ойратов, где есть сравнения ребенка с яблоком, гранатом, ароматом можжевельника и груши, вкусом дикого меда и водки, с кумысом, отварной грудинкой, а также с веткой волшебного сандала, волной далекого океана, серебряным мостом над глубокой водой, с соловьем, собственным сердцем, со своим сном, с душой, единственной думой [Басангова 2009; Шинжэнэ оорднрин куукдин келнэ билг 2010], литературная колыбельная песня в этом плане сдержанна, поскольку в своей сюжетной модели сфокусирована на прогнозировании жизни адресата в диапазоне от завтрашнего дня до отдаленного времени с пожеланием роста, здоровья, крепости, богатырства, прославления рода / народа для пользы отечества. При этом политический контекст песен 1930-1940-х гг. и I960 г. равнозначен
в манифестации советских мифов о Большой семье, а также о коммунистической стране с мотивом покровительства и охраны детей, о которых заботится родина. В последующем литературная колыбельная песня вновь возвращается к частному, интимному, а не общественному, публичному в политическом контексте, но тем не менее она имеет расширенного адресата, как детский, так и взрослый - читательский, поскольку не обладает прагматической функцией качания-убаюкивания, которая подразумевается в жанровом архетипе.
Фабула сна организует мотивный ряд в литературной колыбельной песне, во многом схожий с фольклорной традицией, - мотивы сна-роста, благополучного будущего, отношения к адресату, утверждения сна, «все спят, и ты спи», «все хотят спать, и ты спи», маркировки адресата, мотивы колыбели, семьи, рода, страны, природы, божественных покровителей, дарения. Мир природы связан с нестрашными зайцами, ягнятами, воробьями, жаворонками, соколами, гусями, утками, кошкой, с цветами, полынью, сосной, с такими космогоническими понятиями, как небо, звезды, солнце - луна / месяц, со стихиями - ветер, с хронотопом - ночь, полдень, утро, зима - весна. Основной географический ландшафт - степь. Мир вещей определен окружающей средой: люлька, кроватка, дверь, окно, подушка, постель, одеяло, соска, лампа, чашка, спутник, флаг, самолет. Локус - дом, детский сад. В «Волчьей колыбельной» - логово. Мир семьи представлен в основном отцом, матерью и ребенком; матерью, ребенком и бабушкой; бабушкой и внучкой. Страна если позиционируется, то как советская, коммунистическая.
Литературные колыбельные песни, как правило, небольшие по объему, куплетной формы, обычно с автономным припевом или включенным двумя строками в конце каждой строфы. Формулы-маркеры, с одной стороны, фольклорные - буувэ / буувлдэ (баю-бай по-калмыцки и по-русски), ритмические (а-а-а), традиционные речевые формулы - спи спокойно / засыпай скорее, глазки закрывай, с другой - авторские: таг-чик / тагчг (тише, тише). Сравнения ребенка с отцом-летчиком, с эпическим богатырем Алым Хонгором актуализируют связь с эпохой, с устным народным творчеством, с архетипом героя. Антропоморфные образы солнца, луны, звезды, ветра включены в образно-символическую систему стихотворения, участвуя в фабуле сна. Метафоры играющего с ребенком солнца, белой дороги, стремян, подола времени передают национальное мировидение и верования. Элементы заговора от бессонницы, йоряла-благопожелания, считалки входят в колыбельную песню калмыцких авторов с использованием повторов, параллелизма, олицетворения.
Калмыцкие поэты в колыбельных песнях придерживаются национальной версификации с анафорой и аллитерацией. Например, у Тачиева: «Урглич, кукм, / Унтыч, кукм, / Таван авич, / Таалвр медич», парная, лексико-синтаксическая, звуковая анафора, аллитерация на согласные звуки т, к, м, гласные у, у являют звукоподражание ветру, парная мужская рифма и рифмовка, двустопный ямб. У Санджиева: «Хулйр cap, / Хуча бол» - парная анафора с аллитерацией на согласные звуки х, л, р, мужская рифма, свободная рифмовка, двустопный ямб.
Если в колыбельной песне русских поэтов есть, помимо обычного адресата ребенка, адресация к самому себе, к другу, к возлюбленной, в том числе антиколыбельная, пародия на колыбельные песни [Головин 2000, Тихомирова 2012], то в калмыцкой лирике такие примеры единичны. Можно назвать колыбельную песню В. Чонгонова, адресованную женщине, «Спи, моя любимая...» [Чонгонов 2000, 18].
Таким образом, ведущим жанром в колыбельной песне современных калмыцких поэтов остается стихотворение, адресованное детям.
Список литературы Колыбельная песня в калмыцкой лирике XX-XXI вв.
- Басангова Т.Г. Детский фольклор калмыков. Элиста, 2009.
- Борджанова Т.Г. Обрядовая поэзия калмыков (система жанров, поэтика). Элиста, 2007.
- Бембеев Т.О. Стремнина: стихи. Элиста, 1966.
- Бергман Б. Воспитание детей у калмыков / пер. с нем. Т. Емельяненко // Теегин герл. 1991. № 3. С. 118-120.
- Богданов К.А. Право на сон и условные рефлексы: колыбельные песни в советской культуре 1930-1950-х годов // Новое литературное обозрение. 2007. № 4 (86). С. 7-46. URL: https://www.litmir.me/br/?b=236908&p=1 (дата обращения: 30.01.2020).
- Борлыкова Б.Х. О классификации калмыцких народных песен // Современные проблемы науки и образования. 2014. Вып. 6. URL: https://elibrary.ru/ download7elibrary_22878635_96588418.pdf (дата обращения: 30.01.2020).
- Борлыкова Б.Х. О музыкальной культуре ойратов // Полевые исследования. 2013. № 1. С. 191-211.
- Большой академический монгольско-русский словарь: в 4 т. / отв. ред. Г.Ц. Пюрбеев Т. 1. М., 2001.
- Буджала Е. Баю-бай // Волшебная музыка: сб. детских песен для учащихся национальных классов (1-4 класс). Элиста, 2005. С. 25.
- Ван Гао Чао. Традиционная музыкальная культура ойратов. Элиста, 2012.
- Головин В.В. Русская колыбельная песня: фольклорная и литературная традиция: дис. ... д. филол. н.: 10.01.09. СПб., 2000. URL: https://documentsite. net/223353/ (дата обращения: 30.01.2020).
- Гюнтер Х. Литература в контексте архетипов советской культуры // В поисках новой идеологии: социокультурные аспекты русского литературного процесса 1920-1930-х годов. М., 2010. С. 191-229.
- Калмыцкое устное народное творчество / сост. Н.Ц. Биткеев. Элиста, 2007. (На калм. и рус. яз.).
- Калмыцко-русский словарь / под ред. Б.Д. Муниева. М., 1977.
- Карпов И.П. Поэзия пестования: ситуативная система связей // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2012. № 2 (2). С. 79-84.
- Коваева Б.М. Калмыцкая песенная народная поэзия: традиция, современное состояние и формы бытования: автореф. дис. ... к. филол. н.: 10.01.09. Майкоп, 2017.
- Кульганек И.В. Монгольский поэтический фольклор: проблемы изучения, коллекция, поэтика. СПб., 2010.
- Леджинов Ц.О. Песня двух времен: стихи и поэма / пер. с калм. Элиста, 1964.
- Манджиева Б.Б. К вопросу изучения калмыцких колыбельных песен // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=16940 (дата обращения: 30.01.2020).
- Сангаджиева Б. Колыбельная // Теегин герл. 1983. № 6. С. 79.
- Тепкенкиев Э. Саатулын дун // Манджиев Б.Н. Бабочка. Песни для детей. Элиста, 1997. С. 11-13.
- Тихомирова Л. Н. Литературная колыбельная песня как жанр «ночной» поэзии // Дергачевские чтения-2011. Русская литература: национальное развитие и региональные особенности. Екатеринбург, 2012. Т. 2. С. 367-372.
- Ханинова Р.М. Заговор от бессонницы в романе М. Хонинова «Помнишь, земля смоленская» и в повести Ч. Айтматова «Пегий пес, бегущий краем моря» // Научное наследие профессора А.Ш. Кичикова и актуальные проблемы современной калмыцкой филологии и культуры». Элиста, 2012. С. 139-141.
- Чонгонов В. Саатулын дун (Из архива В. Чонгонова).
- Чонгонов В.Б. Со степи начинаюсь: стихи. Элиста, 2000.
- Шуграева В. К. Бабочка: стихи. Элиста, 2000.
- Шуграева В. Саатулын дун (2010, 2014). Из архива В. Шуграевой.
- Бембин Т. Зеер: шулгуд болн поэмс. Элст, 1960.
- Бембин Т. Чонын саатул (Деермчин частр) // Байр. 2001. № 5-6. Х. 14.
- Кичгэ Т. Буувлдэ (Куукд саатуллЬна дун) // Хальмг унн. 1983. Июлин 22. Х. 4.
- Лежнэ Ц. Нилх урндэн // Улан хальмг. 1939. Мартын 30. Х. 3.
- СацЬжин Н. влгэн дун // Байр. 2004. № 5. Х. 6.
- СацЬжин Б. Саатул // Теегин герл. 1980. № 3. Х. 130.
- Тачин А. Мини тулг: шулгуд болн поэмс. Элст, 1982.
- Тевкнкин Э. Эрун санан: шулгуд. Элст, 1986.
- Тевкнкин Э. вруни серун аИар: шулгуд. Элст, 1968.
- Хоньна М. Мини домбр куцкнхлэ: шулгуд болн поэмс. Элст, 1964.
- Цацлын дееж: барт белдснь Н. Содмон. Элст, 1997.
- Шалвра h. влгэн куукдт // Ленина ачнр. 1940. Мартын 7. Х. 4.
- Шинжэнэ еерднрин куукдин келнэ билг. Детский фольклор ойратов Синь-цзяня / сост., предисл. Н. Батбайра; перелож. с ойратской письменности (тодо би-чиг) на современное калмыцкое письмо и пер. на рус. яз. Б.Х. Тодаевой Элиста, 2010. На калм. и рус. яз.
- Шугран В. Саатул // Манджиев А., Шуграева В. Светлый мир. Песни для детей на калмыцком и русском языках. Элиста, 2010. С. 71.