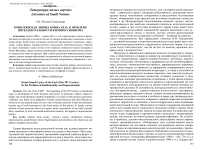Коми женская лирика конца XX в.: к проблеме интеллектуальности и импрессионизма
Автор: Малева Анастасия Валерьевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Литература малых народов
Статья в выпуске: 3 (38), 2016 года.
Бесплатный доступ
Конец 1980-х - начало 90-х гг. стал переходным этапом в развитии коми литературы и поэзии в частности: авторы подвергают сомнениям и переосмыслению ценностные установки писателей предыдущего поколения, «предлагая» новые формы художественного осмысления действительности. Одними из таких новаторов в коми поэзии этого периода становятся Галина Бутырева и Нина Обрезкова, лирика которых ознаменовала зарождение новой волны женского творчества в коми литературе. При глубоко различном мироощущении поэтесс лирику данных авторов объединяют эксперименты в области поэтической формы, насыщение текстов бытийно-интеллектуальным содержанием, обращение к эстетике и поэтике импрессионизма.
Современная коми поэзия, женская лирика, интеллектуальность, импрессионистичность, малые литературные формы, фрагментарность и целостность, впечатление и закономерность, метафора и символ
Короткий адрес: https://sciup.org/14914562
IDR: 14914562
Текст научной статьи Коми женская лирика конца XX в.: к проблеме интеллектуальности и импрессионизма
Теория феномена интеллектуальной поэзии как художественного явления находится в настоящий момент на стадии осмысления. «Интеллектуальный тип творчества имеет чрезвычайно широкий диапазон форм»1, а потому критерием для характеристики поэзии в качестве интеллектуальной в исследованиях литературоведов могут служить такие признаки, как 166
авторская установка на гносеологичность, или «познавательный максимализм .. .лирического героя»2, авторская субъективность, рождающая нечто среднее между чувственным созерцанием и рассудочным постижением бытия3, обнаружение идеи (разума) как источника творческого импульса автора4 и др. Интерпретация, видоизменение, развитие «чужого текста» воспринимаются как наиболее очевидный показатель интеллектуальной поэзии, однако и при отсутствии интертекста лирика также может быть семантически многослойной, насыщенной знанием жизненного или духовно-философского опыта, в частном, глубоко личном распознающей законы бытия, метко воссоздающей глубинный - видимый не каждому -смысл повседневности. Как справедливо отмечено И.И. Плехановой, «.. .духовный потенциал поэзии интеллектуального типа, равно как и эмоционально-непосредственного, определяется личностью творца, а не статусом по эта-“интеллектуала”, как бы ни был он начитан, ироничен, изощрен в игре с интертекстом»5.
Несмотря на официальное признание женского литературного творчества, в общественном сознании сохраняется специфическое отношение к нему как ограниченному сферой семейно-бытовых, любовных, межличностных отношений, тяготеющему к выражению сугубо автобиографических, телесных, эмоционально-чувственных, иррациональных переживаний. В свою очередь это приводит «к априорному игнорированию интеллектуальной составляющей женской литературы»6, к отказу в способности писателя-женщины выходить за рамки «женских» тем, мыслить и рассуждать на уровне универсальных ценностей, создавать социально и экзистенциально значимые произведения («значимые» с точки зрения доминировавшей на протяжении длительного времени и продолжающей так или иначе проявлять себя рудиментно, на уровне генной памяти человека па-триархатной системы). В стихийности, непосредственности, интуитивности, «восприятии жизни... сначала чувством, а потом умом»7, как правило, наблюдают природу женского начала. Однако активно развивающаяся на протяжении последнего столетия и особенно в наши дни литература авторов-женщин позволяет вносить поправки в данный стереотип восприятия женского творчества, а, возможно, и внести коррективы в само понимание интеллектуальной поэзии. Объективное познание и выражение женщиной себя и всех граней своего творческого потенциала требует гораздо более длительного отрезка времени, нежели полтора-два века, и в наши дни, преодолев этапы подражания и противостояния «мужскому» литературному канону, она выходит на новый уровень самоидентификации. Не углубляясь в проблему, духовно-интеллектуальное, философское начало лирики, остроту, проницательность, обобщающую силу художественной мысли авторов-женщин так или иначе отмечают исследователи многих литератур8. В коми поэзии рационально-аналитический тип мышления, стремление выходить на уровень философских обобщений в поэтическом осмыслении феномена жизни можно отметить во многих стихотворениях первой крупной поэтессы Александры Мишариной (сер. 1960-х - нач. 70-х гг.), а также в ранней поэзии Алены Ельцовой (конец 1990-х гг). Однако наи- более выразительно близкий к интеллектуальному тип мироощущения нашел преломление в творчестве Г. Бутыревой (г.р. 1944) и Н. Обрезковой9 (г.р. 1965).
Нина Обрезкова - поэтесса, широко известная в литературных кругах родственных финно-угорских народов, автор пяти поэтических сборников. Она успешно пробует себя также в прозе и драматургии10, активно занимается переводами литературных произведений. Впервые заявив о себе на страницах журналов на рубеже 1980-90-х гг, Н. Обрезкова заговорила с читателем на особом языке - намеков, полутонов, символов. Меткость, точность наблюдений, выявляющих признаки духовно-нравственного кризиса современника, сосуществует в творчестве коми поэтессы с тонкой, изящной, глубоко женственной любовной лирикой, а проницательность в осмыслении современности - с трансляцией народных поверий, глубинных истоков духовной культуры родного народа. Поэзия Н. Обрезковой воплощает рационально-интуитивный тип мышления в органичном симбиозе логического и мифопоэтического компонентов, формирующих авторскую картину мира; последний проявлен в сакрализации автором событий и предметно-бытовой атрибутики, анимистическом ощущении природы, в мистическом чувстве единства и взаимообусловленности всего происходящего на Земле. В творчестве поэтессы стереотипно маркируемые как черты мужской модели поведения эмоциональная сдержанность, ироничность по отношению к действительности и самой себе контрастируют с характером человека тонкой душевной организации - восприимчивого не только к своей, но и к чужой боли, угнетенного отношением современника к собственной жизни, людям, природе, родине: «спектр чувств интеллектуального сознания особый - глубина переживаний не эмоциональна <.. > экстатические состояния не могут быть переданы как волнение, трепет, боль, восторг, просветленность»11. Ее поэзия отразила переживания личности порубежного периода с присущими ей чувствами усталости, маргинальности, духовного одиночества, «бездомности», утраты основ и ориентиров; это творчество странника, проживающего различного рода пограничные состояния в непрерывном поиске социального и духовного предназначения и утверждающего незыблемые нравственноэтические основы человеческого поведения, сосредоточенные для автора в мудрости рода и знаниях предков. В силу авторской концепции литературного творчества именно через страдания, жизненные невзгоды и глубокие душевные потрясения поэта проложен путь к глубине и эстетической силе стихотворения: По просторной дороге шагая, / стихотворение не рождается... / чем уже дорога, / Тем для него лучше. / Но совсем хорошо, /Когда вокруг одно лишь бездорожье. / Тогда стихотворение / Особенно полно величия и достоинства. (Здесь и далее, за исключением отдельных, отмеченных нами примеров, подстрочный перевод наш. -А.М.) В раздумьях Н. Обрезковой - мировоззрение личности аналитико-философского «проживания» действительности, при этом концепуальные взгляды поэтессы реализованы большей частью в особо концентрированной - «импрессионистической»12 - поэтической форме.
Коми литературовед В.А. Латышева непривычный для коми литературы импрессионизм отметила во многих стихотворениях А. Ельцовой -автора элегий, глубоко переживающего различные формы утраты, фиксирующего быстротечность, изменчивость, бренность человеческой жизни; в ее стихах, по мнению исследователя, «схвачено впечатление от чувства, пейзажа, состояния»13. Однако немаловажную роль в передаче импрессионистических, по сути, фрагментарных, сиюминутных переживаний поэта, играет также и форма произведения14. Интерес современных писателей к малым формам отмечается многими литературоведами, в т.ч. и исследователями коми литературы (жанры маленькой драмы, короткого рассказа, танка, хокку, лирической, лирико-прозаической миниатюры)15. Тенденция затронула не только поэзию рубежа XX-XXI вв. (О. Уляшев, А. Елфимова, Е. Афанасьева, Л. Ануфриева и др.), но и творчество глубоко зрелых авторов, получивших известность в 1960-70-е гг. мастеров классического рифмованного стихотворения (Г. Юшков, В. Лодыгин, А. Мишарина). «Традиция» развертывать, обнажать мысль-чувство в нескольких и более строфах теряет былую актуальность, а малый объем поэтической формы обуславливает рождение насыщенного семантическими пластами образа-идеи или образа-символа, зачастую требующего вдумчивого прочтения, читательской расшифровки.
Так, многие миниатюры Н. Обрезковой можно охарактеризовать как безрифменные «сгустки» напряженного мыслительного процесса, назревшего меткого наблюдения, умозаключения или внезапно нахлынувших эмоции, желания, озарения, признания, откровения: Снежинка все равно / находит, свою дорогу, / хоть и цепляется / в полете; Как же верится / мягким словам... - / как жестки / слова сети; На черном холсте /много-много белых точек - / это / на сельском кладбище / этого года кресты (пер. автора); Лето, / пусть короткое и холодное, / к нам на север тоже заглядывает... (пер. автора). Бесстрастность, лапидарность поэтических высказываний формируют ощущение объективности воссоздаваемого, позволяют говорить о поэзии, не столько рефлексирующей, «размышляющей» в попытках познать тайны мироустройства, но тяготеющей к констатации готовых «формул» истины - результатов познания. Упрощение, сокращение формы влечет усложнение содержательных пластов стихотворения; лаконичность, подразумевающая как завершенность и целостность, так и эскизность мироощущения (умолчание-намек), придает тексту высокую степень ассоциативности: невыраженные до конца чувство и мысль уходят на уровень подтекста, запуская в читателе механизмы творческой рефлексии, со-творчества с автором. Малая форма становится наиболее удачным средством придания деталям повседневных ощущений, явлений и событий масштабов макромира, средством обнаружения вечности в непосредственном, естественном, непринужденном.
Заметка-впечатление, миниатюра-импрессия поэтессы зачастую сопряжена с емкой сентенцией, ироничной иносказательностью в отражении драматичной правды жизни: Вернешься домой /Ты большим человеком... / Смотри, не ударься входя, /Наш косяк невысок. / Заходя, ты пригнись на пороге (пер. автора); Жизнь где-то в сторонке пролетает... /Церковь / одиноко стоит /заброшенная... /Значит, /Жизнь где-то в сторонке пролетает. Образ дверного косяка (порога) деревенского дома обретает контуры сакрального символа - портала, через который коми совершает перемещения между «своим» пространством малой родины (соотносится в стихотворении с пространством домашнего очага) и пространством «чуждым», не называемым в стихе - городским, шире - выходящим за пределы национальной среды (соотносится с пространством улицы). Сентенция второго стихотворения, в отличие от первого, имплицитна - встроена в образ сельской церкви, отсылающей к основам религиозно-нравственной философии, что не только формирует в сознании читателя цепочку ассоциаций возможных «грехов», заблуждений современника, но и характеризует духовное состояние современных российских глубинок - сел, деревень. Выбирая более плавную, более толерантную по сравнению с поэзией предыдущего периода форму сентенции, избегая прямых нотаций, обвинений, назиданий, описательное™ в выражении чувства и мысли, поэтесса оставляет за адресатом право оценить себя с данных позиций, возможность выбора в пересмотре взглядов на жизнь, живое течение которой неотделимо для автора от общечеловеческих ценностей. Единичный, незначительный на первый взгляд конкретно-предметный образ выполняет в миниатюрах функцию аллюзии - отсылки к проблемам более глобального характера, выражая стремление автора в малом запечатлеть большее. В стихотворениях коми поэтов наблюдается высокая степень поэтизации малой родины, восприятие ее на фоне хладнокровно-прагматичного города как средоточия истинных ценностей, выстроенных на основе интуитивной, гармоничной взаимосвязи человека и природы (шире - окружающего мира, космоса). Несмотря на это, глубоко актуальны и злободневны в региональных литературах проблемы отношения «бывшего сельчанина» к малой родине, угасания деревень, духовного опустошения сельского жителя и многие другие, связанные с данной сферой. Следует согласиться с утверждением, что «импрессионист - это художник, говорящий намеками, субъективно пережитыми и частичными указаниями, воссоздающий в других впечатление виденного им целого»16.
Размышляя об авторе-импрессионисте, вместо цельного характера исследователи наблюдают «осколки раздробленной личности, переживающей свое “я” в один из мигов своей психики»17. Однако отражение мира Н. Обрезковой в форме фрагментов позволяет не только выделить наиболее значимые для автора аспекты жизни, придать незаметно-личному семантическую рельефность, не углубляясь в подробности, через частное подвести к общественно значимой проблеме, но и вывести емкие, универсальные, онтологического уровня обобщения: Мы все еще дети, / Если живы наши матери, / И дети вдвойне, / Если бабушки живы...; Как же быстро / соскребает время цену человеку... / Е1о оно же и поднимает. Лирика поэтессы не только фиксирует мгновение мимолетного чувства, эмоции, впечатления, но и свертывает «мгновение» закономерности, что придает таким стихам черты пословиц и поговорок: Раньше детей заве- дешъ, /раньше и повзрослеешь. Справедливо отмечено А.А. Михайловым, что «...работы импрессионистов <...> сразу же погружают наше сознание в предельно кратко сформулированную художественную идею <...> Зрелый литературный импрессионизм реализует себя в афористическом жанре.. ,»18. Афористичность в лирике Н. Обрезковой (о чем говорит и тот факт, что многие стихи поэтессы цитируются читателем в повседневной речи), интегрированная, как правило, с глубоко национальной - пейзажной - метафорой, содержит черты архетипической образности, восходящей к устному народному творчеству коми (образ солнца, леса, реки и др.): Ты меня любишь, / но ты не знаешь, / что вечером / после захода солнца, /горизонт /уже не бывает красным... /Хоть солнце скрывается, конечно, /за ближним лесом... (пер. автора). Можно говорить о полисеман-тичности многих метафор автора: заключая в себе реальную событийную основу, образ поэтессы тем не менее ориентирован на индивидуальную рецепцию читателя с учетом специфики его мировосприятия, а потому стремится к своему многозначному истолкованию, есть стихи, в которых он - угадываем.
Импрессионистичность стихов Н. Обрезковой, таким образом, зачастую насыщена содержательной мыслью, сформированной в процессе интеллектуально-интуитивных познаний автора, или содержит намек на нее: мозаичность, сегментированность, калейдоскопичность мироощущения зачастую синтезирована с видением тонких граней незыблемого, бытийного, вечного, органично выраженного посредством отражающих особенности национальной среды предметно-изобразительных, природных образов. Подсознательное желание упорядочить, структурировать образ мира непростой порубежной эпохи приводит и к тому, что, осмысливая насыщенный противоречиями сюжет собственной судьбы, поэтесса зачастую «теоретизирует» («классифицирует») те или иные аспекты жизни, на основе личных впечатлений дает определения таким бытийным категориям, как любовь, творчество, время, счастье и др.: Есть стихи, / Которые / Легко летят по глади волн, / Есть - / Против течения тяжело поднимаются, / Есть - / И камнями на дне лежащие (пер. автора); Жизнь, оказывается, / похожа на утаптывание в зимнем лесу места под костер... /Насколько широко утопчешь, - / таков и будет огонь, - / настолько и согреешься.
Иной подход к осмыслению мира в творчестве Галины Бутыревой (г.р. 1944), произведения которой заметно выделяются в ряду не только женской, но и всей коми поэзии в целом. Заявив о себе лишь в 1980-е гг, она вошла в литературу как зрелый автор стихов на русском и коми языках, возродивший в коми поэзии традиции свободного стиха - верлибра; черты ее мироощущения нашли органичное выражение и в экспериментах в области японских жанров танка и хокку. Г. Бутырева обратила внимание на свое творчество не только стремлением вывести современную коми поэзию на новый уровень (обратившись к традициям коми народного стиха и западно-европейского верлибра), синтезировать семантико-структурные возможности двух противоположных типов организации художественной речи, но и специфическими эстетическими вкусами, воссоздающими помимо национального мировидения черты мировоззрения восточной культуры. При предельной простоте поэтического слога, незавуалированности авторской позиции19, постижимое™ образов и метафор читатели и исследователи единогласно характеризуют взгляд поэтессы на мир как проникнутый особой - бытийной - мудростью20. Не только исследователи, но и сама поэтесса ощущает свое мировидение несколько иным: «Я - не классик, я - другое дерево»21.
Если интеллектуальное и импрессионистическое начала в стихах Н. Обрезковой формируют особое лирическое напряжение, в основе которого - ощущение боли и неприкаянности, переживание действительности во всех ее противоречиях и испытаниях, посланных судьбой, то в лирике Г. Бутыревой эти черты обусловлены совершенно противоположными аспектами мировосприятия. Г. Бутырева известна особым интересом к путешествиям и к искусству фотографии, что во многом обуславливает поэтику ее произведений, нацеленных на запечатление, воссоздание эстетики окружающего мира в его гармонии, безмолвии, равновесии: ее лирика воплощает процесс медитации, или духовной интеграции с окружающим миром, приятие его в любой существующей формы как частицы собственного Я22. А потому интеллектуальное начало поэзии Г. Бутыревой - особой природы: оно - в поэтической трансляции некой вселенской мудрости, интегративности мышления, подразумевающей выход не только за границы национального пространства (активное обращение к инокультурным образам, таким как кит, каменные лабиринты, джин, кантеле, кимоно и мн. др.). Но происходит и преодоление пределов планеты Земля и физически ощущаемой реальности (образ космоса, параллельных измерений, реинкарнации), критериев, позволяющих оценить жизнь и общество с гражданских, социо-культурных, религиозных, морально-этических, духовно-нравственных и др. позиций: героиня не критикует, не судит, не назидает, а, наблюдая и принимая, познает. Поэзия Г. Бутыревой - «открытие в очевидном присутствия запредельного»23, выражение уважения любой форме жизни: мир воспринимается поэтессой как единое неделимое целое, в котором все имеет свой смысл и предназначение.
Ощутить разницу в мировоззрении авторов позволяет сравнительный анализ образов заброшенной церкви. Так, в стихотворении Н. Обрезковой «...лес закончился...» образ церкви, стены которой серы и невзрачны, особенно на фоне ярко выкрашенных деревенских домов, вызывает чувство глубокой скорби, становясь средством авторской оценки духовно-нравственного облика современного общества. В стихотворении Г. Бутыревой «Я смотрела на нее...» заброшенная церковь становится предметом восхищения и любования, вызывая глубокие чувства сопричастности к Высшему миру, а боль лирической героини обретает форму возвышенного удивления перед нерушимой святыней: Даже в своем сегодняшнем разоре / зияющих окон, / сорванных дверей, / полусгнивших пролетов лестниц, / но взлетающих вверх, / (всеравно /взлетающих вверх!) / Она была могучая и величественна, - / над позором, / над унижением...
Цель миниатюры-импрессии в лирике Н. Обрезковой - уловить «нерв» мысли и чувства, зафиксировав их в предельно краткой, лаконичной форме, тогда как в лирике Г. Бутыревой, восходя к эстетике Востока, импрессионизм выражен в классическом его представлении как «искусство, сообщающее человеку радость от простых и естественных, но одновременно сказочно богатых даров бытия: счастья жить, счастья быть в этом мире солнца и света, воды, цветов, деревьев»24: О, черная баня, о! /Черная баня, о! / О, черная баня! Поэтика импрессионизма позволяет Н. Обрезковой кратко и в то же время цельно отразить устойчиво-непреходяще-ценностное в жизни человека, в то время как штрихи-воспоминания, штрихи-наблюдения за течением постоянно трансформирующейся повседневности в лирике Г. Бутыревой акцентированы на передаче причудливых форм вызываемых ею ассоциаций: В миг, / когда лодка моя / над омутом черной воды / проплывала, / мне показалось: / лодка / скользила наперегонки / с семужным стадом - / по ослепительно-белому облаку / в небе высоком; Живое чудо-дерево, / оленье стадо / поскрипывает / ветками-рогами, / Упираясь / в Млечный путь (из цикла в «Болыиеземельской тундре»). Цель поэзии Г. Бутыревой - разглядеть в окружающей действительности красоту и мудрость, восходящие к первоначалам бытия, лирики Н. Обрезковой - выразить сложноорганизованный внутренний мир человека, его большей частью напряженные интеллектуальные и чувственно-интуитивные переживания: Белый, косматый зверь /разнежился - лежит / на цветущих /яблонях, / грушах, / вишнях... / снег (Г. Бутырева «Циклон»); Где-то в груди, /Мается, /Пинается, /Жжет, / Саднит, /Царапается, / Возится /Новое стихотворение (Н. Обрезкова).
Героиня Н. Обрезковой мыслит образами национального мира, в то время как героиня Г. Бутыревой - представитель планетарного типа мышления, при котором мир воспринимается вне категорий дуальности, вне акцентов на социальных, культурных, духовных конфликтах и катаклизмах. Земля в ее поэтическом пространстве предстает как планета среди множества других измерений, и если героиня Н. Обрезковой - странница-мученица, плутающая в пространстве собственной судьбы, то творчество Г. Бутыревой - это лирика межгалактического странника, постигающего уникальность бытия планеты Земля: Без устали хожу по Земле, / без устали изучаю ее, / без устали слушаю ее, /И без устали удивляюсь, / что и мне выпало счастье/жить на этой земле (Полной грудью дышит...).
Анализ лирики коми авторов-женщин дает основание говорить о разных формах воплощения в поэтическом тексте черт интеллектуальности и импрессионизма, восходящих к индивидуальному авторскому восприятию мира. Импрессия Г. Бутыревой традиционна, имеет «восточные» корни: позволяет воссоздать непосредственное созерцание уникальной гармонии планеты Земля, выраженной в природе, людях, культурах. Импрессия И. Обрезковой сформирована стремлением «уплотнить», зафиксировать не только мгновение сиюминутной эмоции, желания, озарения, но и «мгновение» закономерности, емко характеризующей духовную и социальную сферу жизни человека (поэтические афоризмы, стремление к выведению «формул» и «теорий» в осмыслении повседневной жизни). Интеллектуальное начало стихов Н. Обрезковой обусловлено аналитикофилософским, рационально-интуитивным взглядом на реалии современности, сопряженным с непростым личным жизненным опытом, зачастую оно выражено в диалоге с читателем на уровне намека и подтекста (поли-семантичность метафор и символов), в то время как героиня Г. Бутыревой является транслятором вневременного - вселенского - знания, в основе которого - лежащее за границами общественных установок понимание тайны земного мироустройства. Можно говорить о том, что интеллектуальность мышления не только не противоречит интуитивно-чувственному восприятию мира, но более того, взаимодополняясь, обогащаясь им, выводит писателя на новый - синкретичный - уровень миропознания.
Работа выполнена в проекте Комплексной программы УрО РАН 2015 г. № 15-13-6-4 «Коми литература: опыт художественного развития в связях с классическим наследием».
Список литературы Коми женская лирика конца XX в.: к проблеме интеллектуальности и импрессионизма
- Плеханова И.И. Интеллектуальная поэзия: Иосиф Бродский, Генрих Сапгир, Д.А. Пригов. М., 2016. С. 27, 29, 137,45
- Гричанина В.В. Пафос познания мира и интеллектуальных открытий в лирике Л. Мартынова // Международный академический вестник. 2015. № 2 (8). С. 31
- Шевчук Ю.В. Интеллектуальная форма лиризма в поэзии И. Анненского ("Трилистник вагонный") // Вестник Северо-Осетинского государственного университета К.Л. Хетагурова. 2014. № 1. С. 214-218
- Стрелкова А.Ю. Интеллектуальная мотивация в концепции творчества М. Волошина//Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 6 (36). Ч. I. С. 173-175
- Пензина О.В. Критерии гендерного анализа женской прозы конца XIX века в современном литературоведении//Наука. Инновации. Технологии. 2008. № 3. С. 136
- Львова Н. Холод утра (Несколько слов о женском творчестве)//Жатва. Кн. V. М., 1914. С. 250
- Горбунов Г.И. Заметки о современной мордовской поэзии//Между Мокшей и Сурой. Саранск, 1981. С. 220
- Валтон А. Нина Обрезкова (Послесловие)//Обрезкова Н. Нинпу (Липа). Таллинн, 2007. С. 69
- Горинова Н.В. Поэтика пьесы Н. Обрезковой "Духовна" // Ежегодник финно-угорских исследований. 2016. № 2. С. 79-91
- Мартышкина Т.Н. Импрессионизм: от художественного видения к мировоззрению//Вестник Томского государственного университета. 2007. № 304. С. 76
- Латышева В.А. Женская лирика коми//Классики и современники: статьи о литературе. Сыктывкар, 2005. С. 117
- Кундаева Н.Н. Жанровый потенциал малой лирической прозы в раскрытии импрессионистского мирообраза//Жанры в историко-литературном процессе. СПб., 2013. С. 21-27
- Кузнецова Т.Л. Малые формы коми прозы конца XX - начала XXI в.: особенности художественного развития. Сыктывкар, 2014. С. 4-11; 24-31
- Бальмонт К.Д. Элементарные слова о символической поэзии//Литературные манифесты: от символизма до «Октября». М., 2001. С. 55
- Львов-Рогачевский В. Импрессионизм//Литературная энциклопедия: словарь литературных терминов: в 2 т. Т. 1. М.; Л., 1925. С. 291
- Михайлов А.А. Золотая осень русской литературы. Аналитическая статья профессора социальной психологии о современном состоянии отечественной литературы. М., 2004. URL: http://rychkov-valentin.narod.ru/(дата обращения 05.01.2015)
- Латышева В.А. Галина Бутыревалöн кывбуръяс (Стихи Галины Бутыревой)//Латышева В.А. Миян кывным мыйöн шыасяс (Как наше слово отзовется). Сыктывкар, 1991. С. 156
- Демин В.Н. «Возведу дом в самой себе…» (Г. Бутырева)//На небе звезда…: Введение в теорию и историю коми поэзии. Сыктывкар, 1995. С. 271
- Бутырева Г. «Я не классик, я -другое дерево//Республика. 2009. 18 сентября. С. 16
- Малева А.В. Поэтическая медитация Галины Бутыревой: «восточное» мировосприятие лирической героини//Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2015. № 8 (50). Ч. 2. С. 111-114
- Захарова В.Т. Импрессионизм в русской прозе Серебряного века. Н. Новгород, 2012. С. 19
- Ельцова Е.В. Трансформация жанров японской лирики (танка и хокку) в поэзии Г. Бутыревой и О. Уляшова // Проблемы жанровой поэтики коми литературы. Вып. 65. Сыктывкар, 2007. С. 141-154
- Горинова Н.В. Маленькая драма Г. Юшкова «Вир тшыкöдысь» (Портящий кровь): конфликт и характеры // Финно-угорские языки и культуры в социокультурном ландшафте России. Петрозаводск, 2014. С. 178-181
- Косова Л.А. Художественный мир современной коми-пермяцкой поэзии. Кудымкар, 2007. С. 70-88
- Федорова Л.П. Художественно-эстетические поиски удмуртской женской поэзии начала XXI века//Вестник Чувашского университета. 2011. № 1. С. 302
- Степин С.Н. Медитативная лирика как особый этап развития современной женской поэзии Мордовии//Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 37 (252). Вып. 61. С. 132, 133, 134
- Капушевская-Дракулевская Л. Женское поэтическое письмо в македонской литературе//Мировая литература в контексте культуры. 2008. № 3. С. 48
- Нартыев Н.Н. Декадентский извод в русской поэзии конца XIX -начала XX века (на материале творчества З. Гиппиус)//Вестник Волгоградского государственного университета. 2014. № 1 (13). С. 15. (Сер. 8)
- Прокофьев В. Импрессионисты и старые мастера//Французская живопись второй половины XIX века и современная ей художественная культура. М., 1972. С. 36
- Грушицкая М.А. Интерпретация импрессионизма русскими поэтами на рубеже XIX-XX веков//Идеи и идеалы. 2014. № 3 (21). Т. 2. С. 165
- Смертина О. Ночь с рунами, или секреты, поведанные шепотом//Республика. 1999. 11 декабря. С. 5