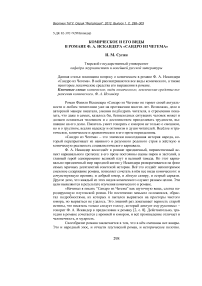Комическое и его виды в романе Ф. А. Искандера «Сандро из Чегема»
Автор: Сугян Инна Мамиковна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2012 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена вопросу о комическом в романе Ф. А. Искандера «Сандро из Чегема». В ней рассматриваются все виды комического, а также некоторые лексические средства его выражения в романе.
Комическое, виды комического, лексические средства выражения комического, ф. а. искандер, f. а. iskander
Короткий адрес: https://sciup.org/146120939
IDR: 146120939 | УДК: 82-392+929Искандер
Текст научной статьи Комическое и его виды в романе Ф. А. Искандера «Сандро из Чегема»
Роман Фазиля Искандера «Сандро из Чегема» не теряет своей актуальности и любим читателями уже на протяжении многих лет. Возможно, дело в авторской манере писателя, умении подбодрить читателя, в стремлении показать, что даже в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях человек может и должен оставаться человеком и с достоинством преодолевать трудности, выпавшие на его долю. Писатель умеет говорить с юмором не только о смешном, но и о грустном, вселяя надежду и оптимизм в души читателей. Весёлое и трагическое, комическое и драматическое в его прозе неразделимы.
«Сандро из Чегема» – это эпически воссозданная история народа, который перепрыгивает из наивного и разумного родового строя в жёсткую и комическую реальность социалистического карнавала.
Ф. А. Искандер воссоздаёт в романе праздничный, пиршественный аспект карнавального гротеска: в его прозе постоянны сцены пиров и застолий, а главный герой одновременно великий плут и великий тамада. Но этот карнавально-праздничный мир народной жизни у Искандера разворачивается на фоне самых мрачных десятилетий советской истории. Всё это создаёт неповторимое смеховое содержание романа, позволяет сочетать в нём все виды комического: и сочувствующую иронию, и добрый юмор, и лёгкую сатиру, и острый сарказм. Другое дело, что каждый из этих видов комического служит разным целям. Эти цели выявляются в результате изучения комического в романе.
«Начинал я писать “Сандро из Чегема” как шуточную вещь, слегка пародирующую плутовской роман. Но постепенно замысел осложнялся, обрастал подробностями, из которых я пытался вырваться на просторы чистого юмора, но вырваться не удалось. Это лишний раз доказывает верность старой истины, что писатель только следует голосу, который диктует ему рукопись» – говорит Ф. А. Искандер в предисловии к роману [2, с. 8]. Действительно, трагедия в романе сочетается с иронией и юмором, и всё произведение отличает и человечность, и мудрость.
Своеобразие романа заключается в том, что в нём смешаны все жанры. Это и народный эпос, и отчасти плутовской роман, и историческое полотно.
Смещены границы жанров, но неизменна смеховая структура произведения, основанного на философской иронии повествователя, на народном юморе его персонажей. «История рода, история села Чегем, история Абхазии и весь остальной мир, как он видится с чегемских высот, – вот канва замысла» [2, с. 5]. И именно в рамках этого пространства и времени автор воплощает свои идеи.
Роман «Сандро из Чегема» был создан в очень непростое время. Автор говорит о своём замысле написания произведения, его цели: «Собственно, это и было моей литературной сверхзадачей: взбодрить своих приунывших соотечественников. Было отчего приуныть» [2, с. 9]. Эту цель автор планомерно реализует в романе, в том числе и благодаря использованию комического.
Комическое, наряду с прекрасным, возвышенным, трагическим и героическим, представляет собой одну из наиболее значительных и в то же время весьма сложных категорий эстетики. Ю. Б. Борев, называющий комизм «прекрасной сестрой смешного» [1, с. 93], считает, что «смех и смешное – шире комического. Смешное не всегда комично… Комическое порождает “высокое”» [1, с. 93]. Того же мнения придерживается и А. Н. Лук: «Не всё смешное комично, но всё комическое смешно. Иными словами, обладая всеми признаками смешного, комическое обладает ещё каким-то дополнительным признаком. Это признак общественной значимости… Комическое – это общественно значимое смешное» [3, с. 85]. Комическое выступает обличителем сил зла, отсталости и лени, невежества и самовлюблённости, самодурства и насилия; оно – мера нравственного превосходства человека. Для определения средств и приёмов комического недостаточно провести лингвистический анализ небольшого юмористического рассказа. Ясное представление об этом может создаться лишь в результате изучения особенностей значительных сатирических произведений, отличающихся богатством языковых фактов.
В исследуемом произведении большое количество примеров, демонстрирующих практически все виды комического. Как уже было сказано, чувство юмора у автора исключительное, причём с одинаковым мастерством он иронично смеётся над своими героями, сочувствует им, резко обличает.
Ирония является одним из наиболее частотных видов комического, используемых Ф. А. Искандером в этом романе. Это и понятно, ведь произведение не носит резкого обличительного характера. Приведём несколько примеров иронического письма, которые в основном касаются главного героя дяди Сандро и простых жителей Чегема и Мухуса. Автор говорит об их недостатках, но ирония его легка, он сочувствует своим героям.
В эпизоде, когда дядя Сандро останавливается на ночлег у богатого табачника, (действие происходит в начале Гражданской войны. – И. С.), автор говорит: «Дядя Сандро сразу заметил, что хозяин и его семья ему обрадовались, хотя истинную причину этой радости он понял гораздо позже. Но тогда он её принял за чистую монету, так сказать, за скромную дань благодарности его рыцарским подвигам, и это ему было приятно» [2, с. 16]; и далее «…ему показалось немного странным, что хозяин не отсылает спать своих детей и тещу, потому что хозяйка вполне могла справиться и одна, обслуживая их за столом. Но потом он решил, что детям будет полезно послушать рассказы о его подвигах, да и не каждый день к ним заворачивает такой гость, как Сандро из Чегема» [2, с. 17]. Автор явно подтрунивает над своим главным героем, поясняя нам далее, что радость табачника заключалась в том, что в такое неспокойное время в его доме находился человек, который был способен защитить его и его семью от нападения меньшевиков и большевиков. Дядя Сандро же приписывает всё своей популярности и исключительности, считая, что его сомнительные «рыцарские подвиги» сделали его фигуру известной не только у себя в Чегеме, но и во всей Абхазии.
В то же время и сама речь дяди Сандро полна юмора, иронии, которые вкладывает в его уста автор. В разговоре с повествователем герой защищает своего друга-милиционера и подшучивает над нерешительностью племянника-журналиста:
«– Раз ему доверили пистолет, значит, ему доверили стрелять в нужное время, а тебе (тут он неожиданно ткнул пальцем по колпачку авторучки, торчавшей из кармана моего пиджака) доверили этот пугач, стреляющий чернилами, и то ты боишься пугануть инженерчика из горсовета» [2, с. 36].
Комическое начало парадоксальным образом преобладает при изображении и осмыслении Гражданской войны, колхозного движения, массовых репрессий второй половины 1930-х гг. и других столь же кровавых исторических событий, которые, будучи представлены в смеховом плане, в полной мере сохраняют при этом весь присущий им трагизм.
Рассмотрим эпизод, в котором рассказывается о крестьянине Кунте, человеке ограниченном, но добром. Искандер не высмеивает его, а говорит о нём с лёгкой жалостью:
«После обычных расспросов о здоровье родных и близких Кунта вдруг ожил…
– Меньшевики добровольцев берут, – важно заметил Кунта.
– Это и так все знают, – сказал Миха.
– Говорят, – пояснил Кунта с хитрецой, – если возьмут Мухус, разрешат потеребить лавки большевистских купцов.
– Выходит, если Мухус возьмёшь, что хочешь бери? – спросил дядя Сандро, потешаясь над Кунтой и подмигивая Михе.
– Сколько хочешь не разрешается, – сказал Кунта, не чувствуя, что над ним смеются, – разрешается только то, что один человек на себе может унести.
– Что же ты хотел бы унести? – спросил дядя Сандро.
– Мануфактуру, гвозди, соль, резиновые сапоги, халву, – с удовольствием перечислял Кунта, – в хозяйстве всё нужно» [2, с. 144].
В этом эпизоде автор показывает отношение простого человека к войне: крестьянин не понимает всего ужаса, который несёт с собой война, даже на неё он смотрит с практической стороны, думая о своём хозяйстве, и нажива, которую обещают меньшевики, привлекает Кунту только в хозяйственном плане. Его желания просты и бесхитростны, для него самое главное богатство – накормить свою семью, золото и драгоценности его не прельщают. Так, комическое в этом эпизоде раскрывает трагедию простого человека, показывая, насколько нелепа и чужда простому народу гражданская война.
Автор нередко использует и юмор, который сочетает насмешку и сочувствие. Приведём характерный эпизод:
«“Да войдём мы в конце концов в зону хрюканья или всё ещё будем болтаться чёрт знает где?!”
А может, не это хотел сказать, может, хотел сказать:
“А не оглох ли я на сходке, слушая эту тарабарщину, что-то свиней своих не слышу?!”
Нет, нет, пока существует эта самая зона хрюканья (блеянья, ржанья, мычанья), ни о какой социальной тугоухости не может быть и речи. Это потом, гораздо позже она придёт вместе с:
– А-а-а, гори огнём! А-а-а, в задницу!
– И наконец, спокойный и потому непобедимый возглас, тихо подхваченный всей страной, как новая молитва, как буддийский призыв к самосозерцанию:
– Пе-ре-кур...» [2, с. 167].
Автор с юмором говорит о том, что на первом плане для крестьян всегда остаётся их хозяйство даже во время гражданской войны, но это смех не злой, а, скорее, даже одобрительный. Их не интересуют пустые речи и лозунги; «хрюканье» родного животного намного милее их слуху, чем политические дебаты и разговоры о «светлом будущем». Совсем другой смех чувствуется при намёке на создание колхозов. Автор говорит в этом случае об изменении отношения человека к обязанностям, к труду, когда всё, казавшееся ранее необходимым, родным, становясь общим, теряет смысл.
Ф. А. Искандер заставляет читателя смеяться, доводя идею колхоза до полного абсурда. Именно смех помогает писателю показать всю нелепость изменений, происходящих в жизни горного села. О том, насколько чуждо понятие колхоза чегемцам, говорит уже тот факт, что ни один из них не может даже правильно выговорить это слово. Оценка чегемцами колхозного поветрия – вполне чёткая: «кумхоз – это дурь грамотеев в чесучовых кителях» [2, с. 80]; «чтобы этот кумхоз опрокинулся так же, как эта рюмка» [2, с. 139] (любимый тост старого Хабуга) и т.д. Непонятное слово, непонятные новые распоряжения руководства: срочное обобществление скота, хотя нет для этого подходящего помещения; срочная высадка тунговых деревьев, хотя плоды их ядовиты; срочное разведение чайных кустов, хотя чая чегемцы отродясь не пили и т.д.
Использование сатиры и сарказма в произведении в основном касается представителей власти и партий. Сам Ф. А. Искандер говорит: «Чегемской жизни противостоит карнавал театрализованной сталинской бюрократии: креслоносцы захватили власть» [2, с. 14]. Именно этих «креслоносцев» и обличает автор.
Саркастические замечания вкладывает автор в уста своих героев:
«Он (оратор. – И. С. ) победно оглядел собравшихся и теперь уже сам, налив себе воду из графина, стал её пить большими глотками.
– Как мельница, на воде работает, – сказал кто-то из задних рядов.
– Работает-то как мельница, да муки не видать, – добавил другой» [2, с. 152].
Здесь автор показывает отношение крестьян к пустым речам оратора, ведь для них важны не слова, а конкретные дела.
В следующем эпизоде автор высмеивает Сталина и его окружение:
«Постепенно взаимные рукоплескания слились и выровнялись, найдя общий эпицентр любви, его смысловую точку. И этой смысловой точкой опоры стал товарищ Сталин. Теперь и секретари райкомов, как бы не выдержав очарованья эпицентра любви, повернули свои аплодисменты на Сталина. Все били в ладоши, глядя на него и приподняв руки, как бы стараясь добросить до него свою личную звуковую волну. И он, понимая это, улыбался отеческой улыбкой и аплодировал, как бы слегка извиняясь за предательство соратников, которые аплодируют не с ним, а ему, что потому он один бессилен с такой мощью ответить на их волну рукоплесканий» [2, с. 312].
Ф. А. Искандер описывает самолюбование Сталина, его величие, но под этим величием, как мы понимаем, скрывается страх подчинённых. «Соратники» относятся к Сталину с подобострастием, с лакейской преданностью. Эту их черту также высмеивает писатель. Он говорит, что «за Ворошиловым и за Калининым по обе стороны стола сидели второстепенные вожди, неизвестные дяде Сандро по портретам.
Всё остальное пространство заполняли секретари райкомов Западной Грузии с бровями, так и застывшими в удивлённой приподнятости» [2, с. 328].
Главным критерием узнаваемости власти являлись не её дела, а именно её портретность. Чем выше чин, тем чаще партийный руководитель изображался на портрете. Это и являлось его основной характеристикой. А про второстепенных членов райкома автор говорит, что они не были известны даже по портретам. Эти люди безлики, они «заполняют пространство», они не личности, а серая масса, не представляющая никакого интереса.
Комическое в произведении можно обнаружить в любом элементе – начиная от простых слов, имён и прозвищ, выражений и оборотов, пословиц и поговорок, афоризмов, комических повторов, от видов метафоры до литературных цитат, вводных слов и предложений, оценочной лексики. В обличительных целях автор использует и словообразовательные средства языка.
В процессе подобного исследования в определённой степени конкретизируются индивидуальный стиль писателя и характерные особенности его творчества. Комический эффект в романе воссоздаётся и на лексическом уровне. Для этого автор использует различные языковые средства, например:
-
– сравнения («А его личный секретарь Поскрёбышев в это время бегал по берегу, как курица, которая высидела утёнка, и всё кудахтал» [2, с. 178]);
-
– вводные слова («Бедняжка Пата, уже испорченный славой, не мог этого сделать (уйти из ансамбля. – И. С. ) и поплатился. Его взяли, обвинив в том, что он на одном из концертов во время исполнения танца с мечами якобы, невольно выдавая тайный замысел, нехорошо посмотрел в сторону правительственной ложи. Разумеется (выделено нами. – И. С. ), он во всём признался и получил десять лет» [2, с. 17]);
-
– вставные конструкции («Возможно, вмешательство дяди Сандро в эту знаменитую игру (хотя она тем и знаменита, что он вмешался в неё)… покажется недопустимым давлением на психику игрока» [2, с. 45]);
-
– каламбуры («Отец его впоследствии говорил про дядю Сандро, что этот козёл обошелся ему в шестьдесят баранов» [2, с. 19]);
-
– комическое сочетание противоположных значений в пределах одного периода или даже словосочетания («…был такой голос, что, если в темноте неожиданно крикнуть, всадник иногда падал с коня, хотя иногда и не падал» [2, с. 18], «гостеприимные стены кенгурийской тюрьмы» [2, с. 78]);
– фразеологизмы («Чесотка к чесотке тянется» [2, с. 23]);
-
– неологизмы (взрывалка – граната, Колчерукий (сухорукий, по аналогии с колченогий),
-
– говорящие прозвища, даваемые народом представителям власти (Большеусый – Сталин, Хрущит – Хрущёв).
Проведённый анализ даёт основания утверждать, что в своём романе «Сандро из Чегема» писатель мастерски использует все виды комического, умея тонко их разграничивать в каждом конкретном случае. В любом выбранном виде комического – иронии, юморе, сарказме, сатире – реализуются авторская позиция и его отношение к своим героям и различным событиям. Использование комического является яркой чертой стиля Ф. А. Искандера.
Tver State University