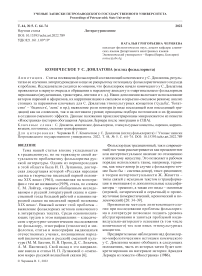Комическое у С. Довлатова (взгляд фольклориста)
Автор: Черняева Наталья Григорьевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Память
Статья в выпуске: 5 т.44, 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена фольклорной составляющей комического у С. Довлатова, результатам ее изучения литературоведами и еще не раскрытому потенциалу фольклористического подхода к проблеме. Исследователи сходятся во мнении, что фольклорное начало комического у С. Довлатова проявляется в первую очередь в обращении к народному анекдоту и «маргинальным» фольклорным персонажам (неудачникам, трикстерам, лентяям и т. д.). Наши дополнения включают использование автором паремий и афоризмов, их нарративизацию в смеховом и серьезно-смеховом режиме; анализ стоящих за паремиями ключевых для С. Довлатова этнокультурных концептов (‘судьба’, ‘богатство’ - ‘бедность’, ‘лень’ и пр.); выявление роли повтора (в виде восходящей или нисходящей градации) как на словесном, так и на мотивном уровне; принципы подбора поэтонимов и их функцию в создании смехового эффекта. Данные положения проиллюстрированы микросюжетом из повести «Иностранка» (история обогащения Аркадия Лернера после эмиграции в США).
С. довлатов, комическое, фольклоризм, этнокультурные концепты, паремия, нарративизация, поэтонимы, смеховая трансформация
Короткий адрес: https://sciup.org/147237969
IDR: 147237969 | УДК: 821.161.1.09"19" | DOI: 10.15393/uchz.art.2022.789
Текст научной статьи Комическое у С. Довлатова (взгляд фольклориста)
Тема нашей статьи вполне укладывается в традиционную, но не теряющую своей актуальности проблематику фольклоризма русской литературы. Одним из первопроходцев в этой области была И. П. Лупанова, докторская диссертация которой «Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины ХІХ века» (1961), основанная на монографии с тем же названием (1959), стала, по словам С. М. Лойтер, «первым обобщенным исследованием о русской литературной сказке и единственной тогда большой работой о влиянии народной сказки на писателей первой половины ХІХ века»1. Важный аспект этой проблемы – выявление фольклорных истоков комического в литературных текстах. Среди основополагающих трудов в этом направлении – классические структурно-семиотические исследования по фольклору, этнографии (этнологии) и мифологии, статьи и монографии выдающихся отечественных ученых, посвященные народной (включительно и русской) смеховой культуре (М. М. Бахтин, В. Я. Пропп, Д. С. Лихачев, А. М. Панченко). Свой вклад в это направление внесла и статья И. П. Лупановой о «смехо-вом мире» русской волшебной сказки [6].
С. Довлатова (взгляд фольклориста) // Ученые записки . Т. 44, № 5. С. 64–74. DOI: 10.15393/uchz.art.2022.789
Фольклор (как традиционный, так и современный) все чаще рассматривается как прецедентное или интертекстуальное явление по отношению к авторскому искусству. Это позволяет в рабочем порядке использовать такие, например, термины, как текст-донор (в случае с фольклором точнее было бы – система-донор), текст-реципиент; в теории интертекстуальности Ж. Женетта – типы связей с исходным текстом («трансформация и имитация») и дополнительные классификаторы – «режим», а также его виды – основные (игровой, сатирический и серьезный) и промежуточные (юмористический, иронический и полемический) [20: 34–39].
Применение методов лингвоконцептоло-гии при исследовании проблемы фольклориз-ма в литературе позволило поднять уровень абстрагирования и заняться проблемой индивидуально-авторского освоения (в том числе комического) тех или иных этнокультурных концептов.
Предварительные наблюдения над фольклорно-мифологическими истоками комического у С. Довлатова можно обобщить в следующих положениях, часть из которых затем будет конкретизирована на материале истории Аркадия Лернера из повести «Иностранка» (1986).
АНЕКДОТ И ДРУГИЕ СМЕХОВЫЕ ЖАНРЫ-ДОНОРЫ КОМИЧЕСКОГО У С. ДОВЛАТОВА
Исследователи единодушно признают ведущую роль анекдота (парадоксальность и абсурдизм, закон пуанты и т. д.) в формировании комического у С. Довлатова. В первую очередь мы имеем в виду работы Е. Курганова [4], Н. С. Выгон [1], Н. А. Орловой2, Л. Сальмон [10], И. Н. Сухих [12]. Отмечаются также присущие прозе С. Довлатова развертывание анекдота и других фольклорных жанров (бытовой сказки, байки) в рассказ или повесть и обратный процесс их компрессии в анекдот (см. «Записные книжки») [4], [12]. Е. Курганов обратил внимание на использование С. Довлатовым фольклорного принципа циклизации анекдотов и других смеховых жанров в «Филиале» и «Иностранке». В зависимости от фольклористической компетенции исследователей в той или иной мере осознается размытость границ ряда фольклорных жанров-доноров (бытовой / новеллистической сказки, сказки-анекдота, или анекдотической сказки, байки и т. д.), препятствующая выяснению того, какие их жанровые особенности проигнорированы автором или, напротив, освоены им и каким образом (путем трансформации или имитации, в смеховом, серьезном или смешанном режиме). Образцом в изучении фольклорного генезиса литературных текстов (новеллы) является монография Е. М. Мелетинского [7].
ТИПЫ ПЕРСОНАЖЕЙ, МОТИВЫ / ФУНКЦИИ, ТИП НАРРАТИВА
Ни у кого из исследователей не вызывают сомнений фольклорно-мифологические корни доминирующего у С. Довлатова маргинального персонажа – «героя, не подающего надежд» (Е. М. Мелетинский) – неудачника, лентяя, дурака-чудака, плута (трикстера) (см., например, [1: 298], примеч. 2). Исключительно редко автор обращается к героическим фольклорно-мифологическим прототипам – богатырю (дед автора-рассказчика Исаак из сборника «Наши») и богоборцу («дед по материнской линии» из того же сбор -ника), актуализируя их в смешанном, серьезнокомическом режиме (особенно это касается богоборца) [15]. Отметим, что именно категория негероического, «низкого» (в ее фольклористическом понимании) является главным типологическим признаком апокрифной (неофициальной) смеховой советской литературы, определяя тип ее главных героев [19] и тип нарратива (пика-реска, травелог, симпосион и даже роман-анекдот, как «Чонкин» В. Войновича). Достаточно вспомнить Ивана Чонкина В. Войновича, Ваню
Чмотанова Н. Бокова, героев Юза Алешковского и Вен. Ерофеева. Обращение к указанным фольклорно-мифологическим типам персонажей изначально предполагает использование присущего им комического начала. И это ожидание тексты С. Довлатова вполне оправдывают. Так, например, если речь идет о трикстерах, то это добывание чего-либо, чаще всего дефицитных в советское время благ (сборник «Чемодан») при помощи обманных трюков (например, занятие фарцой, как в «Креповых финских носках», или остроумная кража, как в «Номенклатурных полуботинках»), удачные или провальные попытки изменить свой социальный и имущественный статус.
АНТРОПОНИМИЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ
Для поэтической антропонимики С. Довлатова характерно игровое, в том числе комическое, начало [12: 191]. Другой вопрос, насколько оно архетипично. Любопытны с этой точки зрения слова автора-рассказчика, основанные на его индивидуальных ассоциациях:
«Согласитесь, имя в значительной степени определяет характер и даже биографию человека.
Анатолий – почти всегда нахал и забияка.
Борис – склонный к полноте холерик.
Галина – крикливая и вульгарная склочница…»3.
Далее будет рассмотрен случай (история Аркадия Лернера), когда автор вольно или невольно использует типично фольклорно-мифологический принцип развертывания в тексте имени персонажа, точнее – его этимологии. В приведенных выше примерах мы усматриваем следы такого рода подхода.
ПАРЕМИИ, АФОРИЗМЫ, ФИЛОСОФЕМЫ, МЕТАФОРЫ
С. Довлатов часто обращается к различного рода лингвоментальным клише – метафорам, паремиям, афоризмам, идеологемам, философемам и т. д., играющим роль текстовой матрицы. Так, отправной точкой для развития повествования в большинстве рассказов из сборника «Наши» выступают метафоры и афоризмы, перешедшие из разряда авторских в область анонимной народной мудрости: «В здоровом теле – здоровый дух!» (история дяди Романа), «Жизнь – это книга», «Жизнь – это путь» (рассказ о тете Маре, см. ее анализ [16]), «Вся жизнь – театр, а люди в нем актеры» (глава об отце героя-рассказчика). Показательно в этом отношении сюжетнокомпозиционное развертывание философем экзистенциализма, в частности высказывания Ж.-П. Сартра о том, что у человека есть выбор, даже в тюрьме (см. историю двоюродного бра- та Бориса, которого жизнь превратила в уголовника [17]).
Как известно, «нарративизация паремий» (Е. М. Мелетинский) и, шире, тех или иных форм языковой стереотипии имеет фольклорный генезис. Наиболее очевидно она проявляется в баснях, назидательных и, реже, новеллистических сказках, где паремия или другое клише, присутствующее в тексте или же выводимое из него, развертывается в нарратив. При этом между клише и текстом могут устанавливаться отношения той или иной степени соответствия или несоответствия, в том числе комического характера. Как многократно отмечалось, формы стереотипии у С. Довлатова трансформируются главным образом в юмористическом, ироническом и гротескно-абсурдистском режимах, демонстрируя тем самым отказ от жесткого, сатирического и пародийного осмысления стоящей за ними культурной традиции.
ФОЛЬКЛОРНЫЕ КОНЦЕПТЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ «НАИВНОЙ» КАРТИНЫ МИРА
За паремиями, афоризмами и другими типами клише кроется определенный этнокультурный или индивидуально-авторский концепт, который становится объектом освоения в тексте-реципиенте. Анализируя комическую трансформацию пословиц, поговорок, языковых метафор и др. у С. Довлатова, мы неизбежно сталкиваемся с необходимостью перейти на уровень глубинных структур, которые они обслуживают, то есть лингвокультурных и фольклорных концептов.
ПОВТОРЫ
С. Довлатов не просто использует, но и педалирует ряд поэтических приемов, присущих фольклорно-мифологическим текстам. В первую очередь это намеренные повторы на лексическом и синтаксическом уровнях по преимуществу анафорического типа, а также неоднократное варьирование ключевых мотивов. Вместе с тем С. Довлатов избегал буквенно-фонетических повторений в пределах предложения. Так, по словам А. Арьева, «у Довлатова нет ни одного предложения, где слова начинались бы с одинаковых букв»4. Близки этому и наблюдения И. Ефимова5.
Что касается языковых клише, то автор -ская рефлексия по их поводу выражается в форме варьируемых повторяющихся мотивов, выступающих как реакции на эти клише. Несмотря на то что окончательный приговор С. Довлатова тем или иным истинам не эксплицируется в тексте, он без труда выводится читателем.
В его текстах мотивы, «обслуживающие» определенную паремию, располагаются по нарастающей или убывающей того или иного стержневого признака, то есть, если воспользоваться термином риторики, в виде градации (восходящей или нисходящей) или градационного повтора. Парадигматическое и синтагматическое развертывание указанных клише, сопровождающееся педалированием этого приема, - один из способов создания комического эффекта. Показательны в этом отношении упомянутые главы из сборника «Наши».
Фольклористический взгляд на повторы в литературном тексте наводит на мысль о таком виде повторов, как фольклорная кумуляция. В. Я. Пропп подчеркивал, что именно «много-кр атно е повторение одних и тех же действий или элементов» до тех пор, пока «созданная таким образом цепь не порывается или же не расплетается в обратном порядке», и является «основным художественным приемом» кумулятивных сказок [9: 243]. Исключительно важна мысль ученого о том, что сказки данного типа
«строятся не только по принципу цепи, но и по самым разнообразным формам присоединения, нагромождения или нарастания, которое кончается какой-нибудь веселой катастрофой» [9: 243].
Впрочем, судя по примерам, конец может быть и гибельным, но он всегда неожиданный. При анализе микросюжета из повести «Иностранка» мы во многом ориентировались на эти выводы. И, наконец, снимается с повестки вопрос об использовании С. Довлатовым фольклорной стилизации в любом из режимов - серьезном, комическом или смешанном.
Сюжет о жизни Аркадия Лернера до и после эмиграции состоит из компактного текста, отделенного пробелами от других историй (глава 1 «Сто восьмая улица»), и продолжения, расположенного через значительный текстовой интервал, в заключительной главе «Ловите попугая!». Часть его (микросюжет), на которой мы сосредоточим внимание, посвящена истории превращения героя из бывшего советского кинорежиссера в богатого торговца недвижимостью в Америке. Для наглядности представим сюжет об Аркаше Лернере в виде следующей схемы с краткими комментариями внутри групп мотивов и последующими подробными - вне их. Обозначим микросюжет об обогащении героя как М ; труд / работу - Т ; лень - Л ; богатство / деньги - Б/Д ; богатый - б ; бедность - Н ; бедный - н ; судьба - С (благосклонная к человеку - С+ и враждебная - С- ).
Сюжет о жизни Аркадия Лернера в СССР и США
(глава 1 «Сто восьмая улица»)
Р (р – родина). Жизнь в СССР до эмиграции . «Крепкий профессионал» Аркадий Лернер – режиссер на белорусском телевидении. Его жена – диктор на телестудии. « Лернеры жили дружно и счастливо. У них была хорошая квартира, две зарплаты, сын Мишаня и автомобиль » (Довлатов: ІІІ, 17).
Составляющие счастливой жизни ( С+ ) на родине ( р ), источник которой – труд, работа ( Тр → Бр ). Иронизирование над советским стереотипом жизненного благополучия, в особенности материальными его знаками (хорошая квартира, автомобиль).
Э (э – эмиграция). «В Америке Лернер около года пролежал на диване (Л1) . Его жена работала продавщицей в “Александерсе”. Сын посещал еврейскую школу» (Довлатов: ІІІ, 17).
«Лернер мечтал получить работу на телевидении» . При этом он «не выдавал себя за бывшего лауреата государственных премий», не заявлял о себе как диссиденте, «не утверждал, что западное искусство переживает кризис» (Довлатов: ІІІ, 17–18).
Лернер проваливает встречу с продюсером, предлагающим ему «заняться экранизацией русской классики» (Довлатов: ІІІ, 18).
Лернер – «нетипичный эмигрант» , отказывающийся от общепринятых моделей успешного поведения в эмиграции (парадоксальное поведение). Прототип – фольклорный лентяй и дурак / чудак.
М3. « Видимо, Лернер родился заведомо состоятельным человеком ( Б как С+ ). Так что деньги у него вскоре появились» (Довлатов: ІІІ, 19).
Серия финансовых удач
М3.1. «Сначала его укусил ньюфаундленд, принадлежащий местному дантисту ( вредительство ). Лернеру выплатили значительную компенсацию ( приобретение Б1/Д1 ). М3.2. Потом Лернера разыскал старик, который накануне империалистической войны занял у его деда три червонца. За семьдесят лет червонцы превратились в несколько тысяч долларов ( приобретение Б2/Д2) . М3.3. После этого к Лернеру обратился знакомый:
– У меня есть какие-то деньги. Возьми их на хранение. И если можешь, не задавай лишних вопросов.
Деньги Лернер взял. Вопросы задавать ленился ( Л3 ).
Через неделю знакомого пристрелили в Атлантик-Сити ( приобретение Б3/Д3 ).
М3.4 . В результате Лернер приобрел квартиру ( приобретение Б4 с помощью Тэ). М3.5. За год она втрое подорожала ( Б5/Д5 ). М3.6. Лернер продал ее и купил три других (Б6/Д6). М3.7. В общем, стал торговать недвижимостью… ( Тэ → Б7/Д7 , подразумевается дальнейшее приумножение Б/Д) .
С дивана он поднимается все реже (Л4). Денег у него становится все больше ( Б8/Д8 → приумножение; несмотря на увеличение Л , растет Б ). Тратит их Лернер с размахом. В основном на питание.
За двенадцать лет жизни в Америке он приобрел единственную книгу. Заглавие у книги было выразительное. А именно – “Как потратить триста долларов на завтрак”…
После завтрака Лернер дремлет, отключив телефон . Даже курить ему лень …» ( Л5 ) (Довлатов : ІІІ, 20).
Микросюжет о том, как разбогател Аркаша Лернер
М1 . « Лернер еще три месяца пролежал без движения. При этом следует отметить, что его финансовые дела шли неплохо» (Довлатов: ІІІ, 18) ( Л2 не мешает росту Бэ ).
М2 . « Видимо, Лернер обладал каким-то специфическим даром материального благополучия ( Б как С+ ). Вообще, я уверен, что нищета и богатство – качества прирожденные. Такие же, например, как цвет волос или, допустим, музыкальный слух. Один рождается нищим, другой – богатым» (Довлатов: ІІІ, 18–19). ( Н как С- , Б как С+ ).
Далее следуют примеры: « Бедняки при любых обстоятельствах терпят убытки», «а у богатых все наоборот» (Довлатов: ІІІ, 19) ( н всегда н , б всегда б ).
Заключительная часть микросюжета об обогащении героя (глава 10 «Ловите попугая!»)
М4 . Продолжение истории обогащения Аркадия Лернера входит в смеховую парадигму «новостей дня» – бурных и масштабных международных событий и спокойных местных эмигрантских: «Аркадий Лернер приобрел на гараж-сейле за три доллара железный вентилятор, оказавшийся утраченным шедевром модерниста Керико» (Довлатов: ІІІ, 105) ( Б7/Д7; рост Б/Д, предположительно, до бесконечности).
Список литературы Комическое у С. Довлатова (взгляд фольклориста)
- Лойтер С. М. К столетию со дня рождения И. П. Лупановой // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2021. Т. 43, № 5. С. 119.
- Орлова Н. А. Поэтика комического в прозе С. Довлатова: семиотические механизмы и фольклорная парадигма: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Майкоп, 2010. 23 с.
- Довлатов С. Собрание прозы в четырех томах. Т. 2. СПб.: Азбука - Аттикус, 2017-2018. С. 182 (далее в круглых скобках указана фамилия, через двоеточие том и страница).
- Арьев А. Наша маленькая жизнь // Довлатов С. Собрание прозы в четырех томах. Т. 1. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. С. 25.
- Ефимов И. Неповторимость любой ценой // Довлатов С. Собрание прозы в четырех томах. Малоизвестный Довлатов (т. 4). СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. С. 456.
- Форофонтова Ю. Л. Концепт судьба и его языковая репрезентация в дискурсе (на материале русского языка): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тамбов, 2009. С. 14-15.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. / Пер. с нем. и доп. чл.-корр. АН СССР О. Н. Трубачева; Под ред. и с предисл. проф. Б. А. Ларина. Изд. 2-е, стереотип. Т. I. М.: Прогресс, 1986-1987. С. 182.
- Там же. С. 142.
- Толстой Н. И. Богатство // Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М.: Эллис Лак, 1995. С. 56-57.
- Куцый С. Б. Лингвокультурная специфика концептов «богатство» и «бедность» на материале русского и английского языков: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ставрополь, 2003. 25 с.
- Даль В. Пословицы русского народа: В 2 т. Т. 1. М.: Худож. лит., 1989. С. 64-67.
- Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: В 3 т. М.: ГИХЛ, 1957. С. 429.
- Там же. С. 402.
- Суперанская А. В. Современный словарь личных имен: Сравнение. Происхождение. Написание. М.: Айрис-пресс, 2005. С. 376.
- Что означает фамилия Лернер? [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.toldot.come/life/Inames/ Inames _6197.html (дата обращения 10.10.2021).
- Выгон Н. С. Фольклорные истоки юмористического мироощущения в русской прозе ХХ века (Тэффи, М. Зощенко, С. Довлатов, Ф. Искандер) // Человек смеющийся: Сб. науч. статей. М.: Гос. респ. центр русского фольклора, 2008. С. 291-299.
- Еремина М. А. Лень и трудолюбие в зеркале русской языковой традиции: Монография. Нижневартовск: Изд-во Нижневартовского ун-та, 2014. 204 с.
- Ижбаева Г. Р., Мырзагалиева А. С. Концепт «богатство» в паремиологических единицах русского языка // Вестник Волжского университета им. В. М. Татищева. 2018. Т. 2, № 2. С. 108-114.
- Курганов Е. Сергей Довлатов и линия анекдота в русской прозе // Сергей Довлатов: творчество, личность, судьба / Сост. А. Ю. Арьев. СПб.: Звезда, 1999 [Электронный ресурс]. Режим доступа: sergeidovlatov. com/books/kurganov.html (дата обращения 10.12.2021).
- Левонтина И. Б. Homo piger // Зализняк А. А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира: Сб. ст. М.: Языки славянской культуры, 2005. С. 336-344.
- Лупанова И. П. «Смеховой мир» русской волшебной сказки // Вопросы теории фольклора. Русский фольклор. Т. XIX. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1979. С. 65-83.
- Мелетинский Е. М. Историческая поэтика новеллы. М.: Наука, 1990. 275 с.
- Новик Е. С. Система персонажей русской волшебной сказки // Типологические исследования по фольклору: Сб. статей памяти В. Я. Проппа (1895-1970). М.: Главная редакция восточной литературы, 1975. С. 214-246.
- Пропп В . Я. Кумулятивная сказка // Пропп В. Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи. М.: Главная редакция восточной литературы, 1976. С. 241-257.
- Сальмон Л. Механизмы юмора в творчестве Сергея Довлатова. М.: ИМЛИ РАН им. А. М. Горького, 2008. 256 с.
- Свинкина М. Ю. Градуальная оппозиция «свой - иной, другой, чужой» в русском и немецком языках // Научный диалог. 2016. Вып. 6/54. С. 94-105.
- Сухих И. Н. Сергей Довлатов: время, место, судьба. М.; СПб.: Группа Компаний «РИПОЛ классик» / «Пальмира», 2019. 286 с.
- Форофонтова Ю. Л. Концепт «судьба» в ментальном поле русской нации // Вестник Тамбовского университета. Гуманитарные науки. 2007. Вып. 6 (50). С. 241-244.
- Чавдарова Д. Семантика дивана в русской литературе XIX века // Интериорът във фолклора, лите-ратурата, изкуството / културата. Отговорен ред. доц. д-р Дечка Чавдарова. Шумен: Универс. издателство «Епископ Константин Преславски», 2007. С. 60-70.
- Черняева Н . Актуализация фольклорно-мифологических архетипов в творчестве С. Довлатова // Епископ-Константинови четения. Т. 19. Памет и спомен. Шумен, 2013. С. 59-67.
- Черняева Н. Концептуализация жизни в сборнике С. Довлатова «Наши» («Жизнь - книга», « Жизнь -путь») // Ракла с културни кодове. Короб культурных кодов: Сб. в чест на 65-годишнината на проф. д. ф. н. Дечка Чавдарова. Шумен: Фабер, 2016. С. 289-300.
- Черняева Н . Г. Философемы экзистенциализма в сборнике С. Довлатова «Наши» (Рассказ о двоюродном брате Борисе) // Проблемы теории, практики и дидактики перевода: Сб. научных трудов. Серия «Язык. Культура. Коммуникация». Вып. 20. Т. II. Н. Новгород: НГЛУ, 2017. С. 294-304.
- Чавдарова Д. Яш(оист)кият идеал. Концепт естественост и автопортретът на руснака в руската литература на XIX век. Велико Търново: Фабер, 2009. 228 с.
- Черняева Н. Типология и система на комическите персонажи в апокрифната руска проза от 1960-1980-те години // Диалог на литературите в текста на културата (Диалог литератур в тексте культуры). Шумен: Универс. изд-во «Константин Преславски», 2003. С. 163-169.
- Genette G. Palimpsestes.La littérature au second degré. Paris: Ed. du Seuil, 1982. 448 p.