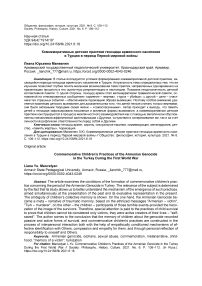Коммеморативные детские практики геноцида армянского населения в Турции в период Первой мировой войны
Автор: Лиана Юрьевна Манвелян
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 6, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются условия формирования коммеморативной детской практики, касающейся периода геноцида армянского населения в Турции. Актуальность темы определилась тем, что ее изучение позволяет глубже понять механизм возникновения таких практик, направленных одновременно на презентацию прошлого и его оценочную репрезентацию в настоящем. Показана неоднозначность детской коллективной памяти. С одной стороны, геноцид армян стал метанарративом травматической памяти, основанной на этнизированных сообщениях «армянин – жертва», «турок – убийца», с другой – дети – участники тех страшных событий – обеспечивали героизацию образа выживших. Поэтому особое внимание уделяется практикам детского выживания для доказательства того, что детей нельзя считать только жертвами, они были активными творцами своей жизни – «самоспасенными». Автор приходит к выводу, что память детей о геноциде зафиксировала пассивные и активные формы выживания, а коммеморативные детские практики конструируются в процессе межличностного взаимодействия как с помощью эмпатически обусловленных механизмов аффективной идентификации с Другими, сочувствия и сопереживания им, так и за счет личностной рефлексии ответственности перед собой и Другими.
Геноцид армян, сироты, сексуальное насилие, коммеморация, метанарратив, детство, «память жертвы», тюркизация
Короткий адрес: https://sciup.org/149134202
IDR: 149134202 | УДК: 94(4)"1914/19" | DOI: 10.24158/fik.2021.6.18
Текст научной статьи Коммеморативные детские практики геноцида армянского населения в Турции в период Первой мировой войны
Армавирский государственный педагогический университет, Краснодарский край, Армавир, Россия, ,
Armavir State Pedagogical University, Armavir, Russia, ,
Коммеморативные практики геноцида являются важной составляющей коллективной памяти армянского народа. По мнению Г. Шагоян, отдельные исторические сюжеты, такие как геноцид, в силу обстоятельств работают как метанарратив, ставший доминирующим в коллективной памяти событием, объясняющим многие последующие жизненные установки народа [1]. Другими словами, геноцид армянского населения превратился в предмет «долгой памяти», который не перестает транслироваться из поколения в поколение.
Важными акторами обозначенных событий были дети. Именно их нарратив лег в основу формирования исторической памяти о тех днях. Дети, которым удалось выжить, стали трансляторами информации, зачастую опровергая устоявшийся геноцидальный метанарратив, базирующийся на этнизированных сообщениях «армянин – жертва», «турок – убийца».
Конечно, нельзя отрицать, что детская память запечатлела травму в этнических категориях. По мнению исследователя Д. Динера, когда травма выражается в таких категориях, это, с одной стороны, становится действенным механизмом ее распространения на всю этническую группу, с другой – выступает гарантией ее передачи последующим поколениям [2, р. 109].
В то же время в современной историографии, посвященной проблеме геноцида армянского населения, все чаще появляются работы, указывающие на «детскую волю» при выборе жизненного пути. Их авторы пытаются донести до читателя идею о том, что армянских детей нельзя рассматривать только как пассивных жертв, принимающих безропотно свою участь. Они опираются на воспоминания, в которых яркой линией проходит свобода выбора жизненного пути в экстремальных условиях.
Итак, безусловно, оставшись без защиты своих мужчин, женщины, дети и старики должны были стать легкой добычей. Данные группы населения были вынуждены терпеть пытки, идти пешком по пустыням, теряя своих близких. У них не было ни еды, ни воды, чтобы выжить в период депортации, тем не менее они боролись за свою жизнь и не сдавались. Османские солдаты насиловали, пытали и убивали их во время марша смерти. Несмотря на это, турецким властям так и не удалось убить у армянских детей чувство стремления к жизни, веру в лучшее и надежду.
Часто осознанно мать или сам ребенок предпочитал разлуку с семьей и для выживания пытался попасть в приют. Многие воспоминания армянских детей того периода связаны с их жизнью в приютах. Лучшие условия детям-сиротам или выбравшим осознанно этот путь создавали иностранные приюты, в которых не было открытого отуречивания армянских детей.
Приют был организован протестантскими миссионерами. Здесь она нашла «мать» и «отца», которые заботились о детях. Когда Шнорхиг исполнилось 16 лет, ей разрешили покинуть приют. Она приняла решение уехать из Бейрута. Девушка-подросток решила воссоединиться с семьей, которая проживала в США. 1 мая 1924 г. она поднялась на борт «Праги». За 30 дней пребывания на корабле она выучила английский и французский языки. Конечным пунктом назначения был Бингемтон (штат Нью-Йорк), где обосновались выжившие члены ее семьи, включая мать. Когда она снова ее увидела, то поняла, что все выпавшие на ее долю испытания были не зря, она смогла выжить, доказала всем, что способна стать счастливой и построить свою судьбу самостоятельно, как бы сложно это ни было. В воспоминаниях Шнорхиг доказывает, что все может наладиться, пока жива надежда, только смерть нельзя исправить. Период геноцида она воспринимает как суровую школу жизни, которая помогла ей найти себя, осознать настоящие ценности и счастье, сделала ее добрее, так как забота о других, особенно маленьких детях, предполагает наличие большого любящего сердца. С теплотой и благодарностью она вспоминает и своих воспитателей из приюта [4].
Часто дети пытались устроиться слугами. Они подходили к хозяйкам и предлагали свои услуги. Многие были согласны на любую работу, чтобы обеспечить себя кровом, пищей и главное – защитой.
Наиболее болезненным аспектом коммеморации геноцида, наравне с памятью о погибших, безусловно, является проблема освещения вопросов сексуального насилия и потери национальной идентичности армянского населения [5].
В письмах Р. Герян, организатор и участник спасательных операций, отмечает, что ему встречались разнообразные стратегии выживания: от открытого сопротивления и борьбы за свободу до смирения и отсутствия желания что-либо изменить. От выбранной стратегии зависела и память о тех событиях [6].
Р. Герян сформировал отряды всадников, которые под его командованием искали и спасали армянских сирот и женщин из шатров бедуинов в пустыне. Иногда эти группы переходили границу, чтобы попасть на турецкую сторону и освободить женщин и детей, похищенных турками и курдами. Спасенных размещали в Алеппо. Палатки служили убежищами для сирот, беженцев и вдов, которые бежали из Турции или спаслись от бедуинов. Все они обеспечивались едой, медицинской помощью и одеждой; их личности проверялись, а имена отправлялись в газеты, церкви и армянские общины для поиска родственников. Много людей приходило из города, чтобы найти братьев и сестер среди новоприбывших или получить информацию о судьбе близких. Многие спасенные армянские мальчики не оставляли Р. Геряна и пытались помочь ему в его миссии. Они имели опыт жизни среди арабов и знали места проживания усыновленных армян. Были также группы молодых людей, просивших совета и разрешения Р. Геряна участвовать в спасательных операциях или проводить их отдельно.
Одним из сложных вопросов того периода являлась судьба сирот и женщин, отказывавшихся признавать свою армянскую идентичность по самым различным причинам. Большинство из них были оторваны от армянских корней в юном возрасте и забыли родной язык и национальность. Однако существовали и сироты, которые, помня об этом, не признавали армянского происхождения, что чаще всего было связано со страхом за свою жизнь. Р. Герян отмечал следующее: «Влияние ужасов прошлого было настолько велико, что иногда они предпочитали не спасаться, а продолжать жить как наложницы и чувствовать себя в безопасности» [7].
Очевидцы и современники событий геноцида в мемуарах указывали, что многие девочки и девушки, которые оказались в плену, не раз пытались из него сбежать, хотя знали, что в случае поимки будут серьезно наказаны. Они стремились любой ценой, даже ценой собственной жизни, стать свободными. Многие не смирились, день и ночь молились о спасении, сохраняли язык и веру. Даже в гаремах некоторые из них не переставали быть армянками-христианками. После спасения они носили крест на шее и вспоминали истязания за веру и отказ перейти в ислам, но с гордостью говорили о том, что их не удалось сломить.
Особое беспокойство вызывали судьбы армянских девушек, спасенных из гаремов или борделей. Традиционно они считались опозоренными, потерявшими честь. В данном случае речь шла о массовом насилии, истреблении целого народа, поэтому было жизненно необходимо изменить отношение к жертвам, дать им шанс быть счастливыми, помочь пережить кошмары прошлого. Не только общество должно было поменять восприятие, но и сами жертвы не должны были считать прошлое позором. Многим так и не удалось преодолеть травму. Это проявляется и в том, что для выживших девушек и девочек даже в зрелом возрасте обозначенная тема представляла табу. Они старались замалчивать факт сексуального насилия, в воспоминаниях говорили об этом только в отношении других, но не себя лично.
Многие армянские деятели стали активно призывать армянских добровольцев жениться на сиротах и девушках, подвергшихся сексуальному рабству в целях создания полноценной семьи. Таким образом, миссия по спасению тысяч детей и подростков выступала одним из самых острых вопросов в постгеноцидный период, который требовал срочного решения.
Изучая проблему формирования коллективной памяти, нельзя не затронуть аспект отражения стратегии выживания детей. Доступная литература по армянскому геноциду более насыщена вопросами смерти и страданий, чем выживания и жизнестойкости детей. Исследования, посвященные обращению в ислам, усыновлению/удочерению и похищению детей, интересуют ученых, но опять же в целях формирования «памяти жертвы». Зачастую такой подход к памяти можно считать однобоким.
Армянские дети были не только жертвами, они обладали стратегиями выживания и сопротивления. В борьбе за жизнь они проявляли инициативу, принимали личные решения, манипулировали окружающими и таким образом становились активными агентами истории геноцида. Многие дети, пережившие его, хотели, чтобы их дети и внуки знали, как они боролись, понимали и помнили героизм каждого маленького человека. Они стремились сформировать память не жертвы, а героя, о чем свидетельствуют многочисленные источники (устные истории, мемуары, дневники). Дети, ставшие взрослыми, были против того, чтобы их считали жертвами, достойными лишь жалости. Наоборот, эти свидетели желали, чтобы о них говорили как о героях: «твой дед сумел выжить», а возможно, и спасти других детей. Данные источники содержат свидетельства того, что даже в страшных условиях геноцида дети продолжали искренне дружить, играть, строить отношения, справляться со смертью и потерей близких.
В связи со сказанным особый интерес представляют работы Н. Максудяна. Исследователь собрал воспоминания выживших детей, изображающие счастливые моменты, полные смеха и игривости, несмотря на явный стресс от пережитых потерь. Эти истории были рассказаны в гордой и самоуверенной манере, превращая воспоминания в приключения, а рассказчика – в героя. Автор убежден, что армянские дети стремились стать активными агентами и манипулировали обстоятельствами в своих интересах. Они использовали собственные интеллект, таланты, обаяние и красоту, чтобы остаться в живых.
Дети в институционных условиях имели больше шансов на солидарность и сопротивление перед лицом тюркизации. Несмотря на дисбаланс власти между государством и армянскими сиротами, наблюдались случаи непослушания и сопротивления со стороны детей.
Чтобы выжить, многие дети сознательно соглашались на усыновление или удочерение. Когда менялась ситуация, появлялась возможность сбежать и найти свою семью либо других выживших армян, они это делали. Бегство носило массовый характер. Однако «творцами» своей судьбы стоит считать не только тех, кто бежал и сопротивлялся, Н. Максудян подчеркивает, что оставшиеся, принявшие ислам (некоторые это делали несколько раз), отказавшиеся от родного языка и корней – тоже активные творцы, они делали свой выбор и нельзя к ним относиться лишь как к жертвам. Поэтому неслучайно автор приходит к выводу, что многие выжившие дети были «самоспасателями» [8].
Выжившие дети практически сразу стали рассказывать и писать свою историю, составлять коммеморацию тех страшных событий. В их памяти особое внимание отводилось игре. Играющие дети отражают веру в будущее. Игра, как и всякая другая человеческая деятельность, служила инструментом выживания. Большие или маленькие, они были детьми, поэтому игра позволяла забыть о своей боли, во время игры они искренне смеялись.
Дети, боровшиеся за то, чтобы остаться в живых, знали, что в одиночку этого не сделать. Они понимали, что преодолевают трудности в знак солидарности с друзьями. Осознание собственной свободы воли и жизнестойкости требовалось им больше всего. Старшие поддерживали младших, некоторые из них воспринимались как Робин Гуд, который воровал, чтобы накормить бедных и восстановить справедливость. Такой ребенок находил тайник для компании, руководил сбором средств для побега, распределял пищу и украденную одежду среди членов группы. Необходимость и опыт объединения для побега, сопротивления или воровства развивали доверие и солидарность между членами группы. Дружба и сплоченность были важны для детей. К. Паниан отмечал, что у него с друзьями были искренние и теплые отношения. Эта дружба родилась, когда они грабили фруктовые сады, сбегали из приюта и жили в пустынных горах и пещерах [9, р. 104].
Оставшиеся в живых дети несли с собой травму геноцида, шедшего рука об руку с их борьбой за выживание. Жизнь для них двигалась своим чередом. Они нивелировали травмирующий опыт успокоительным средством под названием «жизнь». М. Ничанян указывает на чувство оцепенения в письмах выживших, которое заставляло все выглядеть обычным. Очевидно, что они подавляли свою боль и воспоминания, чтобы выжить. Они должны были казаться забывчивыми и не обращать внимания на свою травму. Дети подавляли воспоминания, притупляли их [10, р. 71].
Итак, игнорируя свои травмы через игру, приключения, дружбу и смех, армянские дети брали под контроль собственную жизнь, принимали на себя ответственность за собственное выживание. Дети держались за жизнь, при этом стараясь наслаждаться ею. Они ели с аппетитом, смеялись и влюблялись. Так появлялся Герой, который, по свидетельствам выживших, не соглашался быть жертвой. Чтобы справиться с кошмарами геноцида, дети избегали жалости к себе, вместо этого пытались позитивно смотреть на вещи, ценили семью и общество сверстников. Истории этих смелых и дерзких ребят стали передаваться из поколения в поколение. Хотя степень опустошения и лишений в этих рассказах заставляет плакать, они предназначены скорее для того, чтобы заставить улыбаться, даже смеяться, а главным образом – испытывать гордость. Благодаря свободе воли, приключениям и играм дети чувствовали себя сильными, жизнерадостными и взрослыми.
Список литературы Коммеморативные детские практики геноцида армянского населения в Турции в период Первой мировой войны
- Шагоян Г. Армянский геноцид как метанарратив травматической памяти. К 101-летней годовщине армянского геноцида: тема без «исторических уроков»? [Электронный ресурс] // Гефтер : интернет-журнал. 2016. 25 апр. URL: http://gefter.ru/archive/18335 (дата обращения: 01.06.2021).
- Diner D. Beyond the Conceivable. Studies on Germany, Nazism, and the Holocaust. Berkeley, 2000. 286 p.
- Chadoyan J. Gender and the Armenian Genocide [Электронный ресурс] // Academia.edu. 2004. Dec. 11. URL: https://www.academia.edu/26674245/Gender_and_the_Armenian_Genocide (дата обращения: 01.06.2021).
- Ibid.
- ՄիրաԱնտոնյան Ինքնության խեղումից մինչեվ ուծացում. Հայ որբերի «Անվտանգության ապահովումը» ցեղասպանության տարիներին = Антонян М. От искажения идентичности до ассимиляции. Обеспечение «безопасности» армянских сирот в годы геноцида // 21-րդ ԴԱՐ. 2017. № 5 (75). С. 103–116.
- Aleksanyan A. Rescuing Armenian Women and Children after the Genocide: The Story of Ruben Heryan [Электронный ресурс] // The Armenian Weekly. 2016. May 31. URL: https://armenianweekly.com/2016/05/31/ruben-heryan (дата обращения: 01.06.2021).
- Ibid.
- Maksudyan N. The Armenian Genocide and Survival Narratives of Children // Childhood Vulnerability Journal. 2018. Vol. 1. P. 15–30. https://doi.org/10.1007/s41255-019-00002-8.
- Panian K. Goodbye, Antoura: A Memoir of the Armenian Genocide. Stanford, 2015. 216 p.
- Nichanian M. Entre l'art et le témoignage. Littératures arméniennes au XXe siècle. Vol. III. Le roman de la catastrophe. Geneva, 2007. 470 p.