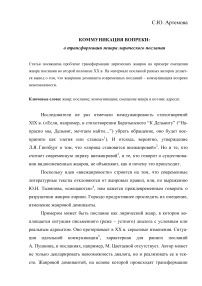Коммуникация вопреки: о трансформации жанра лирического послания
Автор: Артемова Светлана Юрьевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: События научной жизни. Белые чтения - 2010. Секция жанрологии
Статья в выпуске: 1 (16), 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме трансформации лирических жанров на примере смещения жанра послания во второй половине ХХ в. На материале посланий разных авторов делается вывод о том, что жанровая доминанта современных посланий - коммуникация вопреки невозможности.
Жанр, послание, коммуникация, смещение жанра в поэзии, адресат
Короткий адрес: https://sciup.org/14914269
IDR: 14914269
Текст статьи Коммуникация вопреки: о трансформации жанра лирического послания
Исследователи не раз отмечали междужанровость стихотворений XIX в. («Если, например, в стихотворении Баратынского “К Дельвигу” (“Напрасно мы, Дельвиг, мечтаем найти…”) убрать обращение, оно будет воспринято как элегия или стансы»1). И отсюда, вероятно, утверждение Л.Я. Гинзбург о том, что «лирика становится внежанровой»2. Но и те, кто считает современную лирику внежанровой3, и те, кто говорит о существовании видоизмененных жанров, не объясняют, как и почему это происходит.
Поскольку идея «внежанровости» строится на том, что современные литературные тексты отклоняются от жанровых правил, или, по выражению Ю.Н. Тынянова, «смещаются»4, нам кажется преждевременным говорить о разрушении жанров лирики. Гораздо продуктивнее проследить их смещение, изменение жанровой доминанты.
Примером может быть послание как лирический жанр, в котором воплощается ситуация письменного (реже – устного) диалога с условным или реальным адресатом. Оно претерпевает в ХХ в. серьезные изменения. Ситуация идеальной коммуникации5, характерная для ранних посланий А. Пушкина, в посланиях, например, М. Цветаевой отсутствует. Автор может не только декларировать невозможность диалога, но и реализовать ее в тексте. Жанровой доминантой, на основе которой происходят трансформации жанра послания в лирике рубежа XX–XXI вв., становится не идеальная коммуникация, а сами признаки коммуникативной ситуации.
Уже в советской поэзии появляются тексты, в которых обыгрывается не только жанровая природа, но и факт невозможности бытового письма (например, стихотворения П. Антокольского «Неоконченное письмо» и «Неотправленное письмо»)6. Однако жанровая традиция предписывает достижение идеальной коммуникации даже при отсутствии коммуникации бытовой.
Так, послание И. Бродского «Письмо к А.Д.» на фоне предшествующей жанровой традиции выглядит как текст с жанровым смещением, ибо вместо общения с собеседником констатируется невозможность диалога:
Все равно ты не слышишь, все равно не услышишь ни слова…7 (I, 144)
Это, казалось бы, подтверждает мысль о «разрушении жанров», о том, что «жанровые правила» перестают работать.
В этой логике можно рассматривать как «внежанровый текст» и стихотворение И. Бродского «Письмо генералу Z», иллюстрирующее «смерть канона», потому что классической «идеальной коммуникации» жанра послания в нем нет:
Генерал, вас нету, и речь моя
Обращена, как обычно, ныне
В ту пустоту…
Генерал, я взял вас для рифмы к слову
Умирал, что было со мною… (II, 220)
Однако если иметь в виду, что канон изменяется и в послании доминирует мета- и автокоммуникация, то стихотворение оказывается вполне «жан- ровым» и имеет множество аналогов как у Бродского, так и у других авторов второй половины ХХ в.
Некоторые поэты настойчиво декларируют безнадежность коммуникации и одновременно ее продолжение. Уже заглавие одного из стихотворений Е. Ширман ориентирует читателя на жанровый сдвиг:
Ненайденному адресату
Писать тебе. Писать всю ночь. И знать,
Что голос мой тебе не нужен,
Что день твой мал и до минут загружен, И некогда тебе стихи мои читать.
И все-таки писать. И думать – вероятно,
Ты переехал, ты уже не там,
И дом не тот и улица не та,
И мой конверт ко мне придет обратно,
И буду почерк свой в тоске не узнавать, И, запинаясь, ставить знаки препинанья, И буквы обводить, и плакать – от сознанья, Что не найду тебя. И все-таки опять, Весь день, всю ночь – пускай бесцельно это – Я не могу не ожидать ответа.
Всегда, всю жизнь не в силах променять Ни на какие сытые забавы,
Голодное, но радостное право –
Мечтать, надеяться и безнадежно ждать.
Истлеет лист. Умрут слова и даты, Но звезды, замыслы и бытие само Останутся, как вечное письмо Тебе – ненайденному адресату8.
В этом стихотворении адресат, в отличие от посланий И. Бродского, вообще не назван. Обязательное маркирование адресата варьируется уже в начале ХХ в. Так, например, В. Ходасевич обозначает адресата послания не полным именем, а лишь инициалами или сокращенной фамилией в заглавии, но даже в этом случае (без полного называния) происходит индивидуализация адресата: «Т–ой» (246)9. Тот же прием частотен в лирике М. Цветаевой: «С.Э.» (59), «П.Э.» (63)10. Инициалы легко расшифровываются читателем, который знаком с биографией поэта (Сергей и Петр Эфрон), однако их расшифровка не обязательна, так как эффект жанра и без того достигнут: в заглавии маркирован идеальный для этого письма адресат, и условие адресации предъявлено читателю. Даже если инициалы читателя совпадут с инициала- ми адресата послания, контекст письма не позволит прочесть его как адресованное случайному собеседнику, письмо останется «чужим».
Иллюстрацией этого тезиса является стихотворение К. Симонова «Три точки», имеющее посвящение: «Письмо в Нью-Йорк, товарищу…» и содер- жащее указание на невозможность в данном случае обнародовать имя, кото- рое могло бы быть названо при других обстоятельствах:
Мой безымянный друг, ну как вы там?
Как дышится под статуей Свободы?
Тогда я вам на новый адрес ваш
Пошлю письмо и в нем, взяв карандаш, На ваше имя громкое исправлю Три точки, что пока я молча ставлю11.
Точки вместо имени создают эффект неопределенного адресата, однако эффект этот иллюзорен, поскольку вместо уточнения через называние присутствует уточнение через умолчание. Отсутствие имени в данном случае уточняет адресата послания так же, как и наличие, поскольку три точки, исходя из контекста, можно заменить не всяким именем, а лишь одним определенным.
Стихотворение Е. Ширман строится не только на эффекте цензурного умолчания об имени адресата, но и на акценте на его (адресата) вненаходи- мости. В тексте последовательно отрицаются: необходимость коммуникации («голос мой тебе не нужен»), возможность коммуникации («ты переехал»), ее важность и вневременность («истлеет лист. Умрут слова и даты…»). Но при этом ощущение пишущего по поводу бесполезности коммуникативного акта никак не отражается на самом коммуникативном акте – он состоится, как «вечное письмо», адресат которого не найден, своего рода «письмо в бутылке», о котором писал О. Мандельштам.
Сходным образом строится автокоммуникативное послание, т.е. обращенное к самому себе или своему лирическому двойнику. Так, Г. Сапгир пишет послание самому себе от имени выдуманного двойника Буфарева12. Однако даже такое обращение оборачивается прощанием:
ПОСЛАНИЕ – САПГИРУ
Твой вислозадый ус, твой волосатый пуз по перышку я описать берусь Прощай Сапгирыч – молодец-дедусь
Форфора чашечка и листья глянцем воска и Питиунда про – всю вылюбили, тёзка – ты – черномор и я – кусок довеска
Дождь на шоссе, смиренный вид коров Я – буф! я – пуф! из трубочки искрев Из ничего сложился Буфарёв
Я – клоун! цирк! – но и в брезенте дырка Я тот мальчишка – "посмотреть" – из парка Ага! попался! ждет годяя порка
Тебе в тумане чайку вместо рук я протяну – расстанемся, навек? – Все будут жить и ждать глазами всех собак...
Бери, Сапгир, дарю свои терцихи – хоть бы они завязли в чьем-то ухе и то мне хлеб – хрычу и выпивохе
Но ты – не Герцен, я – не Огарев – хоть кроликам скорми! Прощай и будь здоров
Мкрч! Твой лоскутный тезка Буфарев13.
Следовательно, послание осознается как жанр, воплощающий «коммуникацию вопреки обстоятельствам».
Такая «коммуникация вопреки» может быть основой не только отдельных стихотворений, но и циклов, например, цикла стихотворений И. Кабыш «Неотправленные письма»14.
С одной стороны, заглавие цикла является своего рода сюжетнотематической скрепой, универсальной циклообразующей связью: стихотворения посвящены возлюбленному, не названному в цикле, а только обозначенному местоимением «ты» и субъективированным прилагательным «милый» С другой стороны, уже в первом стихотворении маркирован диалог, правда, не с героем, а с Богом, к которому обращается героиня. Фразеологический оборот «прости меня Господи» оказывается обращением к собеседнику, названному с заглавной буквы, собеседнику, в котором отчаянно нуждается героиня, чтобы «себя по кускам собирать… усилием воли»:
…И когда я глаза открываю в холодной избе, как, прости меня Господи, в братской могиле, мне не миру и городу нужно, а только себе доказать, что я встану сейчас, как меня ни убили.
Затем беседа с Господом сменяется разговором с милым:
Все рассчитано, милый, заранее:
это вот и зовется судьбой.
И мне незачем знать расписание, чтобы встретиться снова с тобой.
Собеседник, будь то бог или человек, необходим, хотя его облик не уточняется от стихотворения к стихотворению, а «аллилуйя» поется «любому листочку,/ что восстал из могилы на треть»:
До тебя три сотни верст, до тебя три сотни звезд, до тебя весь этот свет – никого мне ближе нет.
Жажда коммуникации неизбежно ведет к слиянию и единству:
Не хочу, чтоб мы друг другу были душами, но, как свет обрел слепой и звук – немой, как недужные по слову стали дюжими, – я хочу, чтоб стали плотью мы одной.
Не затем, мой свет, такою мерой меряю, что в любви своей забыла о святом, а затем, что в воскресенье тела верую и хочу с одним тобою быть на том.
Интересно, что героиня даже выстраивает «любовный треугольник»: я – ты (любимый) – он (Бог):
Как будто ждет в Москве меня награда, живу – день за день время торопя.
И страшно мне, что я боюсь не ада, а Божиего Царства без тебя, что я не с Богом ожидаю встречи, что я хочу не света, а тепла… …Вот почему, когда я ставлю свечи, Он так ревниво смотрит из угла.
Однако третий в данном случае – не лишний, так как именно Его присутствие помогает создать возможность или хотя бы видимость коммуникации и обретения покоя:
Но русский дождь с громами над домами неистощим, как божья благодать.
Несовершенство мира оборачивается несовершенством коммуникации, смысл которой в ней самой: проговорить о любви не менее важно, чем получить ответ. Первое стихотворение цикла начинается с многоточия, как ответ на отсутствующую реплику. Проявляется диалогичность и в первых строках стихотворений цикла, которые выглядят как ответы или уточнения подробностей общения: «слышу», «скажи», или риторические вопросы типа «что на этот готовят раз?» или «как я жила?».
Как я жила? Все шла кругом стола: писала, мед пила и ела брашно, и так я страшно далеко зашла, что мне почти что ничего не страшно.
И ничего не видно впереди: какой еще обвал, какое горе? …И только легкий холодок в груди, какой бывает на высокогорье.
Невозможность коммуникации здесь и сейчас не означает невозможность коммуникации как таковой, ведь она возможна где-то в ином измере- нии:
Неудачная фотография
Да будет свет, где ныне негатив, – и никаких других альтернатив.
А эти пятна, пятна этой тьмы, не что иное, мой родной, как мы – не потому, что нас с тобою нет, а потому что это ЭТОТ свет.
В мире, где есть он (Бог), есть и ты (собеседник), а значит, идеал достижим:
Давай встретимся, мой хороший, где, не знаю, но ровно в шесть – свет за кущей, покой за рощей – ну, хоть что-то же там есть!
Ревность Бога оборачивается в этом мире верностью адресату:
Ручку брось, сломай карандаши – все равно напишешь, не минует, ибо стержень плавят из души, когда Бог к кому-нибудь ревнует.
Диалог с собеседником спровоцирован диалогом с Богом, коммуникация обусловлена устройством мира. Неслучайно у цикла есть постскриптум:
P.S.
Скажи, Господь, когда меня кидало из света в тьму, из тьмы обратно в свет, то это все – затем, чтоб я писала?
Все для стихов?
Ну, отвечай же «нет»!
Героиня сама определяет зависимость коммуникаций друг от друга: диалог с собеседником-человеком спровоцирован другим собеседником – Богом, а сама жизнь осознается как сплошной диалог, точнее, реплика, адресованная собеседнику и предполагающая ответ, который так и не будет дан. Ни ответ Господа, ни ответ «милого» даже не намечены в цикле, важно лишь стремление самой лирической героини обращаться к собеседнику. «Неот-правленность» писем является еще одним тому доказательством: функциональная невозможность диалога не означает его отсутствия.
Таким образом, поэты с разным жизненным опытом и эстетическими установками, обращаясь к посланию, не только декларируют новые коммуникативные правила (как И. Бродский в стихотворении «Посвящение» – «Ты <читатель – С.А. > для меня не существуешь…», IV, 29), но и воплощают их в тексте. В результате изменяется жанровая доминанта: от «ситуации идеального общения» в начале XIX в. послание второй половины века ХХ стремится к ситуации «общения вопреки невозможности». Распространенность посланий с коммуникацией «вопреки невозможности» дает право предполагать, что жанры лирики не разрушаются, а смещаются, и смещение это, как происходит в случае с посланием, может быть изучено и описано.
-
1 Маркин А.В. Дружеское послание в русской поэзии 1820–1830-х годов и романтизм // Проблемы стиля и жанра в русской литературе XIX – начала XX века. Свердловск, 1989. С. 40.
-
2 Гинзбург Л.Я . Частное и общее в лирическом стихотворении // Вопросы литературы. 1981. № 10. С. 155.
-
3 Хорольский В.В. Два «рубежа» веков: от синтеза к атрофии жанров // Жанровая теория на пороге тысячелетия: сб. тез. и материалов. М., 1999. С. 13–14; Гинзбург Л.Я. Частное и общее в лирическом стихотворении // Вопросы литературы. 1981. № 10. С. 155; Сквозни-
ков В.Д. Лирика // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры литературы. М., 1964. С. 173–237; Стенник Ю.В. Система жанров в историко-литературном процессе // Русская литература. 1972. № 4. С. 97.
-
4 Тынянов Ю.Н . Литературный факт // Тынянов Ю.Н. Литературный факт. М., 1993. С. 127.
-
5 Идеальность коммуникации проявляется в абсолютном взаимопонимании адресата и пишущего, поэтому адресат противопоставляется всей остальной аудитории. Об этом см.: Лотман Ю.М. Текст и структура аудитории // Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992. С.161–166.
-
6 Цит. по: Антокольский П. Стихотворения и поэмы. Л., 1982. С. 176 и 374.
-
7 Здесь и далее цит. по: Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского: в 7 т. / под общ. ред. Я.А. Гордина. СПб., 1998–2001. – (Изд. продолжается). В скобках указываются том и страница.
-
8 Ширман Е. Ненайденному адресату // RC-MIR.com: russian community. URL: http://weblog.rc-mir.com/weblog.1540086.4731.html (дата обращения 1.03.2011).
-
9 Ходасевич В. Стихотворения. Л., 1989. В скобках указывается страница.
-
10 Цветаева М.И. Стихотворения и поэмы. Л., 1990. В скобках указываются страницы.
-
11 Симонов К.М. Стихотворения и поэмы. Л., 1982. С. 231.
-
12 «Генриха Буфарева я знаю давно, потому что я его придумал. Он мой тезка и мой двойник. Он живет на Урале. Он пишет стихи. Как всякий советский человек, бывает в Москве и на Кавказе.
Генрих Буфарев... Однажды он вошел ко мне, не постучав:
– Пельсисочная, – заявил он.
– Что? – не понял я.
– В пельменной обыкновенно пельменей нет, – объяснил поэт. – Зато имеются в наличии сосиски. А в сосисочной – наоборот.
– Красиво, – согласился я.
– Пространство – транс, а время – мера, – раздумчиво произнес выдуманный Буфарев, и я ощутил в своей ладони его небольшую сухую горячую руку».
Генрих Сапгир
Москва. 1989.
Сапгир Г. Терцихи Генриха Буфарева: 1984–87 // Вавилон: тексты и авторы. URL: (дата обращения 1.03.2011).
-
13 Сапгир Г.В . Складень. М., 2008. С. 277–278.
-
14 Кабыш И. Неотправленные письма // Дружба Народов. 2004. № 11. Электронная версия журнала представлена на сайте: http://magazines.russ.ru/druzhba/2004/11/
Список литературы Коммуникация вопреки: о трансформации жанра лирического послания
- Маркин А.В. Дружеское послание в русской поэзии 1820-1830-х годов и романтизм//Проблемы стиля и жанра в русской литературе XIX -начала XX века. Свердловск, 1989. С. 40.
- Гинзбург Л.Я. Частное и общее в лирическом стихотворении//Вопросы литературы. 1981. № 10. С. 155.
- Хорольский В.В. Два «рубежа» веков: от синтеза к атрофии жанров//Жанровая теория на пороге тысячелетия: сб. тез. и материалов. М., 1999. С. 13-14.
- Сквозников В.Д. Лирика//Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры литературы. М., 1964. С. 173-237.
- Стенник Ю.В. Система жанров в историко-литературном процессе//Русская литература. 1972. № 4. С. 97.
- Тынянов Ю.Н. Литературный факт//Тынянов Ю.Н. Литературный факт. М., 1993. С. 127.
- Лотман Ю.М. Текст и структура аудитории//Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 т. Т. 1. Таллинн, 1992. С.161-166.
- Антокольский П. Стихотворения и поэмы. Л., 1982. С. 176 и 374.
- Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского: в 7 т./под общ. ред. Я.А. Гордина. СПб., 1998-2001. -(Изд. продолжается).
- Ширман Е. Ненайденному адресату//RC-MIR.com: russian community. URL: http://weblog.rc-mir.com/weblog.1540086.4731.html (дата обращения 1.03.2011).
- Ходасевич В. Стихотворения. Л., 1989.
- Цветаева М.И. Стихотворения и поэмы. Л., 1990.
- Симонов К.М. Стихотворения и поэмы. Л., 1982. С. 231.
- Сапгир Г. Терцихи Генриха Буфарева: 1984-87//Вавилон: тексты и авторы. URL: http://www.vavilon.ru/texts/sapgir8.html#12 (дата обращения 1.03.2011).
- Сапгир Г.В. Складень. М., 2008. С. 277-278.
- Кабыш И. Неотправленные письма//Дружба Народов. 2004. № 11. Электронная версия журнала представлена на сайте: http://magazines.russ.ru/druzhba/2004/11/