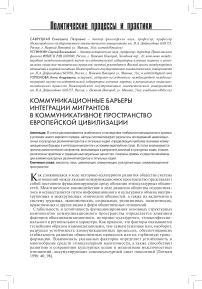Коммуникационные барьеры интеграции мигрантов в коммуникативное пространство европейской цивилизации
Автор: Савруцкая Елизавета Петровна, Устинкин Сергей Васильевич, Горюнова Анна Андреевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 6, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности и последствия глобального миграционного кризиса в условиях нового мирового порядка. Авторы систематизируют результаты исследований цивилизационных и культурных различий мигрантов и титульных наций, определяющих наиболее значимые коммуникационные барьеры в интеграции мигрантов к условиям европейских стран. В статье анализируются причины межэтнических конфликтов, возникающих в результате различий в культурных кодах, в языке, религиозных практиках и традиционных моральных ценностях; показаны приемы и средства минимизации влияния культурных различий мигрантов и титульных наций.
Мигранты, язык, цивилизация, коммуникация, культурные коды, коммуникационное пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/170191574
IDR: 170191574 | DOI: 10.31171/vlast.v29i6.8697
Текст научной статьи Коммуникационные барьеры интеграции мигрантов в коммуникативное пространство европейской цивилизации
К ак сложившаяся в ходе историко-культурного развития общества система отношений между людьми коммуникационное пространство представляет собой постоянно функционирующую среду обитания этнокультурных общностей. Межэтническое взаимодействие в ходе развития общества осуществлялось и осуществляется путем информационного и культурного обмена внутригрупповых и межгрупповых этнических общностей, а также их включения в систему трудовых, экономических, социальных, религиозных, политических, нравственных и других видов и форм общественных отношений.
Стабильность и устойчивость функционирования основных структурных компонентов коммуникационного пространства определяется влиянием факторов общецивилизационного, историко-культурного, этноконфессио-нального и регионального характера. Как правило, эти факторы оказываются теснейшим образом взаимосвязанными, тем самым усиливая или, наоборот, разрушая устойчивость коммуникационных процессов, обеспечивающих стабильность развития общественных процессов или их глубинную трансформацию. Взаимосвязь указанных факторов определяет устойчивость и многообразие средств этнокультурной идентичности, а также способствует развитию и сохранению культурных кодов и механизмов межличностных отношений, аккумулирующих социокультурный опыт поколений [Лотман 1996: 40, 98].
Виртуализация социальной реальности и развитие новых мобильных технологий, формирующих новый цифровой мир или, в более широком смысле, новую реальность, способствуют появлению новых признаков коммуникационного пространства современной цивилизации, для которой характерны как разрушение былой замкнутости ее коммуникативных систем и формирование нового общедоступного информационного поля, так и размывание границ этнокультурной идентичности и исторической памяти [Савруцкая, Семенов 2018].
Значительную роль в изменении коммуникационного пространства развитых стран играют миграционные процессы и связанная с ними маргинализация культуры титульных наций [Бондарева, Савруцкая, Устинкин 2019].
Группы мигрантов образуют свои социальные системы, организация жизни в которых зачастую противоречит нравственно-правовой регламентации общественных процессов принимающих стран. Эти процессы обозначили проблему того, что маргинальность, связанная с миграцией больших групп населения, усиливает негативные проявления социальной аномии как особой формы освобождения личности от традиционных коллективных связей и зависимостей от морально-нормативной регуляции поведения человека [Passas 1995: 94]. Состояние скрытой агрессивности и кажущейся пассивности мигрантов усиливают поляризацию мировосприятия на «своих» и «чужих», что способствует углублению социальной напряженности в скрытых или открытых формах ее проявлений. Попав в социокультурные условия, сформированные и поддерживаемые иными национально-культурными кодами, мигранты вырабатывают свою линию поведения в соответствии с комплексом культурных кодов своей историко-культурной традиции, являющейся определяющим признаком своей этнокультурной идентичности. При этом оказалось, что стремление к самоидентификации у мигрантов выражено значительно сильнее, чем в титульных культурных группах, что является одной из причин трудностей интеграции мигрантов в социокультурную реальность принимающих стран.
Немаловажную роль при этом играет и тот факт, что переселенцы, прибывающие в страны Западной Европы, являются носителями иной культуры. В большинстве случаев это молодые мужчины без образования, без знания языка принимающей страны. В силу объективных обстоятельств значительная часть мигрантов образует социальные группы, большей частью оказывающихся за пределами позитивно ориентированных социальных систем – школы, вуза, общественных организаций, политических партий и союзов. Да и особого стремления к интеграции молодых мигрантов в социокультурную среду принимающих стран, так же, как и особо ярко выраженной потребности работать в исследованиях феномена глобального миграционного кризиса, на сегодняшний день не выявлено [Савруцкая и др. 2019: 102-124].
Попав в социокультурные условия, сформированные и поддерживаемые иными национально-культурными кодами, иными ценностями, мигранты вырабатывают линию поведения в соответствии с комплексом культурных кодов своей историко-культурной традиции, являющейся, наряду с языком, определяющим признаком этнокультурной идентичности. Это объясняет стремление мигрантов селиться в местах компактного проживания национальных групп переселенцев, близких по культуре, этническим признакам и, самое главное, по языку. Компактное проживание переселенцев на чужой территории образует своего рода мини-социум, являющийся коммуникационным барьером защиты мигрантов от внешних воздействий чуждой культуры, иного образа жизни. Относительно замкнутое коммуникационное простран- ство этнических общин мигрантов образует культурные ниши со своим языком, образом жизни, духовными ценностями, поведенческими установками. Замкнутое коммуникационное пространство, создаваемое общинами мигрантов, способствует, прежде всего, сохранению языка как важнейшего этнокультурного кода и канала межэтнических, родственных и соседских связей. Являясь одним из определяющих признаков этнокультурной идентичности, язык как важнейший этнокультурный код служит механизмом преемственности, обеспечивая связь времен и поколений в диахроническом и синхроническом аспектах развития этноса [Тер-Минасова 2008: 308].
Рассматривая особенности влияния языка на социальные практики людей, мы исходим из того, что различия в языковой картине мира титульных наций и мигрантов являются важнейшим барьером для процессов адаптации мигрантов к культуре и образу жизни принимающих стран. Язык принимающей страны для мигрантов не является своим этнокультурным кодом, а в языковых единицах родного языка нет привязки к реальному контексту практических действий и норм поведения. По этой причине закрепленные в языковых единицах социокультурные, политические и практические смыслы титульных наций недоступны пониманию и практическому освоению вновь прибывших. В замкнутом же этнокультурном коммуникативном пространстве приезжих речевые практики обеспечивают социокультурную преемственность только в рамках национальных общин мигрантов, ограничивая тем самым возможности их интеграции в культурно-коммуникативное пространство принимающих стран. В языке в силу его консервативности и устойчивости смыслов надолго сохраняются важнейшие признаки и особенности национальных культур и сформировавшихся национальных образов мира. Языковая реальность коммуникационного пространства миграционных групп способствует удержанию в активном состоянии способности речевого воздействия на формирование социальной реальности в соответствии с утвердившимися в обществе образцами поведения. Иначе говоря, культурообразующая и культуросохраняющая роли языка как путеводителя в «социальной действительности» [Сепир 2003: 131] функционируют как бы в «параллельных мирах». При этом языковые барьеры служат основанием для сохранения замкнутости этнических групп, оказавшихся в силу каких-либо причин в условиях «вынужденного общения» (Тоффлер) с представителями титульных наций, официальных властей, работодателей.
Проблема несовместимости культурных кодов и языковых различий титульных наций и мигрантов приобретает цивилизационную значимость в силу того, что кодовые системы, прежде всего язык, с одной стороны, способствуют упорядочению и структурированию коммуникационного пространства этносов, а с другой – обеспечивают возможность понимания значений и смыслов используемых знаковых систем, норм поведения и механизмов социокультурной преемственности. Понимание значений и смыслов культурных кодов, с одной стороны, является условием достижения согласия и взаимопонимания в коммуникативном действии (Ю. Хабермас), а с другой – обеспечивает возможность эффективного исполнения инструментального, т.е. практического, действия [Хабермас 2000: 235].
Ситуация «коммуникативного непонимания» возникает на границе «своего» и «чужого», что способствует накоплению признаков агрессивной неопределенности в отношении мигрантов к представителям титульных этносов как к «другому», т.е. «чужому». Эта ситуация возникает на почве не только незнания языка, но и отсутствия установки на совершение мигрантами определенного посткоммуникативного действия в интересах принимающей сто- роны. В результате формируется пространство, наполненное многообразием культурных кодов, смыслов, символов, которые образуют эклектичную, или «мозаичную» культуру, минимизируя возможности осуществления межкультурного диалога, формирования культуры межэтнических отношений, межкультурной толерантности. По этой причине исследование особенностей влияния глобального миграционного кризиса на формирование культуры межэтнических отношений, а также на трансформацию коммуникационного пространства современной цивилизации крайне актуально для Российской Федерации, являющейся одним из крупнейших многонациональных государств мира, на территории которого проживают представители 193 нацио-нальностей1.
Устойчивое сохранение уникального культурного многообразия и духовной общности различных народов страны поддерживается единым культурным (цивилизационным) кодом, определяющим позитивный вектор развития межнациональных отношений в РФ. По этой причине в ряду факторов, оказывающих влияние на формирование культуры межэтнических отношений, межкультурной толерантности, в т.ч. в молодежной среде, особое место занимает миграционная политика. Результаты исследований, проводимых в Нижегородской обл. по данному кругов вопросов, нашли отражение в 5 опубликованных монографиях и 15 научных статьях.
Наиболее сложным аспектом рассматриваемой проблемы коммуникационных барьеров интеграции мигрантов в коммуникационное пространство европейской культуры, на наш взгляд, является вопрос, каково будущее современного миграционного кризиса. Очевидно, что новый цифровой мир, новая реальность в условиях нового мирового порядка будут еще долго испытывать на себе последствия коронавирусной пандемии. Нависшая над человечеством угроза эпидемиологического характера, усугубившая экономическую ситуацию, в короткие сроки поставила перед человечеством задачу необходимости решения сложнейшей проблемы выживания в условиях крайне резкого обострения международной напряженности и ситуации, связанной с климатическими изменениями и экологическим кризисом. В этих условиях проблемы глобального миграционного кризиса отодвинулись на второй план, хотя проекции его последствий несут в себе достаточно много тревожных, крайне опасных признаков разрушения как устойчивости развития общества, так и стабильного функционирования всех этнокультурных структур коммуникационного пространства человеческой цивилизации.
Если принять во внимание, что, по мнению специалистов, 52% населения нашей планеты составляют люди моложе 30 лет, то следует признать, что эта возрастная группа является крайне подвижной и активной социальной группой жителей Земли. Но большая часть из них относится к так называемой социально-экономической группе риска, определяющим признаком которой является их крайне низкий уровень интеграции в коммуникационное пространство европейского сообщества. Экономические возможности эмигрантских групп населения крайне ограничены: «бедность, отчужденность, отсутствие возможностей, ‹…› делают этих молодых людей легкой добычей» экстремистских группировок. Эти характеристики касаются как «необразованных детей трущоб», так и «студентов университетов, которые не видят возможностей найти работу после получения диплома» [Шмидт, Коэн 2013: 173, 201]. Очевидно, что значительная часть этой возрастной группы населения вынужденно пополнит ряды мигрантов, создавая новые коммуникационные контенты, формирующиеся в условиях расширения нового виртуального пространства, создаваемого новыми мобильными технологиями.
Другим крайне тревожным направлением развития рассматриваемой проблемы является реальная опасность присоединения молодых людей к различным экстремистским группировкам. Становясь субъектами экстремистской радикальной субкультуры, эта часть молодежи привлекает к себе внимание различных террористических организаций, расползающихся по всему миру и представляющих реальную опасность для человечества в глобальном масштабе.
Перемещение битвы за «умы и сердца» молодых людей в Интернет увеличивает риски «попасть в преступные сети при помощи высоких технологий» [Шмидт, Коэн 2013: 203], что усложняет возможности позитивного решения данной проблемы. По мнению Э. Шмидта и Д. Коэна, возможности минимизации рисков и угроз, связанных с увеличением доли молодых людей в социальной структуре общества, связана с необходимостью утверждения в обществе власти закона и жизненных возможностей – работы, материального достатка, расширения социальных практик и т.д. Не менее важным при этом является «создание нового виртуального пространства, наполненного разнообразным контентом и способного привлечь молодых людей» [Шмидт, Коэн 2013: 203].
Что касается России, то здесь проблемы, связанные с миграционными процессами и необходимостью сохранения национально-культурной идентичности, имеют свои особенности. Наряду с общими признаками современных цивилизационных процессов, определяющих основные направления трансформации российского коммуникационного пространства, в нашей стране очень сильным фактором влияния остаются историко-культурные традиции российского суперэтноса. Россия исторически сформировалась как многонациональное государство с присущими ему этноконфессиональными и политическими установками и ориентациями, толерантной доминантой массового сознания, что в значительной степени смягчает многие проблемы глобального миграционного кризиса. Более того, государственная миграционная политика направлена на повышение эффективности использования новых инструментов в области миграционных процессов, адекватных современным реалиям российского общества и международных отношений.
Статья подготовлена в рамках Школы молодого этнополитолога (Фонд президентских грантов, № 21-2-005892).
Список литературы Коммуникационные барьеры интеграции мигрантов в коммуникативное пространство европейской цивилизации
- Бондарева С.К., Савруцкая Е.П., Устинкин С.В. 2019. Экология языка в проблемном поле современных глобализационных процессов, - Власть. Т. 27. № 2. С. 66-73.
- Лотман Ю. 1996. Внутри мыслящих миров. Человек - текст - семиосфера - история. М.: Языки русской культуры. 464 с.
- Савруцкая Е.П., Жигалев Б.А., Никитин А.В., Устинкин С.В. 2019. Современный мир и молодежь; ценности, риски, угрозы. Н. Новгород: Изд-во НГЛУ. 268 с.
- Савруцкая Е.П., Семенов Д.В. 2018. Проблемы интеграции мигрантов в коммуникативное пространство европейской цивилизации: лингвистический аспект. - Языковая политика и лингвистическая безопасность: материалы второго международного научно-образовательного форума. 25-26 сентября 2018 г. Нижний Новгород: Изд-во НГЛУ. С. 201-207.
- Сепир Э. 2003. Статус лингвистики как науки. - Языки как образ мира: антология. М.: АСТ; СПб: Теrra Fantastica. С. 127-138.
- Тер-Минасова С.Г. 2008. Война и мир языков и культур. Вопросы теории и практики межязыковой и межкультурной коммуникации. М.: Слово. 341 с.
- Хабермас Ю. 2000. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб: Наука. 382 с.
- Шмидт Э., Коэн Д. 2013. Новый цифровой мир. Как технологии меняют жизнь людей, модели бизнеса и понятие государства. М.: Манн, Иванов и Фербер. 367 с.
- Passas N. 1995. Continuities in the Anomie Tradition. - Advances in Criminological Theory. Vol. 6. The Legacy of Anomie Theory (ed. by F. Adler, W.S. Laufer; intr. by R.K. Merton). New Brunswick, USA; London: Routledge. Р. 91-112.