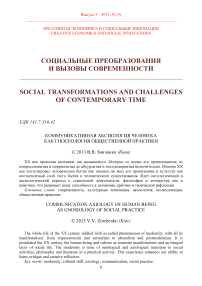Коммуникативная аксиология человека как гносеология общественной практики
Автор: Зинченко Виктор Викторович
Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal
Рубрика: Социальные преобразования и выборы современности
Статья в выпуске: 2 (5), 2013 года.
Бесплатный доступ
Резюме. XX век пронизан явлением так называемого Модерна со всеми его проявлениями: от импрессионизма и сюрреализма до абсурдизма и постмодернизма включительно. Именно XX век постулировал человеческое бытие как таковое, во всех его проявлениях и культуру как неотъемлемый слой этого бытия и человеческого существования. Идет онтологический и аксиологический переход к социальной деятельности, философии и литературе как к практике, что развивает нашу способность к познанию, критике и творческой рефлексии.
Современность, культурные изменения, аксиология, коммуникация, общественная практика
Короткий адрес: https://sciup.org/14239114
IDR: 14239114 | УДК: 141.7:316.42
Текст научной статьи Коммуникативная аксиология человека как гносеология общественной практики
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
Модернизм показал, что именно в слое культуры вычленяется сущность человека, но не просто человека, в отличие от человеческой фигуры реализма, а человека как совокупности определенных пластов «разноцветных» индивидных и эстетических проявлений, о которых этот человек может и не подозревать. Различные проявления модернизма во всех их специфичности неразрывно оказались связанными с такими проявлениями человеческой самоидентификации как философия и искусство. Картины Сезанна и философия Анри Бергсона, экзистенциализм Мерло-Понти с проблемами смысла и бессмысленности и абсурдизм диалогов Ионеско – составляют единое целое модерна и модернизма. Выводы Ницше и достижения экзистенциального понимания мира привнесли в модернизм вовлеченность, многоцветье проявлений жизни вообще и жизни человека в частности в их постоянной изменчивости и многообразии.
Одним из фундаментов модернизма можно считать французский постромантизм, особенно так называемых «пр о клятых» поэтов (Рембо, Верлен, Бодлер). Верлен исходит из того, что тайна жизни заключается именно в присутствии человека в этой жизни. Верлен, очарован текучей неуловимостью предметного мира, стремится не дробить, не анализировать его. Он не классифицирует его, поскольку любой выбор реализует лишь одну из возможностей и оставляет невыполнимыми все остальные, тем самым неизбежно убивая целостность мироустройства. Верлен же хочет собрать ее в единстве, он стремится охватить единой собственную душу так, чтобы «я» и «мир» зеркально отражали друг друга: «Эта улица, город – в призрачном сне; это будет, а может и было» [Поэзия французского символизма 1993: 83].
Артюр Рембо, в свою очередь, заставляет читателя почувствовать бытийную дрожь от прикосновения к неизвестному. Отменяя «логические» 7
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS связи между предметами, вовлекая их в карнавальную видоизменчивость, язык современной литературы создает действительность, в которой не надо удивляться никаким метаморфозам – и тем самым, вырывая себя (и нас) из мира повседневности. Это путь самоуглубления, прорыва в неосознанное, на который впервые в научной сфере вступил в начале XX века Зигмунд Фрейд. Блуждания Фрейда в лабиринтах бессознательного дали неоценимый толчок всей литературе XX-XXI века и, в первую очередь, одиссее Леопольда Блума – героя джойсовских блужданий по Дублину и самому себе.
Один из читателей как-то бросил Джойсу: «Ваши книги трудно читать». Джойс ответил: «Трудно было писать». «Улисс» Джойса, «Петербург» Андрея Белого, «Замок» и «Процесс» Кафки и «В поисках утраченного времени» Пруста имеют в своих языковых формах много общего в новом изображении пространства времени, в частности по отношению к дуальному путешествию по большому городу. «Улисс» – именно путешествие, поэтому его надо воспринимать именно пространственно и во времени. Выбирая в качестве героя романа еврея, Джойс намекает на всечеловеческую способность к путешествиям в пространстве, времени и сознании, метафорой чего является вечный странник – еврей. Это было намеком также на важность и первичность поиска самого себя [Джойс 1993: 12].
Главное в Блуме – то, что личностное, неповторимое важнее для него от общественного, общего, а такой человек всегда и везде в XX веке осуждался так называемыми широкими массами, пораженными национализмом и псевдопатриотизмом – этими язвами XX века. Джойс устами Стивена, еще одного героя «Улисса», постулирует: «Моя страна хочет, чтобы я умер за нее. Пусть моя страна умрет за меня» [Джойс 1993: 302]. Джойс демонстрирует приоритет личностной свободы, важности личностного понимания и стремления к самовозрастанию. Ответ на эти приоритеты кроется в вопросе о
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
«еврейскости» главного героя: «Но и еврей может быть преданным своей стране?», и Стивен остроумно отвечает: «Конечно, если он только знает, какая из них его страна» [Джойс 1993: 235]. Еще один схематический уровень «Улисса» отражает неразрывность языка, мира и телосложения. Автор утверждал, что с каждым эпизодом романа определенным образом связаны как слово, так и определенный орган человеческого тела, а также определенная наука или искусство, определенный символ и определенный цвет.
Что касается Марселя Пруста, то он задался целью создать определенный замкнутый и уникальный в своем роде мир, который принадлежал бы только ему и знаменовал его победу над текучестью вещей и над смертью. Но он пользовался совсем другими средствами. Они заключаются, прежде всего, в пристальном отборе, любовном коллекционировании счастливых мгновений бытия. Он создает определенного рода память, которая отвергает раздробленность реального мира и которому достаточно запаха старых духов, чтобы воссоздать тайны отвергнутого в прошлом и вечно юного мира. Выбрав внутреннюю жизнь, а в этой жизни наиболее сокровенную его сердцевину, Пруст восстает против того, что в реальности подвергается забвению, т. е. протестует против машинального и слепого мира. Пруст воскрешает навеки Красоту и Любовь, создавая и отыскивая для них новое время и наперекор смерти доказывает, что прошлое, в конце концов, превращается в нетленное современное, куда более настоящее и весомое чем то, каким оно было прежде. Именно поэтому очень большую роль в «Потерянном времени» играет психологический анализ. Истинное величие Пруста в том, что он изобразил не потерянное, а найденное время, собирает воедино раздробленной мир [Пруст 1993]. Он сумел уловить в переменном потоке форм трепетные символы человеческого единства.
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
Еще одной стороной модернизма является направление, которое, утверждая показной антиэстетизм, на самом деле прокладывает путь к настоящей эстетике человеческого существования, единственной в своем многообразии, богатоформности, лишь утверждает это единство. Основателем этого направления можно считать Донатьена Альфонса де Сада, сложность и многообразие творчества которого достойно олицетворяют в XX веке Жан Жене и Юкио Мисима. В рассказе «Патриотизм» Мисимы описано самоубийство молодой супружеской пары. Гвардейский поручик Такаяма, оказавшись перед неразрешимой моральной дилеммой вместе с женой идет на самоубийство. Первый пласт произведения вроде бы восхваляет истинно японский дух патриотизма, но по мере развития событий отступает, забывается идейное основание кошмарного ритуала, и вдруг рождается жгучее, болезненное ощущение трагической потери, бессмысленной гибели двух молодых, полных жизни и любви человеческих существ [Мисима 1993].
Пьеса «Маркиза де Сад», как и каждое произведение Мисимы, – это своего рода исследование, студии определенного понятия, явления или состояния души: красоты, страдания, нигилизма и т. д. В этом смысле «Маркиза де Сад» – студии Порока как спутника абсолютной, ничем не сдерживаемой свободы человеческого духа, когда и в языковой сфере, и в социуме он один на один со всем мирозданием – без веры, без морали, без любви. Шарль Бодлер писал: «Чтобы объяснить зло, нужно всегда возвращаться к де Саду – как к естественному человеку» [Бодлер 1993: 367]. Для Мисимы, который всю жизнь примерял одну маску за другой, фигура де Сада, человека без маски, была, пожалуй, полной неизъяснимой прелести. Юкио Мисима выбрал для финала своей судьбы исход из жизни, но, несмотря на антиэстетизм и антивитализм, его языковой мир, жизнь, творчество и смерть постулировали как великую ценность одно – Прекрасное.
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS
Важным условием и основой, которая дает возможность современному искусству и литературе воспроизводить процессы самопостижения человека, является язык. Именно язык помогает создать тот круг, двигаясь по которому человек начинает понимать наиболее непонятные закоулки своей сущности и мира.
Представители литературно-театрального авангарда - «абсурдизма» , Эжен Ионеско и Сэмюэл Беккет через язык и театр абсурда проявляют свою реакцию на события XX века, обращают людей в послушных кукол, лишенных даже языка и речи. В пьесе «Носороги» Ионеско изображает духовную и физическую мутацию, которая вдруг охватывает людей. Пьеса, по его словам, была развернутой метафорой конформизма, охватившего человеческое общество [Ионеско 1991]. Именно метафоричность и парадоксальность языка и литературы авангарда помогает понять этот противоречивый и парадоксальный мир.
Парадокс лежит в основе как формы, так и содержания и в произведениях С.Беккета. Поскольку парадокс является главной структурной единицей в Беккетовых произведениях, мы можем иметь много прочтений его текста (так же, как и жизнь).
Сэмюэл Беккет во время второй мировой войны «чтобы не сойти с ума» пишет роман об Уоте [Beckett 1991]. Этот странный персонаж после того, как кондуктор выталкивает его из трамвая, ночью добирается до имения еще более странного господина Нота и остается там на несколько лет. В этом романе Беккет с помощью философов, загримированных под шутов, разыгрывает трактат о наукоцентрическом европейском сознании, о религии, о боли и отчаянии человека, которому выпало жить в XX веке. Весь «Уот» является замаскированным ребусом и сплошной игрой языка и слов. Все начинается с имен главных персонажей – Уота и Нота. Слово «Уот» в зависимости от того,
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS как его написать по-английски, может означать «что?», «Ватт» (электромощности) и «знаю» (на древнеанглийском). «Нот» может быть отрицанием, «узлом» (на английском), «необходимостью», «нуждой», «горестью», «тяготой», «бедствием», «лишением» (на немецком), отрицанием «нет», словами «ноль», «ничто».
Роман Беккета рассказывает об отношениях между Уотом и Нотом, между слугой и господином, между рабом Божиим и Всевышним, и оба героя делают все, чтобы не выйти за рамки отведенных им ролей. Поиск слов и явлений, который все время ведет человек, вооруженный конкретным, рациональным значением, и его трагическая неспособность понять хотя бы то, что происходит вокруг – это, собственно, и есть тема «Уота».
Уота можно считать воплощением языковой теории Витгенштейна. По мнению последнего, только человеческий разум способен разделять бесформенную времяпространственную бесконечность Вселенной на конкретные предметы. Человек отличается от других существ, прежде всего способностью определять, идентифицировать вещи, а для того, чтобы это делать, человеку нужен язык. Там, где нет языка, нет и мысли, а там где нет мысли, может быть только неосознанная, неопределенная экзистенциальная тотальность, Всё и Ничто одновременно.
Уот даже не аналитик, а скорее, логический позитивист, для него слово и его значение полностью тождественны. То, что не поддается объяснению, Уот игнорирует, как совершенно лишенное смысла и значения. «Чему он научился? Ничему. Что он узнал о мистере Ноте? Ничего» – пишет Беккет [Beckett 1991: 85]. Позитивист, лингвист и математик, Уот предпочитает за каждым словом закрепить конкретное, единственное, плоское и одномерное значение, пренебрегая множеством значений, красок и оттенков жизни и реальности, которые стоят за каждым словом. Уже в конце первой части романа,
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS вооруженный логическим языком, Уот оказывается совершенно беспомощным перед лишенной понятного значения реальностью. В уют рациональности врывается иррациональная неуместность. «Уот» (что?), – вопрошает человек. – «Нот» (ничего), – слышит он в ответ. В литературе абсурда подвергается критике «упрощение» мира «простым» человеком, который по унификационистским одномерностям значения тождествен логическим позитивистам. Каммингс по этому поводу пишет: «Так называемые простые люди – люди, которые не существуют, – отдают предпочтение вещам, которые не существуют – простым вещам» [I six nonlektures 1963: 14].
Сэмюэл Беккет как-то бросил такую сентенцию – нечего выразить и высказать, нечем выразить и высказывать, не из чего выражать и высказывать, нет силы выражать и высказывать, ни желания выражать и высказывать, и вместе с тем существует обязанность выражать и высказывать . Так определяется им употребление языка, – языка, пронизанного парадоксами с тех пор, как он потерял свою прямую экспрессивность и способность объяснять мир. В парадоксе мы имеем бинарную противоположность, члены которой противоречат друг другу, и одновременно – сосуществуют, удерживаемые вместе какой-то глубокой структурой, и дают результат. Парадоксальность языка кроется в том, что он (язык) употребляется им, чтобы обращаться против самого себя. Парадокс находится в основе как формы, так и содержания Беккетовых произведений. Значение происходит от самой формы и так как парадокс является главной структурной единицей в произведениях Беккета, мы можем иметь много прочтений его текста. Их парадоксальная природа предопределяет их открытость, поэтому их можно интерпретировать по своему усмотрению. То, что держит форму можно плотнее – это как раз и есть логика парадокса. Она детерминирует все структурные и семантические единицы произведений Беккета, от языка к
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS персонажам, которые тоже являются взаимодополняющими и противоречивыми.
Парадокс как структурный фактор в языке Беккета параллелен гротеску в его образах людей. Гротеск является наглядным изображением понятия парадокса. Беккет имеет целью использовать язык как имманентное противоречие. Язык разлагается на составляющие, после чего может использоваться как объект. Употребление языка как самоцель, сконцентрированное на его схемах и механизмах, представляет сугубо поэтическое употребление. В поэзии язык является саморефлективным и не обязательно коммуникативным. Беккетова манипуляция человеческой фигурой на «сцене» жизни, социума и его употребление языка показывают нам субъекта в кризисе. Субъект потерял все признаки целостности и единства. Лишенный тела и языка, он уже не может рассказывать нам о мире. Он изображает человеческую фигуру как субъекта в становлении. Теоретически это совпадает с пониманием субъекта у Ж. Лакана [1995].
По Лакану, язык является главным структурирующим фактором. Как для сознательного, так и для бессознательного: «В языке я идентифицирую себя» [Lacan 1966: 69]; «механизмы, которые определяют режим деятельности бессознательного, точно соответствуют функциям, которые являются определяющими для двух наиболее ярких аспектов деятельности языка – метафоры и метонимии» [Lacan 1966: 799]. Для получения своего «Я», идентичности, ребенок, согласно Лакану, проходит процесс из трех стадий; с «приобретением» языка связано вхождение в символическую стадию , представляющую законы, порядок и общество в целом. С обретением языка субъективный статус полностью завершен и главным импульсом ребенка становится ощущение подавленного желания. Субъект, который говорит, указывает Лакан, является воплощением отсутствия, поэтому субъект есть то,
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS чего нет. Ребенок, через сопоставление себя с другим, начинает приобретать определенные ощущения тела, своего «Я». «Другой», это и есть место, которое субъект должен занять, чтобы войти в символический порядок, представляющий все формы человеческой культуры и жизни в обществе. Желание, ключевой термин лакановского психоанализа, ведет себя подобно языку, двигаясь от символа к символу, никогда не осуществляясь до конца, так же как смысл и реальность никогда не могут быть схвачены полностью через язык.
Список литературы Коммуникативная аксиология человека как гносеология общественной практики
- Бодлер Ш. Цветы зла. -М.: Высш. шк., 1993. -510 c.
- Деррiда Ж. Позицiї/Ж. Деррiда. -К.: Дух i лiтера, 1994. -158 с.
- Джойс Д. Улисс/Д. Джойс. -М.: Республика, 1993. -671 с.
- Ионеско Э. Носорог. Пьесы и рассказы/Э. Ионеско. -М.: Текст, 1991. -268 с.
- Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе/Ж. Лакан. -М.: Гносис, 1995. -192 с.
- Мисима Ю. Золотой храм/Ю. Мисима. -СПб.: Северо-Запад, 1993. -478 c.
- Поэзия французского символизма. -М.: Изд-во МГУ, 1993. -436 с.
- Пруст М. Беглянка/М. Пруст. -М.: Крус, 1993. -336 с.
- Французька п’єса XX столiття. Театральний авангард. -К.: Основи, 1993. -511 с.
- Хайдеггер М. Путь к языку // Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления // сост., пер. с нем. и коммент. В.В. Бибихина. - М.: Республика, 1993. - С. 259-273.
- Beckett, S. Watt/S. Beckett. -P.: Olympia Press, 1991. -254 p.
- I six nonlektures. e.e. cummings. -Cambridge: Harvard University Pres, 1963. -128 p.
- Lacan, J. Subversion du sujet et dialectique du desire dens L’inconsient freudien//Lacan J. Ecrits. -Paris: Seuil, 1966. -P. 793-827.