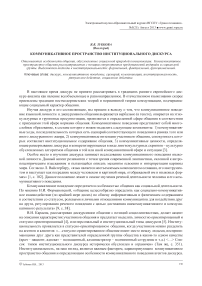Коммуникативное пространство институционального дискурса
Автор: Зубкова Яна Владимировна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 5 (25), 2013 года.
Бесплатный доступ
Описываются особенности общения, обусловленные социальной природой коммуникации. Коммуникативное пространство общения рассматривается с позиции стереотипных представлений индивида и социальной группы. Выделяются подходы к институциональности: формальный, фактуальный, функциональный.
Коммуникативное поведение, сценарий, коммуникация, институциональность, ритуальное действие, социальное действие
Короткий адрес: https://sciup.org/14821946
IDR: 14821946
Текст научной статьи Коммуникативное пространство институционального дискурса
В настоящее время дискурс не принято рассматривать в традициях раннего европейского дис-курс-анализа как явление всеобъемлющее и разнонаправленное. В отечественном языкознании скорее приемлемы традиции постмодернистских теорий и нормативной теории коммуникации, подчеркивающие социальный характер общения.
Изучая дискурс и его составляющие, мы пришли к выводу о том, что коммуникативное поведение языковой личности в дискурсивном общении выражается вербально (в тексте), опирается на этнокультурные и групповые пресуппозиции, проявляется в определенной сфере общения в соответствии с присущими этой сфере нормами общения. Коммуникативное поведение представляет собой многослойное образование, в составе которого можно выделить следующие компоненты: 1) коммуникативные ходы, последовательность которых есть сценарий соответствующего поведения в рамках того или иного дискурсивного жанра, 2) коммуникативные интенции участников общения, совокупность которых составляет институциональное содержание общения, 3) коммуникативные ценности, определяющие развертывание дискурса и конкретизирующиеся в виде лингвокультурных скриптов – культурно обусловленных алгоритмов общения в той или иной коммуникативной сфере и ситуации [3].
Особое место в изучении дискурса занимает исследование коммуникативного поведения языковой личности. Данный аспект релевантен с точки зрения современной лингвистики, склонной к антропоцентрическим изысканиям и пытающейся описать механизм освоения и интерпретации картины мира. Согласно Л. Вайсгерберу, «язык является неотъемлемым компонентом сознания, его инструментом и выступает как посредник между человеком и картиной мира, отображаемой им в языковых формах» [1, с. 102]. Данное положение лежит в основе изучения речевой деятельности человека и его коммуникативного поведения.
Коммуникативное поведение определяется особенностью общения как социальной деятельности. По мнению Н.И. Формановской, «общение целесообразно определить как социально-коммуникативное взаимодействие (по крайней мере двоих) по обмену информативным и фатическим содержанием в соответствии со статусом, ролевыми и личными отношениями коммуникантов для воздействия друг на друга, регулирования речевого поведения с целью достижения внекоммуникативного и коммуникативного результата» [9, с. 38].
В.И. Карасик, рассматривая дискурсивное общение с позиций социолингвистики, делает акцент на описании характеристик участников общения и предлагает выделять личностно ориентированный и статусно-ориентированный [4], или персональный и институциональный типы дискурсов [5]. Институ-циональность проявляется в статусно-ориентированном общении, когда участников можно разделить на агентов и клиентов: «…статусно-ориентированное общение имеет место между людьми, воспринимающими друг друга как представителей определенной группы общества в каком-то одном качестве (врач – пациент, адвокат – подзащитный, администратор – подчиненный сотрудник и т.д.) <…> Список типов институционального дискурса исторически обусловлен и ограничен» (Там же, с. 351). Институциональность, на наш взгляд, является важным фактором, характеризующим коммуникативное пространство общения и определяющим особенности коммуникативного поведения агентов дискурса.
Разделение данных типов дискурсов обусловливается дихотомией «индивид – социальная структура» и подтверждается рядом социальных наук. В социологии традиционно исследуется межличностная интеракция: взаимодействие личностей и общение в рамках крупных социальных институтов [7].
К системообразующим признакам институциональности В.И. Карасик относит цели и участников дискурса [5]. Данная теория успешно функционирует на основе современного традиционного понимания института как относительно устойчивых типов и форм социальной практики, посредством которых организуется общественная жизнь, обеспечивается устойчивость связей и отношений в рамках социальной организации общества [6]. В социологической науке в конце ХХ в. институт представляется в виде системы устойчивых связей (сетей) между индивидами и организациями, регулируемых правилами социального поведения или социальными ролями.
Е.И. Шейгал отмечает, что «институциональный дискурс – это дискурс, осуществляемый в общественных институтах, общение в которых является составной частью их организации. <…> Понимание социального института позволяет очертить основные параметры институционального дискурса: набор типичных для данной сферы ситуаций общения (речевых событий), представление о типичных моделях речевого поведения при исполнении тех или иных социальных ролей, определенная (ограниченная) тематика общения, специфический набор интенций и вытекающих из них речевых стратегий» [10, с. 42]. В работе подчеркивается, что институциональность можно контролировать, в то время как правила неинституционального общения, сформированные спонтанно, регулируются реакциями общественного мнения.
И. Гофман, предлагая собственный подход к изучению «социальной жизни», констатирует, что социальному общению свойственны стереотипное исполнение, институциональность: «Когда действующий индивид принимает постоянную социальную роль, он обычно обнаруживает, что какой-то передний план для нее уже установлен» [2, с. 60]. Такое поведение объясняется, прежде всего, стремлением придать собственной социальной группе статусную весомость, идеализировав ритуал коммуникации «с целью воздействовать на доверчивость остального мира» (Там же, с. 68). Данная концепция предполагает наличие институциональности в разных типах общения: «… человек имеет столько же разных социальных Я , сколько существует различных групп , состоящих из лиц, чьим мнением он дорожит. Обычно он показывает каждой из этих различных групп разные стороны самого себя» (Там же, с. 83). В таком понимании институциональность свойственна любому общению, в том числе на бытовом уровне (среди друзей один может выступать в роли лидера, чье мнение считается решающим), однако традиционно рассматривается как свойство общения в социальных институтах.
Проявление институциональности в повседневном общении возможно всегда, варьируется лишь ее степень, если рассматривать институциональность как совокупность правил. В таком понимании институциональность предполагает наличие у участника коммуникации ценностей и предпочтений, которые обусловливают выполнение норм поведения. В широком понимании мы рассматриваем инсти-туциональность как пространство социальных норм поведения и ценностей. Такая трактовка этого понятия открывает перспективы для исследования дискурсивного общения и выявления ценностных составляющих коммуникации [3].
Поддерживая идею И. Гофмана о различных ролях индивида, В.И. Карасик характеризует институциональное общение как коммуникацию в своеобразных масках, которые способствуют трафаретности и стереотипизации общения. Так, ученый отмечает, что специфика институционального дискурса раскрывается в его типе, т.е. в типе общественного института, который в коллективном сознании обозначен особым именем, обобщен в ключевом концепте этого института (политический дискурс – власть, педагогический – обучение, религиозный – вера, юридический – закон, медицинский – здоровье и т.д.), связывается с определенными функциями людей, сооружениями, построенными для выполнения данных функций, общественными ритуалами и поведенческими стереотипами, мифологемами, а также текстами, производимыми в социальном образовании [5].
Коммуникативные исследования в германистике также тяготеют к описанию институциональнос-ти: «Angesichts der Geschichte der Institutionsanalyse, die bisher nicht zu einer klaren oder gar anerkannten Konzeption geführt hat, ist die relativ unsystematische Behandlung der Sprache in Institutionen nicht erstaun-lich. Vor allem sind es Einzeluntersuchungen zu spezifischen Aspekten des sprachlichen Handels in Institu-tionen, die, teilweise sehr materialreich, der Fülle des Konkreten deskriptiv Rechnung zu tragen suchen» [12, S. 343]. В немецкой лингвистике аспект институциональности релевантен в первую очередь для исследования тематических полей социальных групп: «… vor allem, wenn für einzelne Institutionen (wie das Gefängnis, die Schule, das Handwerk) besondere Lexika im Gebrauch sind» (Ibid., S. 338). В данном случае речь идет о традиционном понимании институциональности – поведении в замкнутых социальных группах. В этом случае понятие «институт» идентично понятию «организация»: «Ein weiteres Synonym, Institution, wird manchmal gebraucht, um gewisse Arten von Organisationen zu kennzeichnen. <…> Manchmal bezieht sich der Begriff „Institution“ auch auf ein ganz anderes Phänomen, und zwar auf ein nor-matives Prinzip, welches kulturelle Einrichtungen, wie z.B. die Ehe und das Eigentum, beschreibt» [14, S. 87].
Многогранное изучение социальных институтов как основной общественной категории (традиционно со времен Г.В.Ф. Гегеля, К. Маркса, Ф. Энгельса) способствовало развитию новых значений данного понятия. С точки зрения организации, например, анализируются в антропологии (ср.: в межкультурной коммуникации) «чужие культуры»: «Die „Kulturanthropologie“ hat <…> Institutionen eine zentrale Bedeutung für die Untersuchung von fremden Kulturen und die Analyse ihrer Lebenszusammenhänge zugewiesen» [12, S. 339], в роли институтов при этом выступают культурные общности людей.
Базой для институциональных исследований в немецкой лингвистике служит социология, в частности такое ее направление, как «индивидуализированная социология» ( individualisierende Soziologie ), изучающее поведение индивида c точки зрения распределения ролей в обществе и рассматривающее институт как пространство социальных норм поведения и правил взаимоотношений: «Institution ist „ a complex of norms regulating the action of persons in the process of social interaction“» (Там же).
В коммуникативных исследованиях институциональность связывается с понятием ритуала [8; 11]. Ритуал можно рассматривать с позиции коммуникативного поведения, а не только с позиции действия: «Rituale sind also formale Prozeduren einer kommunikativen, arbiträren Art; sie stellen einen Code dar und verwenden ein `Vokabular`, womit soziale Situationen wie allgemein Zustände der Welt kontrolliert und re-guliert werden können» [14, S. 9]. Ритуал понимается и как форма институциональной коммуникации, определяемая внешними обстоятельствами: «Jede tatsächliche Durchführung dieses Rituals ist ein Vollzug des als soziales Objekt existierenden Handlungsplans. <…> Hinsichtlich dieser Kommunikationshandlung ist das Ritual als Institution ein wesentlicher Teil der Kommunikationssituation» (Ibid., S. 42–43).
Ритуальное действие социально детерминировано и выполняется по плану – такое понимание ритуальной коммуникации тождественно пониманию коммуникации институциональной. При этом степень институциональности зависит от объекта деятельности и может различаться по:
-
а) предмету плана коммуникации (формулы приветствия, прощания, способ участия в общении или пространственные предписания в общении, использование определенного языка или манеры говорить, альтернативных способов коммуникации);
-
б) степени детализации всего плана и его составляющих (определенная или вольная тема общения, уровень владения языком, заданный стиль общения, употребление определенных слов) [14].
И. Верлен утверждает: «Die verschiedenen Formen der institutionaler Kommunikation (schulischer Unterricht, therapeutisches Gespräch, polizeiliche Vernehmung, Gerichtsverhandlung, Ritualausführung) un-terscheiden sich daher ebenfalls vor allem in zwei Punkten: a) dem Gegenstand des jeweiligen Plans qua Institution (Beginn und Ende der Handlung, Art der Beteiligung oder der räumlichen Anordnung der Handeln-den, geforderte Sprache oder Sprechweise, alternative Handlungsformen etc.); b) dem Detailliertheitsgrad der im jeweiligen Plan enthaltenen Bestimmungen hinsichtlich bestimmter Gegenstände des Plans (so können das Thema eines Kommunikationsprozesses vage oder sehr streng, ein bestimmtes Sprachniveau, aber auch die Sprechweise oder gar die einzelnen Worte bestimmt sein). <…> Die Ritualisierung des Gesamtrituals ist eine komplexe und konkrete rituelle Kommunikationshandlung; das Ritual als Plan und Institution setzt nicht nur besondere Bedingungen für die Kommunikation und die Lösung von Partialproblemen, sondern schreibt die einzelnen zu realisierenden Kommunikationshandlungen und ihre möglichen Alternativen und damit die als Problemlösungen geltenden Handlungen selbst vor» [14, S. 43–44].
Таким образом, мы выделяем следующие подходы к институциональности, существующие в научной парадигме: формальный, фактуальный, функциональный.
Формальный подход к институциональности характеризуется определением статусных ролей участников общения и широко применяется в социолингвистике, когда дискурсивное общение описывается с позиции статуса. В результате выделяются определенные типы дискурсов общественных институтов: дискурс семьи, дискурс педагогический, дискурс юридический и пр.
Фактуальный подход находит применение в исследованиях по когнитивной лингвистике, т.к. позволяет рассмотреть содержание коммуникативного поведения участников общения согласно их статусным ролям в обществе. При исследовании дискурса при таком подходе описываются роли агентов и клиентов дискурса и выделяются, например дискурс продавца – дискурс покупателя, дискурс учителя – дискурс учащегося / студента, дискурс врача – дискурс больного и пр.
Функциональный подход не только характеризует наличие статусных отношений коммуникантов, этапы развития этих отношений, но и позволяет выявить причины тех или иных коммуникативных ходов, другими словами, определить ценностную составляющую общения. Применение данного подхода возможно в рамках аксиологической лингвистики при изучении специфических дискурсивных формул, выражающих фрагментируемый опыт коммуникативного поведения. Данный подход представляется перспективным для исследования особого типа дискурсивных ментальных образований, имеющих определенную ценностную составляющую – скрипт. Лингвокультурные скрипты мы рассматриваем как набор инструкций для языкового и поведенческого кода, используемых для небольших членимых ценностных ситуаций. Например, скрипт академического дискурса – это ценностно-обусловленная последовательность коммуникативных ходов в университетском общении преподавателя со студентами, включающая в себя доминанты русской культуры вообще и доминанты коммуникации в рамках высшей школы. С помощью описания скриптов коммуникативного поведения участников академического дискурса с позиции институциональности можно выявить ценностные предпочтения преподавателей и студентов.
Итак, коммуникативное пространство статусно-ориентированного дискурса следует рассматривать в аспекте институциональности, поскольку социальная составляющая является неотъемлемым компонентом такого рода общения, обусловленным ролями коммуникантов и целями общения.
Список литературы Коммуникативное пространство институционального дискурса
- Вайсгербер Л. Родной язык и формирование духа. М., 1993
- Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни/пер. с англ. и вступ. статья А.Д. Ковалева. М.: Канон-пресс-Ц; Кучково поле, 2000
- Зубкова Я.В. Конститутивные признаки академического дискурса//Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. Сер.: Филол. науки. 2009. № 5(39). С. 28-32
- Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград, 2002
- Карасик В.И. Языковые ключи. Волгоград: Парадигма, 2007
- Российская социологическая энциклопедия/под общ. ред. Г.В. Осипова. М.: Норма-Инфра-М, 1998
- Смелзер Н. Социология. М., 1998
- Тютюнова О.Н. Лингвопрагматическая характеристика судебных прений//Изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. Сер.: Филол. науки. 2007. № 2(20). С. 93-98
- Формановская Н.И. Язык -речь -общение: единство и раздельность//Русский язык за рубежом. 2007. №2. С. 35-40
- Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М.: ИТДГК «Гнозис», 2004
- Angermüller J. Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse in Deutschland: zwischen Rekonstruktion und Dekonstruktion/R. Keller, A. Hirseland, W. Schneider, W. Viehöver (Hrsg.)//Die diskursive Konstruktion von Wirklichkeit. Konstanz: UVK, 2005. S. 23-48
- Ehlich K., Rehbein J. Sprache in Institutionen//Lexikon der Germanistischen Linguistik, Tübingen: Niemeyer, 1980. S. 338-345
- Knuf J. Ritualisierte Kommunikation und Sozialstruktur/H. Walter Schmitz. Mit e. Beitr. v. Peter Mason. Hamburg: Buske, 1980
- Werlen I. Ritual und Sprache: Zum Verhältnis von Sprechen und Handeln in Ritualen. Tübingen: Narr, 1984