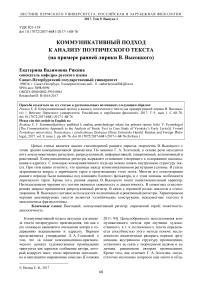Коммуникативный подход к анализу поэтического текста (на примере ранней лирики В. Высоцкого)
Автор: Рякина Екатерина Вадимовна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Язык, культура, общество
Статья в выпуске: 1 т.9, 2017 года.
Бесплатный доступ
Целью статьи является анализ стихотворений раннего периода творчества В. Высоцкого с точки зрения коммуникативной грамматики. По мнению Г. А. Золотовой, в основе речи находится пять коммуникативных регистров: репродуктивный, информативный, генеритивный, волюнтивный и реактивный. Коммуникативные регистры выражают отношение говорящего к содержанию высказывания и адресату. С помощью коммуникативного подхода можно понять внутреннюю структуру текста. При этом важно отметить, что границы между коммуникативными регистрами условны. В статье затрагивается вопрос о лирическом герое в произведениях этого поэта. Многие его стихотворения раннего периода были написаны под влиянием блатного фольклора, и с этим связаны особенности лирического героя. Кроме того, ранняя лирика В. Высоцкого носит повествовательный характер. Неотъемлемыми чертами его поэзии являются сюжетность и диалогичность. В сюжетных стихотворениях широко применяется репродуктивный регистр. В связи с огромной ролью диалогов в стихотворениях В. Высоцкого активно используются волюнтивный и реактивный регистры. Характерными чертами анализируемых текстов являются эллиптические конструкции, междометные глаголы и междометные фразеологизмы.
Высоцкий, коммуникативный регистр, лирический герой, сюжетность, диалогичность
Короткий адрес: https://sciup.org/14729498
IDR: 14729498 | УДК: 821-119 | DOI: 10.17072/2037-6681-2017-1-68-76
Текст научной статьи Коммуникативный подход к анализу поэтического текста (на примере ранней лирики В. Высоцкого)
Коммуникативный подход актуален для анализа текста литературного произведения, так как с его помощью выявляется отношение автора к содержанию высказывания и адресату. Верным представляется утверждение Л. А. Голяковой о том, что «в плане коммуникативно-прагматического аспекта художественное произведение трактуется как адресное сообщение автора, который кодирует текст, тесно переплетая эксплицитно и имплицитно выраженные смыслы» [Голякова
2011: 94]. Целесообразность использования коммуникативного метода при изучении художественного, в т. ч. поэтического, текста определяется способностью этого метода помочь исследователю аналитически раскрыть порядок организации, внутреннюю структуру произведения, установить ее связь с творческими целями и задачами, решаемыми автором произведения. Кроме того, как отмечает Г. А. Золотова, «недостаточно изученных вопросов еще много в обла-
сти соотношения синтаксиса и семантики», а это значит, что необходимо проводить исследования по этой теме [Золотова 2010: 16].
В статье анализируются стихотворения раннего периода творчества Владимира Высоцкого (60-е гг.) с целью выявления важных особенностей его лирики, которые касаются смысла и композиции стихов. Их структура рассматривается в русле коммуникативной грамматики. Необходимо заранее оговориться, что речь пойдет о тех стихах, которые поэт исполнял под гитару. Сам Высоцкий говорил о своих произведениях, что это не песни, а стихи, положенные на музыку: «Я пишу стихи и пытаюсь исполнять их под музыку для того, чтобы они ещё лучше работали» [Высоцкий 2000: 152].
Согласно классификации, предложенной Г. А. Золотовой, речь – как форма общения, как средство выражения (будь то в устном или в письменном виде) – имеет в своей основе пять типов организации речевого действия (пять коммуникативных регистров по терминологии Г. А. Золотовой): «репродуктивный», «информативный», «генеритивный», «волюнтивный» и «реактивный» [Золотова, Онипенко, Сидорова 2004: 33] . Кратко охарактеризуем их.
-
1. Репродуктивный. Говорящий воспроизводит в речи непосредственно наблюдаемое. Г. А. Золотова заключает высказывания репродуктивного типа в модусную рамку « Я вижу, как… » , « Я слышу, как… » , « Я чувствую, как… » [Золотова, Онипенко, Сидорова 2004: 29]. Для данного коммуникативного регистра характерны любые описания.
-
2. Информативный. Говорящий сообщает о каких-либо фактах, событиях, свойствах, и это знания, полученные не путем прямого наблюдения, а в результате опыта или мыслительных операций [там же]. Высказывания такого типа можно заключить в модусную рамку « Я знаю, что… », « Известно, что… » [там же].
-
3. Генеритивный. « Говорящий обобщает информацию, соотнося ее с универсальным опытом ... и поднимаясь на высшую ступень абстракции от событийного времени и места» [там же: 30]. Такие высказывания обычно облекаются в форму умозаключений, афоризмов, пословиц [там же].
-
4. Волюнтивный. Говорящий побуждает адресата к действию с целью внести изменение в тот или иной фрагмент действительности или что-то узнать [там же: 32–33].
-
5. Реактивный. Представляет собой оценочную реакцию говорящего на ситуацию. Реактивный регистр часто используется в диалогах.
Говоря о регистре репродуктивном, Г. А. Золотова также отмечает, что «диалогический блок ... в виде воспроизводимой прямой речи включается обычно в репродуктивный регистр, так что волюнтивные и реактивные высказывания находятся как бы в двойном подчинении...» [там же: 33].
Существуют также следующие разновидности репродуктивного и информативного регистров: «репродуктивно-описательный» (описание ситуации), «репродуктивно-повествовательный» (изложение событий), «информативно-описательный» (констатация факта, вывод, мнение), «информативно-повествовательный» (изложение повторяющихся, многократных действий) [там же: 30–31].
Следует подчеркнуть, что формальная характеристика текста в соответствии с названными (так сказать, основными, базовыми ) коммуникативными регистрами отнюдь не предполагает раздельного, обособленного существования последних, поскольку практика литературнохудожественного творчества порождает контактные виды коммуникативных регистров . Это объясняется тем, что в текстах поэтических в силу максимальной концентрации смыслов возможно сочетание двух и более коммуникативных регистров (например, информативного и реактивного) даже в рамках одной предикативной единицы.
Разумеется, для анализа стихотворений В. Высоцкого с точки зрения коммуникативной грамматики важны как базовые позиции, так и их контактные варианты.
Ранняя лирика Высоцкого носит повествовательный характер. Многие песни этого периода поэт написал под влиянием блатного фольклора. Вл. Новиков пишет, что это «четыре десятка историй, перетекающих друг в друга, перекликающихся, образующих вместе единый текст, своего рода роман с весьма небезупречным главным героем» [Новиков 2006: 60]. Надо отметить, что, поскольку поэт сам никогда не сидел в тюрьме, возникает вопрос о том, какой герой перед нами: ролевой или лирический. Многие исследователи размышляли на эту тему. А. Рощина критикует те классификации героев и образа повествователя, в основе которых лежит морально-этический принцип, справедливо замечая, что это противоречит научному подходу [Рощина 1998: 132]. Автор утверждает, что исследователи нередко судят о том, лирический это герой или ролевой, основываясь на его моральных качествах, например, в ранней (блатной) лирике Высоцкого они видят именно ролевого героя и отказываются видеть героя лирического. Верным представляется вывод Я. Кормана: «...подавляющее большинство произведений, которые мы привыкли считать ролевыми, являются таковыми лишь по форме, а ролевые персонажи – это лишь маски и образы лирического героя» [Корман 2006: 5–6], поскольку исследователь опирается на слова самого поэта: «Я пишу от первого лица по двум причинам: первая – это то, что, может быть, мне как актеру ... чтобы играть разных людей, намного удобнее говорить от первого лица, и вторая – из-за того, что в этих вещах есть мое собственное мнение и суждение о том предмете, о котором я разговариваю. Это всё только мои собственные мысли, поверьте мне» [Корман цит. по: Высоцкий 2000: 5]. В блатной лирике Высоцкого перед нами лирический герой, и этот герой – бунтарь. Этим он и близок автору, поскольку его творчество является примером ярко выраженного личностного начала. По словам А. В. Подобрий, «Любой писатель является выразителем не только коллективного, но и личностного начала, и его стремление создать свою художественную реальность может быть противопоставлено родовым культурным представлениям о мире и о человеке в этом мире» [По-добрий 2013: 140]. Отметим также, что Высоцкий был не только поэтом и бардом, но и актером, поэтому, безусловно, его талант к перевоплощению помог ему создать множество образов людей разных профессий и социальных кругов.
И. В. Шумкина и И. А. Некрасов в статье «Окуджава и Высоцкий в русской речи» справедливо утверждают, что для лирики Высоцкого характерна сюжетность [Шумкина, Некрасов 2008: 465]. В этом можно убедиться на примере таких стихотворений, как «Сорок девять дней», «Тот, кто раньше с нею был», «Татуировка», «Лежит камень в степи», «Я был душой дурного общества».
Одним из самых показательных примеров поэтического произведения с ярко выраженным сюжетом является стихотворение «Сорок девять дней» (1960) [Высоцкий 1991: 15], посвященное реальным событиям. Автор рассказывает историю таким образом, что читатели живо представляют себе происходящее, а это означает, что в этом стихотворении проявляется «кинемато-графичность». И. А. Мартьянова определяет явление кинематографичности так: «…это характеристика текста с монтажной техникой композиции, в котором различными, но прежде всего композиционно-синтаксическими средствами изображается динамическая ситуация наблюдения» [Мартьянова 2002: 240]. В этом можно убедиться на примере следующего фрагмента:
Суров же ты, климат охотский, –
Уже третий день ураган.
Встает у руля сам Крючковский, На отдых – Федотов Иван.
[Высоцкий 1991: 15]
В первой строке стихотворения используется информативный регистр, так как фраза Суров же ты, климат охотский представляет собой некоторое умозаключение об охотском климате. Со второй строки происходит переход от несюжетного времени к сюжетному – это репродуктивноописательный регистр: описывается погода, и это описание служит фоном для событий, которые далее происходят. В третьей и четвертой строках передается последовательность действий, поэтому эти строки актуализируют репродуктивно-повествовательный регистр. В третьей строке употреблен глагол в форме несовершенного вида, выражающий однократное действие. В строке На отдых – Федотов Иван также выражено однократное действие, а эллиптическая конструкция придает этому действию динамичность. По словам Т. В. Кузьминой, «…время (темпоральность) в тексте выражается не только глагольными формами (явно, эксплицитно), но и синтаксическими конструкциями, не содержащими этих форм (неявно, имплицитно)» [Кузьмина 2014: 114]. Эффект кинематографичности достигается за счет использования глаголов в форме настоящего времени несовершенного вида (далее – НСВ) при изложении событий вместо глаголов в форме прошедшего времени совершенного вида (далее – СВ).
Весьма показательна и третья строфа стихотворения:
Суровей, ужасней лишенья,
Ни лодки не видно, ни зги, –
И принято было решенье –
И начали есть сапоги.
[там же: 15]
Первые две строки представляют собой репродуктивно-описательный регистр, поскольку передают обстоятельства, в которых оказались персонажи на тот момент: Суровей, ужасней лишенья, / Ни лодки не видно, ни зги . В третьей и четвертой строках последовательность действий выражена регистром репродуктивноповествовательным: И принято было решенье – / И начали есть сапоги .
Сюжетом стихотворения «Татуировка» (1961) [там же: 17] является история о любви двух мужчин к одной женщине. Первая строка Не делили мы тебя и не ласкали представляет собой информативно-повествовательный регистр, поскольку в ней речь идет о повторяющихся действиях в прошлом. Эти действия выражены с помощью глаголов НСВ. В строках А что любили – так это позади, – / Я ношу в душе твой светлый образ, Валя лирический герой сообщает факты, а это означает, что перед нами информативно-описательный регистр. Последняя строка
А Леша выколол твой образ на груди актуализирует репродуктивно-повествовательный регистр, описывая однократное действие, выраженное глаголом СВ.
Предпоследняя строфа стихотворения почти полностью относится к репродуктивно-повествовательному регистру, так как в ней передается последовательность событий:
Но недавно мой товарищ, друг хороший,
Он беду мою искусством поборол:
Он скопировал тебя с груди у Леши
И на грудь мою твой профиль наколол.
[Высоцкий 1991: 15]
Однако уточнение друг хороший актуализирует информативный регистр, потому что оно выражает то, что лирический герой знает и думает о своем друге.
Стихотворение «Тот, кто раньше с нею был» (1962) [там же: 27–28] также представляет собой историю с захватывающим сюжетом, в котором динамику передают глаголы в форме СВ, актуализируя, таким образом, репродуктивно-повествовательный регистр, а кинематографичность, наглядность отдельных эпизодов в этом стихотворении передают глаголы в форме НСВ, актуализируя репродуктивно-описательный регистр:
В тот вечер я не пил, не пел –
Я на нее вовсю глядел,
Как смотрят дети, как смотрят дети.
Но тот, кто раньше с нею был,
Сказал мне, чтоб я уходил,
Сказал мне, чтоб я уходил,
Что мне не светит [там же: 27].
Очевидно, что первые две строки относятся к репродуктивно-описательному регистру: В тот вечер я не пил, не пел – / Я на нее вовсю глядел . Фраза Как смотрят дети, как смотрят дети относится к информативному регистру, поскольку представляет собой некое умозаключение . Остальные четыре строки актуализируют репродуктивно-повествовательный регистр, но в пятой и шестой строках он сочетается с волюнтивным регистром, поскольку «тот, кто раньше с нею был» выражает свою волю ( Сказал мне, чтоб я уходил ), а в седьмой – с регистром информативным ( Что мне не светит ) в виде простого придаточного предложения глагольно-безличной группы ( Что мне не светит ).
В третьей строфе преобладает репродуктивный регистр. Первые две строки выражают информативный регистр: Но тот, кто раньше с нею был, / Меня, как видно, не забыл. Третья строка относится к репродуктивно-повествовательному регистру (И как-то в осень, и как-то в осень), остальные строки представляют собой репродуктивно-описательный регистр. Этот от- рывок дает читателю возможность стать непосредственным наблюдателем ситуации:
Иду с дружком, гляжу – стоят, –
Они стояли молча в ряд,
Они стояли молча в ряд –
Их было восемь [там же: 28].
Особенно динамична четвертая строфа. Первая часть первой строки актуализирует репродуктивно-повествовательный регистр, а фраза, которая следует после двоеточия до конца второй строки, – информативный регистр, так как она выражает то, что лирический герой думал в тот момент: Со мною – нож, решил я: что ж, Меня так просто не возьмешь . Следующая строка выражает мысленную угрозу и, таким образом, относится к во-люнтивному регистру: Держитесь, гады! Держитесь, гады! Волюнтивный регистр актуализируется и в строке К чему задаром пропадать. Пятая и шестая строки представляют собой репродуктивно-повествовательный регистр и передают динамику действия: Ударил первым я тогда, / Ударил первым я тогда. Подводящая итог событиям констатация, выражающая точку зрения лирического героя на собственный поступок, – Так было надо [там же] – воплощена в информативном регистре.
В нескольких песнях Высоцкого повторяется один и тот же сюжет: женщина предает лирического героя, и они расстаются. Этот сюжет представлен в стихотворении «Бодайбо» (1961) [там же: 22], где лирический герой обращается к бывшей возлюбленной с упреками, но с первой же строфы ясно, что в это время она далеко от героя и не может ответить на эти упреки. Поэтому перед нами не диалог, а монолог:
Ты уехала на короткий срок,
Снова свидеться нам – не дай бог, –
А меня в товарный – и на восток, И на прииски в Бодайбо [там же].
Первая строфа почти полностью относится к репродуктивно-повествовательному регистру, кроме второй строки, которая актуализирует во-люнтивный регистр, так как в ней лирический герой высказывает нежелание снова встретиться с героиней: Снова свидеться нам – не дай бог . Эта идея выражена с помощью междометного фразеологизма не дай бог. Во фразе А меня в товарный – и на восток, / И на прииски в Бодайбо используется эллиптическая конструкция (подразумевается глагол отправили ).
Вторая строфа относится к информативному регистру, кроме фразы Ну а мне плевать, которая выражает оценочную реакцию на ситуацию, а значит, актуализирует реактивный регистр, несмотря на то, что это не ответная реплика в диалоге:
Не заплачешь ты и не станешь ждать,
Навещать не станешь родных, –
Ну а мне плевать – я здесь добывать
Буду золото для страны.
[Высоцкий 1991: 22]
В последней строфе лирический герой обращается к героине:
Ты не жди меня – ладно, бог с тобой, –
А что туго мне – ты не грусти.
Только помни – не дай бог тебе со мной
Снова встретиться на пути! [там же]
Эта строфа актуализирует волюнтивный регистр (кроме фразы А что туго мне, которая относится к информативному регистру), но волеизъявление здесь выражено разными способами. В первую очередь, это глаголы в форме повелительного наклонения: не жди, не грусти, помни . Кроме того, это междометные фразеологизмы бог с тобой и не дай бог (тебе со мной встретиться) .
В стихах Высоцкого много диалогов, которые способствуют продвижению сюжета. Как правило, это диалоги между персонажами.
Эту мысль подтверждает анализ стихотворения «Счетчик щелкает» (1964) [там же: 65]:
Твердил он нам: «Моя она!»
«Да ты смеешься, друг, да ты смеешься!
Уйди, пацан, – ты очень пьян, –
А то нарвешься, друг, гляди, нарвешься!»
[там же]
В первой строке фраза Твердил он нам актуализирует репродуктивно-описательный регистр, а реплика персонажа «Моя она!» – информативный. Ответная реплика «Да ты смеешься, друг, да ты смеешься представляет собой реакцию на предыдущее высказывание, и, следовательно, это реактивный регистр. Фраза Уйди, пацан, относится к волюнтивному регистру. Вывод лирического героя о его собеседнике ты очень пьян актуализирует информативный регистр. К информативному регистру также относится угроза А то нарвешься, друг, гляди, нарвешься!
Диалог включается в репродуктивный регистр. По репликам персонажей чувствуется, как атмосфера накаляется; ясно, что конфликт неизбежен:
Ударила в виски мне кровь с вином –
И, так же продолжая улыбаться,
Ему сказал я тихо: «Все равно
В конце пути придется рассчитаться!»
[там же]
Первая строка относится к репродуктивноповествовательному регистру. Интересно, что в ней используется метафора: Ударила в виски мне кровь с вином, которая возникла в результате контаминации двух фразеологизмов кровь бросилась (кинулась, ударила) в голову ‘Кто-либо пришел в исступление, сильное возбуждение’ [Войнова и др. 1968: 213] и ударять в голову ‘оказывать опьяняющее действие’ [там же: 490]. Вторая строка относится к репродуктивно-описательному регистру. Фраза Ему сказал я тихо актуализирует репродуктивно-повествовательный регистр. Реплика «Все равно / В конце пути придется рассчитаться!» представляет собой информативный регистр. Это предупреждение, адресованное собеседнику.
А жизнь мелькает, как в немом кино, –
Мне хорошо, мне хочется смеяться, –
А счетчик – щелк да щелк, – да все равно
В конце пути придется рассчитаться…
[Высоцкий 1991: 65]
Первая строка актуализирует информативный регистр, поскольку в ней используется необычное сравнение, которое выражает субъективный взгляд лирического героя на жизнь. Фраза Мне хорошо также относится к информативному регистру . Фраза мне хочется смеяться – к волюн-тивному, поскольку она представляет собой волеизъявление . А счетчик – щелк да щелк – к репродуктивно-описательному (отметим использование междометного глагола щелк , который придает четверостишию экспрессию) . Произнесенная в самом конце фраза да все равно / В конце пути придется рассчитаться превращается в философское обобщение, поэтому она актуализирует генеритивный регистр. У этого стихотворения открытый финал и не сказано, кто победил. Рассчитаться придется обоим персонажам, вне зависимости от того, кто победит, и, кроме того, в стихотворении также выражена идея, что всем людям однажды придется ответить за свои поступки.
Стихотворение «Весна еще в начале» (1962) [там же: 32–33] имеет один из характерных для ранней лирики Высоцкого сюжетов – неудачный побег из тюрьмы (примерно такой же сюжет и у стихотворения «Зэка Васильев и Петров зэка» [там же: 45]). Этот текст включает в себя диалог:
Спросил я Катю взглядом:
«Уходим?» – «Не надо!»
«Нет, хватит, – без Весны я не могу!»
И мне сказала Катя:
«Что ж, хватит так хватит», –
И в ту же ночь мы с ней ушли в тайгу.
[там же: 32–33]
Первая, четвертая и шестая строки актуализируют репродуктивно-повествовательный регистр, так как в них дана последовательность действий. Реплика лирического героя «Уходим?» представ- ляет собой волюнтивный регистр: она выражает конкретное желание, намерение. Реплика Кати «Не надо!» относится к реактивному регистру, поскольку это негативная реакция на предложение уйти. Следующая реплика лирического героя «Нет, хватит, – без Весны я не могу!» совмещает в себе реактивный и информативный регистры: это и негативная реакция на реплику Кати, и заявление о том, что этот персонаж больше не может находиться в заключении. Следовательно, это контактная форма двух регистров. Последняя реплика героини «Что ж, хватит так хватит» является реакцией на данное заявление и поэтому относится к реактивному регистру.
Сюжет, диалоги, а также отдельные реплики персонажей играют важную роль и в стихотворении «Рецидивист» (1963) [Высоцкий 1991: 50–51]:
Это был воскресный день – и я не лазил по карманам: В воскресенье – отдыхать, – вот мой девиз.
Вдруг – свисток, меня хватают, обзывают хулиганом, А один узнал – кричит: «Рецидивист!»
[там же: 50]
В первой строке дано описание ситуации – это репродуктивно-описательный регистр: Это был воскресный день – и я не лазил по карманам . Во второй строке лирический герой сообщает о характерном для него правиле поведения, но поскольку оно индивидуально, а не предназначено для всех, правильнее считать это информативным регистром, а не генеритивным: В воскресенье – отдыхать, – вот мой девиз . Следующая строка передает смену действий, поэтому она актуализирует репродуктивно-повествовательный регистр. Динамика этих действий передается с помощью глаголов настоящего времени НСВ: Вдруг – свисток, меня хватают, обзывают хулиганом . Фраза А один узнал – кричит актуализирует репродуктивно-повествовательный регистр. Реплику одного из милиционеров «Рецидивист!» можно трактовать, с одной стороны, как информативный регистр (человек выражает свое мнение о лирическом герое), а с другой стороны, как реактивный регистр (реплика представляет собой реакцию на ситуацию и выражает негативную оценку).
«Брось, товарищ, не ершись,
Моя фамилия – Сергеев, –
Ну а кто рецидивист –
Ведь я ж понятья не имею».
[там же]
Представленная реплика лирического героя является реакцией на арест, о котором говорится в предыдущей строфе. Здесь сочетается несколько регистров: реактивный, волюнтивный и информативный. Реактивный регистр относится ко всей строфе в целом, волюнтивный регистр – к фразе Брось, товарищ, не ершись, а остальные строки актуализируют информативный регистр.
Приведем диалог между лирическим героем и милиционером:
«Сколько раз судились вы?»
«Плохо я считать умею!»
«Но все же вы – рецидивист?»
«Да нет, товарищ, я – Сергеев».
[там же]
Эта строфа представляет собой обмен репликами, где нечетные строки актуализируют во-люнтивный регистр, а четные – реактивный, поскольку они выражают иронию лирического героя по отношению к вопросам, которые ему задают. Четвёртую строку можно трактовать также как сочетание реактивного и информативного регистров, так как персонаж не только реагирует на вопрос, но и сообщает о себе некоторую информацию.
У Высоцкого есть также стихи, полностью состоящие из обмена репликами, как, например, «Большой Каретный» (1962) [там же: 38–39] и «Эй, шофер, вези – Бутырский хутор…» (1963) [там же: 48] (которое представляет собой диалог между бывшим заключенным и шофером):
– Эй, шофер, вези – Бутырский хутор,
Где тюрьма, – да поскорее мчи!
– Ты, товарищ, опоздал, ты на два года перепутал –
Разбирают уж тюрьму на кирпичи [там же].
Первые две строки актуализируют волюн-тивный регистр. Слова Ты, товарищ, опоздал, / ты на два года перепутал – / Разбирают уж тюрьму на кирпичи представляют собой ответную реплику, в которой содержится и фактическая информация, и оценочная реакция – ирония, насмешка. Именно поэтому данная реплика совмещает в себе информативный и реактивный регистры.
В. Высоцкий обладал потрясающей способностью вовлекать слушателя (или читателя) в диалог. В этом можно убедиться на примере стихотворения «Большой Каретный», которое фактически представляет собой разговор и лирического героя со всеми, кто когда-то жил в этом переулке, и с самим собой. В этом убеждает и то, как Высоцкий исполняет это стихотворение под музыку вместе с хором, выкрикивающим некоторые реплики. Сначала припев он поет один, сам отвечая на собственные вопросы. Потом он задает вопросы, а хор отвечает. После этого хор задает вопросы, а отвечает Высоцкий.
Где твои семнадцать лет?
На Большом Каретном.
Где твои семнадцать бед?
На Большом Каретном.
Где твой чёрный пистолет?
На Большом Каретном.
А где тебя сегодня нет?
На Большом Каретном.
[Высоцкий 1991: 38–39]
Известно, что поэт жил в Большом Каретном переулке с отцом и мачехой (в 1956 г. переулок переименовали в улицу Ермоловой, а в 1993 г. ему вернули прежнее название). Как утверждают А. Е. Крылов и А. В. Кулагин, «Большой Каретный был для поэта символом дружбы и начала творческого пути» [Крылов, Кулагин 2009: 44]. Очевидно, что эти вопросы лирический герой адресует и самому себе, а также то, что он в данном произведении максимально близок автору, совпадает с ним (а это значит, что слова ты и твой следует понимать не только в прямом значении, но и как я и мой ).
Из всего вышесказанного следует, что в данном случае справедливы две трактовки. Первая: все нечетные строки – это вопросы, обращенные ко всем, кто когда-либо жил «на Большом Каретном» (волюнтивный регистр), все четные – их ответы (реактивный регистр в сочетании с информативным). Вторая: все нечетные строки – это вопросы, которые лирический герой задает самому себе, погружаясь в воспоминания (во-люнтивный регистр), а все четные строки – его же ответы на эти вопросы (реактивный регистр в сочетании с информативным). В обоих случаях это чередование волюнтивного и реактивного регистров, но адресаты разные.
В следующем фрагменте сложно однозначно определить коммуникативный регистр:
Переименован он теперь,
Стало все по новой там, верь не верь.
И все же, где б ты ни был, где ты ни бредешь, Нет-нет да по Каретному пройдешь.
[там же: 38]
Первая и вторая строки представляют собой информативный регистр, так как это всего лишь констатация факта: Переименован он теперь , / Стало все по новой там, верь не верь . Что касается высказывания И все же, где б ты ни был, где ты ни бредешь, / Нет-нет да по Каретному пройдешь , возможны две трактовки: 1) эти слова относятся только к одному человеку – лирическому герою и актуализируют информативный регистр; 2) это обобщение, которое касается всех, кто когда-то жил «на Большом Каретном», и в таком случае это генеритивный регистр.
Анализ стихотворений В. Высоцкого с точки зрения коммуникативных регистров подтверждает тот факт, что сюжетность и диалогичность являются неотъемлемыми чертами его ранней поэзии. Для изложения того, что происходит по сюжету, используется репродуктивно-повествовательный регистр, а так как лирика сюжетная, именно этот регистр довольно часто встречается в стихотворениях у Высоцкого (при этом глаголы стоят в форме СВ). Нередко при этом автор прибегает к эллиптическим конструкциям, междометным глаголам и междометным фразеологизмам. Все эти средства делают повествование более динамичным. Кроме того, довольно часто употребляется репродуктивно-описательный регистр – в тех случаях, когда описывается та или иная ситуация, причем глаголы употреблены в форме НСВ. В связи с этим выделим такую особенность ранней лирики В. Высоцкого, как ки-нематографичность. Следует также отметить огромную роль диалогов в стихотворениях поэта. Именно поэтому в них широко используются волюнтивный и реактивный регистры. Иногда это диалоги между персонажами, иногда обращение лирического героя либо к читателям, либо к другому персонажу, ответные реплики которого в тексте не представлены. Диалоги необходимы автору для развития сюжета и для того, чтобы показать своих персонажей в коммуникативных актах.
Таким образом, коммуникативный подход к стихотворениям В. Высоцкого представляется целесообразным и весьма продуктивным, а эти тексты благодаря своей структуре – это богатый материал для коммуникативной грамматики.
Postgraduate Student in the Department of Russian Language
Saint Petersburg State University
Список литературы Коммуникативный подход к анализу поэтического текста (на примере ранней лирики В. Высоцкого)
- Владимир Высоцкий. Монологи со сцены/лит. запись О. Л. Терентьева. Харьков: Фолио; М.: Издательство АСТ, 2000. 208 с
- Войнова Л. А., Жуков В. П., Молотков А. И., Федоров А. И. Фразеологический словарь русского языка/под ред. А. И. Молоткова. Изд. 2-е, стереотип. М.: Сов. энцикл., 1968. 543 с
- Высоцкий: время, наследие, судьба/под ред. С. Л. Яценко. Киев (без вых. данных). Особ. вып. 8 с
- Высоцкий В. С. Сочинения: в 2 т. М., 1991. Т. 1. 640 с
- Голякова Л. А. Ритм художественного произведения: коммуникативно-прагматический аспект//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2011. Вып. 3(15). С. 94-99
- Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. Изд. 6-е. М.: КомКнига, 2010. 368 с
- Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М., 2004. 544 с
- Корман Я. И. Владимир Высоцкий: ключ к подтексту. Изд. 2-е, испр. и доп. Ростов н/Д: Феникс, 2006. 381 с
- Крылов А. Е., Кулагин А. В. Высоцкий как энциклопедия советской жизни. Комментарий к песням поэта. М.: Булат, 2010. 384 с
- Кузьмина Т. В. Формы имплицитного (синтаксического) выражения времени в поэзии Б. А. Ахмадулиной//Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2014. Вып. 3(27). С. 113-120
- Новиков В. И. Высоцкий. М.: Молодая гвардия, 2006. 412 с
- Мартьянова И. А. Киновек русского текста: парадокс литературной кинематографичности. СПб., САГА, 2002. 236 с
- Подобрий А. В. Преемственность -традиция -диалог -новаторство (к вопросу о литературной эволюции)//Мировая литература в контексте культуры. 2013. Вып. 2(8). С. 139-144
- Рощина А. А. Автор и его персонажи. Проблема соотношения ролевого и лирического героев в поэзии В. Высоцкого//Мир Высоцкого: Исследования и материалы/сост. А. Е. Крылов и В. Ф. Щербакова. М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 1998. С. 122-135
- Шумкина И. В., Некрасов И. А. Окуджава и Высоцкий в русской речи. Опыт сравнительного анализа//Голос надежды: новое о Булате: сб. Вып. 5. М.: Булат, 2008. С. 464-484