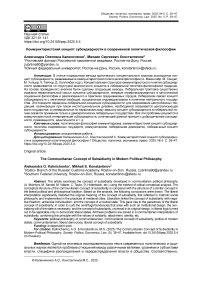Коммунитаристский концепт субсидиарности в современной политической философии
Автор: Калиниченко А.О., Константинов М.С.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 5, 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье посредством метода критического концептуального анализа исследуется концепт субсидиарности, развиваемый в коммунитаристской политической философии (А. Макинтайр, М. Сэндел, М. Уолцер, Ч. Тейлор, Д. Холленбах и др.). Концептуальная структура коммунитаристского понятия субсидиарности сравнивается со структурой аналогичного концепта в либеральной политико-философской традиции. На основе проведенного анализа были сделаны следующие выводы. Либеральная трактовка существенно исказила первоначальный смысл концепта субсидиарности, впервые отрефлексированного в католической социальной философии и реализованного в практиках средневековых городов. Либерализм связал концепт субсидиарности с негативной свободой, асоциальным индивидуализмом и понятием нейтрального государства. Это породило парадоксы либеральной концепции субсидиарности: для сдерживания центробежных тенденций, возникающих при таком институциональном дизайне, необходимой оказывается централизующая воля государства, а универсальный по первоначальному замыслу концепт субсидиарности в либеральной логике оказался применим только в демократических либеральных государствах. Все эти проблемы решаются в коммунитаристской интерпретации субсидиарности, сочетающей данный принцип с добродетелями солидарности, привязанности, идентичности и т. д.
Политическая философия коммунитаризма, коммунитаристский концепт субсидиарности, политика современных государств, коммунитаризм, либеральная демократия, либеральный концепт субсидиарности
Короткий адрес: https://sciup.org/149147916
IDR: 149147916 | УДК: 321.01:141 | DOI: 10.24158/pep.2025.5.4
Текст научной статьи Коммунитаристский концепт субсидиарности в современной политической философии
одним из самых востребованных в категориальном аппарате социальных наук концептов до сих пор остается концепт субсидиарности, раскрывающий специфику отношений между различными уровнями власти, а также способы решения возникающих социальных проблем в контексте терминологического противопоставления «субсидиарной» (вспомогательной) и «субординарной» (подчинительной) ролей различных властных институтов. Если посмотреть на количество публикаций, посвященных данной теме (Артеев, 2022; Ирхин, 2020а; 2020б; 2021; Калиниченко, 2021; Пименова, 2015; 2017; 2019; и др.), то можно сделать однозначный вывод: возникнув еще в практиках средневековых европейских городов, получив концептуальное оформление и рефлексию в христианском учении Римско-католической церкви (Харитонова, 2013) и найдя свое современное воплощение в политической практике Европейского союза, принцип субсидиарности до сих пор сохраняет свою высокую практическую значимость, а его изучение – научную актуальность. Целью данного исследования является экспликация специфической трактовки концепта субсидиарности из политической философии коммунитаризма. В процессе исследования применялись методы критического концептуального и контент-анализа основных работ ведущих представителей коммунитаристской политической философии: А. Макинтайра, М. Сэндела, М. Уолцера, Ч. Тейлора, Д. Холленбаха и др.
Концепт субсидиарности: история и либеральные контексты . При анализе научной литературы, посвященной феномену субсидиарности, нельзя не обратить внимание на примечательный факт: все исследования субсидиарных отношений между уровнями власти проводятся в контексте либеральных политических установок и ценностей, даже если это открыто не декларируется. В частности, один из ведущих российских специалистов по теме субсидиарности О.И. Пименова справедливо указывает, что «субсидиарность поддерживает основную идею либерализма: свободы так много, как возможно; ограничение свободы настолько, насколько необходимо» (Пименова, 2015: 14). И добавляет к этому крайне важную мысль: «Такой подход является ключевым в понимании того, что в основе идеи субсидиарности находится мысль о преимущественных правах отдельного человека перед правами общества или государства» (Пименова, 2015: 14). То есть такая интерпретация принципа субсидиарности оказывается однозначно связана с либеральными идеологическими контекстами: максимальной свободой, относимой к отдельному индивиду, а не группам, сообществам, классам и т. д.
И хотя при этом каждый раз отмечается, что сам термин «субсидиарность» возникает в учении Римско-католической церкви и до сих пор существует в рамках «христианского (католического) подхода» (Пименова, 2015: 14), данный принцип и в этом контексте интерпретируется в либеральной традиции под названием «католический либерализм» (Харитонова, 2013: 82). Подобная интерпретация не вызывала бы особых возражений, если бы не наблюдаемые в последние годы изменения в политике современных государств, все больше акцентирующей важность стабильности политических институтов и неприкосновенности государственного суверенитета, даже если в результате под вопросом оказываются некоторые из традиционных либеральных ценностей, прежде всего автономия индивида, которая сегодня нередко воспринимается как «асоциальная свобода», то есть представление о свободе как о «праве человека употреблять свои способности без учета чьих бы то ни было желаний или интересов, кроме своих собственных…, не совместимом ни с каким общественным контролем» (Хобхаус, 2000: 118).
Кризис либеральной парадигмы в социальных науках . Проблема, о которой пишет Л.Т. Хобхаус в приведенной выше цитате, послужила источником и главной причиной для двух ключевых кризисов либеральной политической мысли, или двух «бунтов против либерализма». Первый, внутренний кризис либеральной политической идеологии привел к появлению в начале XX в. ее существенно модифицированной версии в виде «социального либерализма», основы которого закладывал, в числе прочих, и сам Л.Т. Хобхаус (Рубинштейн, Плискевич, 2016; Freeden, 1978). Второй кризис был порожден внешней критикой со стороны либертарианцев (Нозик, 2008) и коммунитаристов (Кашников, 2004; Константинов, 2013; Макинтайр, 2000; Сэндел, 2013; Этци-они, 2004; и др.). При этом манифестирующий себя сегодня со всей очевидностью «правый поворот» в политике современных государств, породив волну научной рефлексии и терминологической работы с целью учесть указанные изменения (см., например, одну из лучших попыток осмыслить специфику авторитарных режимов в их собственной, а не традиционно-либеральной логике: Мадьяр, Мадлович, 2022а; 2022б; и др.), до сих пор так и не стал основанием для переосмысления принципа субсидиарности. Данный принцип в российской науке и сегодня воспроизводит концептуальные контексты либеральной идеологии.
Исследователи неоднократно отмечали, что в результате доминирования в социальных (и особенно в политических) науках «либеральных импульсов» (Goldberg, 2004: 234) возникает «путаница в теориях и взглядах» в тех случаях, когда они применяются к незападным/недемо-кратическим политическим режимам и системам, и в частности, когда речь идет о странах постсоветского пространства: «Использование одних и тех же категорий для них и для западных стран неизбежно приводит к концептным “натяжкам” и порождает уйму скрытых допущений, многие из которых… просто не подходят для описания посткоммунистических стран. Кроме того, контекст, обусловленный языком, искажает эмпирический анализ и сбор данных» (Мадьяр, Мадло-вич, 2022а: 22). Следствием этого становится использование ярлыков, таких как «дефектные демократии», «провалы демократии», «крушение демократии» и т. д. (Меркель, Круассан, 2002а; 2002б; и др.), без серьезных попыток реально и во всей глубине понять структуру и институциональную специфику незападных политических режимов и систем.
Так, британский социолог российского происхождения А.В. Леденёва справедливо отмечает непонимание западными коллегами реалий стран постсоциалистического блока, а также неадекватность используемого в западной науке языка для описания сложностей трансформации этих стран: «Страны с переходной экономикой отказались от авторитарных диктатур, но так и не пришли к консолидированной демократии. Тезис о “конце парадигмы транзита” указывает на превалирование серых зон, в которых оказались переходные страны, а также на неспособность ученых описать эти режимы без отсылок к несуществующим полюсам авторитарно-демократической бинарной оппозиции. Главное затруднение можно сформулировать следующим образом: у политологов накопилась критическая масса примеров политического устройства, которые нельзя однозначно категоризировать. Все эти примеры попадают в серую зону, определяемую как “ни то, ни другое” либо “и то, и то”, что ставит под сомнение валидность самих бинарных оппозиций» (Леденёва, 2022: 11–12).
Все описанные выше теоретические размышления накладываются на наблюдаемый в последние годы процесс усиления авторитарных тенденций во многих странах мира, в том числе во вполне стабильных и консолидированных демократиях (от Польши и Венгрии в Восточной Европе до Турции при Р. Эрдогане или США при Д. Трампе). Таким образом, сегодня уже можно говорить о либеральной демократии не как о некоей «норме», к которой с разным успехом и с разной скоростью движутся все остальные «недемократические» политические режимы и системы, но, напротив, как об исключении, отклонении от нормы. А под нормальным состоянием государства исторически корректнее было бы понимать состояние авторитарного государства как «естественное состояние» любого государства вообще (Норт и др., 2011). Как показал Д. Норт с коллегами, наиболее типичным состоянием любого «естественного», то есть спонтанно возникающего государства, является «нормальная» автократия, динамика которой «представляет собой динамику господствующей коалиции, часто пересматриваемую и гибко реагирующую на меняющиеся обстоятельства» (Норт и др., 2011: 146). И такое государство «естественно, поскольку на протяжении почти всех последних десяти тысяч лет для общества, состоящего более чем из нескольких сотен человек, оно фактически стало единственной формой устройства, которое в состоянии обеспечивать материальный порядок и управлять насилием» (Норт и др., 2011: 83– 84). В таком концептуальном контексте страны постсоветского пространства представляются уже не «дефектными» или «неполноценными» демократиями, но вполне «естественными» государствами, оказавшимися в русле общемирового движения к этатизации политического пространства и усиления властно-управленческих вертикалей.
Соответственно, язык социальных наук также должен предполагать меньшую идеологизи-рованность, с одной стороны, и иметь бóльший эвристический потенциал – с другой. Прежде всего это относится к понятию «субсидиарность», реальные практики которого возникли еще до появления либерализма, но по мере все более глубокой проработки этого концепта в западной интеллектуальной традиции его интерпретация принимает все более либеральный оттенок, изначально не предполагавшийся в его содержании. Этот «либеральный импульс» в трактовке концепта субсидиарности имел результатом ложное впечатление о невозможности или, по крайней мере, некоторой проблематичности применения принципа субсидиарности в нелиберальных политических системах.
Однако если учесть, что концептуальные истоки осмысления реальных практик субсидиарности обнаруживаются еще в интеллектуальной традиции Римско-католической церкви, то придется признать, что либеральная рефлексия этих практик не является единственно возможной. Более того, она может существенно искажать исходный концептуальный посыл, закладывавшийся в концепт субсидиарности. И именно этот аспект сегодня пытается восстановить коммунитарист-ская политическая философия. В рамках коммунитаристской традиции осмысление принципа субсидиарности предполагает возвращение к практикам средневековых городов, с одной стороны, и к томистской концептуальной традиции, связывающей моральные добродетели с политическими и социальными институтами, а через них – с сообществом, с другой стороны (Макинтайр, 2000; Сэн-дел, 2013; New Communitarian Thinking…, 1995; Taylor, 1989; Walzer, 1983; и др.). Подобная интерпретация, во-первых, позволяет избежать излишней идеологизации термина «субсидиарность», акцентируя его инструментальные и технологические аспекты, а во-вторых, универсализирует сам принцип субсидиарности, расширяя его применимость и на недемократические/нелиберальные политические режимы и системы. Тем самым решается задача, которая сегодня стоит особенно остро перед незападной социальной наукой: преодолеть ограничения «языка либеральных демократий», имплицитно подразумевающего «структуру и логику государств западного типа» (Мадьяр, Мадлович, 2022а: 19).
Концептуализация принципа субсидиарности в политической философии коммунитаризма . Несмотря на тот факт, что коммунитаризм как политическая философия и теория возникает в 80-х гг. XX в. в США и Канаде, откуда проникает в страны Европы, в отечественной политической мысли рецепция коммунитаризма не завершена до сих пор. В российской науке имеется целый ряд высококачественных работ, посвященных теме коммунитаризма (Алексеева, 2001; Кашников, 2004; Макаренко, 2000; Поцелуев и др., 2017; и др.). Предпринимались даже попытки сочетания коммунитаристских идей с российскими политическими проектами (Мямлин, 2011). Но как было сказано выше, последовательное освоение идей и практик коммунитаристской политической философии в России все еще продолжается. Хотя стоит отметить, что коммунитарная рефлексия впервые появилась именно в российской политической мысли. Термин «коммюнотарность» использовал российский философ Н.А. Бердяев, который понимал под ним «общинность» и «соборность» русского народа и связывал его с персоналистской философией (Бердяев, 1995: 25).
Современный же коммунитаризм как политико-философское движение, по замечанию Т.А. Алексеевой, направлен прежде всего на «восстановление гражданских ценностей и коллективизма» (Алексеева, 2000: 181) и «объединяет группу философов, теоретиков политики и социологов, а также общественность, озабоченную упадком морали и недовольную проводимой политикой» (Алексеева, 2001: 202). Однако еще более важно то, что идеалами коммунитаризма являются «различные аспекты братства как состояния общества и социального идеала» (Макаренко, 2000: 259), из этого следует, что «коммунитаризм видит смысл общества в моральных ценностях и общине, противопоставляя их государственности» (Алексеева, 2001: 202).
Здесь сразу следует обратить внимание на несколько моментов. Прежде всего, ни в российской, ни тем более в западной традициях коммунитаризм не связан с коллективизмом. В частности, Н.А. Бердяев, подчеркивая персоналистские контексты «коммюнотарности», специально оговаривался: «Слово “коллективизм” должно быть совершенно исключено; …оно лишь карикатура на коммюнотарность. Коммюнотарность всегда свободна, коллективизм всегда принудителен» (Бердяев, 1995: 321). Также он признавал, что термин «коммюнотарность» очень схож с понятием «коммунизм», однако именно коллективизм, который оказался однозначно связан с коммунизмом, вызывает у него отторжение: «Если бы не превращение коммунизма в предельный коллективизм, не оставляющий места ни для каких индивидуализаций, то я бы предпочел слово “коммунизм”, я бы защищал религиозный и аристократический… коммунизм» (Бердяев, 1995: 309–310). Как справедливо отмечал Н.А. Бердяев, «осуществление справедливости предполагает и принудительные социальные акты, но братская общность людей, коммюнотарность создается из свободы, из глубинных молекулярных процессов» (Бердяев, 1995: 132). Нельзя обнаружить коллективистские устремления и в западном коммунитаризме, который разошелся с либерализмом не столько в целях, сколько в некоторых средствах, а также в конкретных интерпретациях связи личности, сообщества (community) и общества (society) (Тейлор, 1998). В частности, нельзя не заметить концептуальные параллели между либеральной самокритикой начала XX в. и критикой коммунитаристов в конце XX в.: приведенным выше словам Л.Т. Хобхауса буквально вторят коммунитаристы сегодняшнего дня. Из сказанного следует, что связь коммунитаризма с коллективизмом, о которой писали некоторые отечественные авторы, как минимум сомнительна.
Основное расхождение между коммунитаристами и либералами касается трактовки пяти ключевых тем, характерных для либеральной политической философии: автономной человеческой личности, асоциального индивидуализма, универсализма, ценностного субъективизма и антиперфекционизма (концепции нейтрального государства) (Mulhall, Swift, 1996; Константинов, 2013). При этом крайне любопытно, что из подобных установок исходил и отечественный «ком-мюнотаризм» Н.А. Бердяева, который противопоставлялся не только коммунистическому коллективизму, но и либеральному индивидуализму: «Персонализм имеет тенденцию коммюнотарную, хочет установить братские отношения между людьми. Индивидуализм же в социальной жизни устанавливает волчьи отношения между людьми» (Бердяев, 1995: 82). Каждому из перечисленных либеральных концептов в коммунитаризме были предложены альтернативы: автономной человеческой личности и асоциальному индивидуализму – концепция нарративного единства человеческой личности, включенной в «комьюнити» различных уровней; либеральному универсализму – концепция культурной обусловленности политических ценностей; моральному субъективизму – концепция аристотелевской добродетели и ценностный контекстуализм; идее нейтрального государства – концепция активного и позитивного государства (Макинтайр, 2000; Сэндел, 2013; Sandel, 1998; Taylor, 1989; Walzer, 1983; и др.).
Но еще более важен для нашего исследования тот факт, что радикальные изменения произошли и в коммунитаристской трактовке термина «субсидиарность», и именно эти изменения полностью оказались вне поля рассмотрения российской политической и правовой науки. Так, в некоторых отечественных изданиях мимоходом упоминается «идея субсидиарности», которая «важна для коммунитаристов» (Давыдов, 2015), но детального анализа этот тезис не получает, оставаясь на уровне упоминания «кроме того» и «в числе прочих». В то время как сами коммунитаристы не только считают концепт субсидиарности одним из ключевых решений проблем либерализма, порожденных концептами «нейтрального государства» и «асоциального индивидуализма» (Etzioni, 1995: 8–9; Hollenbach, 1995: 150; Константинов, 2013: 242), но и выделяют «особый тип субсидиарности» – коммунитаристской, – существенно отличающейся от понятия субсидиарности в либеральной политической теории (Этциони, 2004: 256–258).
И хотя общей целью использования данного концепта субсидиарности действительно является «гармонизация уровней управления и распределения властных полномочий таким образом, чтобы вопросы, могущие быть решенными на низшем уровне, не решались на высшем уровне» (Давыдов, 2015), тем не менее ключевым здесь будет не столько связь с управлением (иначе неясно, чем тогда коммунитаристский концепт субсидиарности отличается от либерального), сколько сочетание концепта субсидиарности с концептами солидарности, а также другими коммунитарист-скими концептами (Hollenbach, 1995: 150). При этом не менее важно, что коммунитаристский проект субсидиарности (в отличие от либерального) не вступает в конфликт с сильными институтами централизованного государства, он призван дополнить их посредством делегирования части полномочий сообществам (комьюнити), а также за счет сочетания различных форм солидарности и лояльности. Так, один из теоретиков коммунитаризма Амитай Этциони прямо указывает, что комму-нитаристская идея субсидиарности никак не конфликтует с ключевыми прерогативами верховной централизованной власти (контролем за силовыми структурами, правомочностью перераспределять средства и суверенитетом по целому ряду других вопросов – от национальной обороны до монетаристской политики), поскольку «контроль сообщества» по перечисленным вопросам «необязателен» (Этциони, 2004: 256).
Но еще более интересен тот факт, что коммунитаристы, собственно, ничего нового в данном аспекте не предлагают, они лишь развивают тот самый первоначальный смысл понятия «субсидиарность», который был заложен еще в аристотелевской этике добродетели, практиках средневековых городов, а также в католической политической философии. Таким образом, как и в случае моральной философии, в коммунитаристской теории субсидиарности речь идет не о некой радикальной идее абстрактного будущего, а о восстановлении тех институтов и практик, которые доказали свою действенность в прошлом, то есть о «революции наоборот» в том самом первоначальном смысле термина « ре -волюция», означающего не прогрессистско-либеральное или прогрессистко-большевистское (в данном контексте разница между ними невелика) движение вперед, «к светлому будущему», но возвращение назад, ре -ставрацию того состояния, которое было утрачено в результате или неосмотрительных действий правительств, или же просто в силу деградации тех или иных институтов (Токвиль, 1997) – к тем временам, «когда всё было так, как должно быть» (Арендт, 2011: 53–55). Именно в этом смысле Тони Барнс называет «революционным аристотелизмом» (Burns, 2011) проект Аласдера Макинтайра по восстановлению аристотелевской этики добродетелей. Соответственно, стремление коммунитаристов возродить первоначальные смыслы католического понятия субсидиарности ничуть не выбивается из общего коммунитаристского направления.
В частности, католический теолог и философ-моралист профессор Дэвид Холленбах прямо указывает на этот момент: наиболее распространенная в современном мире все большего отчуждения друг от друга и замыкания в частной сфере индивидуалистическая интерпретация природы человека, характерная для американской культуры, «сегодня должна быть преобразована более общинными (communal) и солидаристскими чувствами» (Hollenbach, 1995: 143). При этом особенно подчеркивается, что искажения в восприятии природы человека возникли относительно недавно, в процессе либеральной «борьбы с политической властью старых монархий, а также с экономической властью аристократии. Защита индивидуальных прав и свобод была, без сомнения, своего рода освободительным движением» (Hollenbach, 1995: 144). Хотя Д. Холленбах призывает к политическим и социальным изменениям, которые могли бы подорвать некоторые из наиболее фундаментальных оснований либерализма, он избегает искушения представить либерализм как теорию, озабоченную только реализацией свободы автономных личностей. Д. Холленбах хорошо понимает, что либерализм был в неменьшей степени реакцией на специфический характер старых монархических режимов, чем теорией индивидуализма. Тем не менее стремление нынешних либералов «приватизировать» теории блага, связанное с их опасениями по поводу патерналистских или авторитарных политических тенденций в современных государствах, а также с серьезными разногласиями в отношении интерпретации самого блага, приводят к серьезным противоречиям внутри самой либеральной теории (Hollenbach, 1995: 150).
Нельзя также не заметить те изменения, которые произошли в западных обществах вообще, и в американском, в частности, под влиянием либеральной политической философии: нарастающее политическое отчуждение, экономическая фрагментация и поляризация, даже культурные войны, которые мы можем сегодня наблюдать. Все эти проблемы, по мнению коммунитаристов, есть следствие ухода граждан из общественной жизни, с одной стороны (Hollenbach, 1995: 152), и последовательного вытеснения их из политики, с другой стороны (Мэтьюз, 1995). Между строк можно заметить, что «эффект Трампа», который «сотряс» всю американскую жизнь сегодня, был вполне ожидаем в качестве реакции граждан на планомерное снижение их политического участия в современных демократических странах. Как отмечает Д. Холленбах, парадоксом здесь является тот факт, что, несмотря на усилия современных крупных структурных образований (государств, рынков, медиа и т. д.), направленные на консолидацию обществ, в силу неверного понимания человеческой природы, а также обусловленной этим пониманием институциональной организации взаимодействия людей, в современных обществах растет атомизация и отчуждение. И если граждане не предпримут каких-либо усилий по культивированию общественных отношений, основанных на добродетели солидарности, «большие сферы социального сосуществования могут выйти из-под контроля человеческой свободы или… попасть под управление могущественных элит» (Hollenbach, 1995: 152).
В качестве решения этой проблемы Д. Холленбах предлагает идею гражданского общества, к ключевым институтам которого он относит церкви, университеты, благотворительные организации и средства массовой информации. Этот «третий путь», по его мнению, соответствует исходным базовым идеям католической традиции субсидиарности, которые были искажены либеральными теориями. И здесь обнаруживается ключевой момент, отличающий коммунитарист-ский концепт субсидиарности от либерального: дело в том, что субсидиарности как принципа разделения уровней и компетенций власти недостаточно. Граждане, как отмечает Д. Холленбах, не могут просто вернуться в свои «комьюнити». Концепт субсидиарности как технический (организационный) концепт начнет работать только в сочетании с гражданской добродетелью солидарности. Именно эту добродетель должны культивировать граждане, чтобы наполнить смыслом практики субсидиарности: «Принцип субсидиарности с его упором на важность местного, локального и частного должен быть дополнен более универсальным по своему охвату концептом солидарности. […] Лояльность небольшим сообществам [communities] со своими особыми традициями должна быть дополнена чувством общенационального и глобального общего блага и перспективой видения, сформированного не только партикуляристскими традициями, но и открытостью другим традициям и народам» (Hollenbach, 1995: 151). Это означает привлечение других «комьюнити» и добровольных организаций к созданию общей основы для решения общих проблем. Подобные коалиции могут «генерировать новые стандарты политической рациональности» (Hollenbach, 1995: 152) так же, как это уже произошло с гражданскими правами и защитой окружающей среды: именно сочетание субсидиарности с добродетелью солидарности может обеспечить новые основы для того типа «публичного разума», который Дж. Ролз считал предпосылкой достойного общества (Ролз, 1995; 1998).
Дэвид Холленбах отнюдь не одинок в своем стремлении заново переосмыслить концепт субсидиарности в коммунитаристской традиции. Несмотря на тот факт, что другие представители коммунитаризма нечасто используют данный концепт в своих работах (за исключением А. Этци-они, который посвятил «особому виду субсидиарности» целый параграф в одной из своих книг), содержательно практически все они так или иначе обсуждали эту проблему. М. Сэндел упоминает принцип субсидиарности в работе «Разочарование демократии: Америка в поисках общественной философии» (Sandel, 1996: 345) как способ «рассредоточения суверенитета» с целью предоставления большей культурной и политической автономии субнациональным сообществам (каталонцам, курдам, шотландцам и т. д.), с параллельным укреплением централизованных транснациональных структур. То же можно сказать и о Чарльзе Тейлоре, который также практически не использует термин «субсидиарность», лишь мимоходом упоминая его в одной из своих работ в качестве решения проблемы фрагментации современных обществ, порожденной «угасанием политической идентичности» и нарастающим чувством бессилия, которое, в свою очередь, возникает у деполитизированных средствами «масштабных, централизованных, бюрократических государств» граждан: «Что может помочь смягчить это ощущение, так это децентрализация власти, как это виделось А. де Токвилю. Таким образом, в целом передача полномочий или разделение власти, как в федеративной системе, особенно основанной на принципе субсидиарности, может быть полезным для расширения демократических полномочий. И это тем более верно, если единицы, которым делегирована власть, уже фигурируют в жизни своих членов в качестве комьюнити» (Taylor, 1991: 119).
Однако сам Ч. Тейлор понимает, что таким – во многом либеральным – образом интерпретированный принцип субсидиарности (как исключительно федералистский принцип) не только не решает проблему фрагментации, но может ее и усугубить в таких сегментированных обществах, как канадское, где чрезмерное многообразие не позволило централизовать федеративную систему по модели США: «Чего нам, похоже, не удалось сделать, так это создать общее понимание, которое могло бы скрепить эти региональные сообщества вместе, и поэтому мы сталкиваемся с перспективой другого рода потери власти, но не с той, которую мы переживаем, когда большое правительство кажется совершенно безразличным, а скорее с судьбой меньших обществ, живущих в тени крупных держав» (Taylor, 1991: 119). То есть и в этом случае либерального концепта субсидиарности оказывается недостаточно, он должен дополняться неким интегрирующим началом вроде добродетели солидарности, предложенной Д. Холленбахом. Действительно, Ч. Тейлор показывает, что либеральная интерпретация принципа субсидиарности в отсутствие единой национальной идентичности может порождать иной способ фрагментации обществ – сепаратизм. Создать же единую национальную идентичность для больших государств также оказывается крайне проблематичной задачей. Видимо, по этой причине Ч. Тейлор избегает употребления термина «субсидиарность», фактически отождествляя его с либеральной интеллектуальной традицией.
Однако это не означает его отказа от концепта субсидиарности вообще. В частности, как справедливо замечает Джеймс Хэфт (Heft, 1999: 44, 60), предлагаемый Ч. Тейлором принцип целостности содержательно связан с католическим (а не либеральным) принципом субсидиарности: «“Католический” означает универсальность через целостность, состоящую из взаимодополняемых, а не тождественных друг другу частей. […] Католическое единство предполагает различия, а не слияние частей в тождество» (Heft, 1999: 44). Этот принцип, по мысли Дж. Хэфта, помимо прочего, «явно связан с католическим принципом субсидиарности» (Heft, 1999: 60).
Этот пример лишний раз подчеркивает близость к католичеству – к исходному, еще не искаженному либеральной традицией смыслу – коммунитаристской интерпретации принципа субсидиарности.
Заключение . Подводя итог проведенному анализу коммунитаристского концепта субсидиарности, следует отметить несколько ключевых идей этой интеллектуальной традиции, которая, с одной стороны, возвращает указанному концепту его первоначальный смысл, отрефлексированный в католической социальной философии, но, с другой стороны, распространяет действие этого концепта и на современные общества, включая не только малые города, практиковавшие отношения субсидиарности во времена Средневековья, но и национальные государства модерна и даже наднациональные межгосударственные образования и союзы (Этциони, 2004: 256–258). Это делает принцип субсидиарности по-настоящему универсальным, применимым к любому современному государству, а не только к либеральным демократиям. Более того, как показывают коммунитаристы, именно в либеральных демократиях принцип субсидиарности потенциально содержит в себе целый ряд опасностей (в частности, сепаратизм), если он не дополняется централизующей волей государства. И здесь проявляется парадокс либеральной теории, настаивающей на возможно большей свободе для самых низовых уровней взаимоотношений между государством и обществом, но при этом на практике предполагающей скрепление этой «разбегающейся вселенной» централизующей мощью государства. Коммунитаристы же не только предлагают более адекватное понимание человеческой природы, которое оказывается лучше совместимым с принципом субсидиарности, но и сочетают указанный принцип с добродетелями солидарности и идентичности, которые культивируются в комьюнити и нивелируют негативный потенциал практик субсидиарности.
В результате мы получаем не только более последовательную концептуальную проработку принципа субсидиарности, но и самый реалистичный в современных политических процессах институциональный механизм, позволяющий этот принцип реализовать на практике.