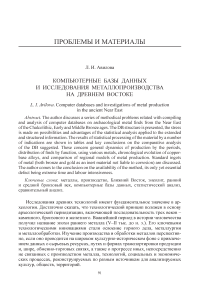Компьютерные базы данных и исследования металлопроизводства на Древнем Востоке
Автор: Авилова Л.И.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Рубрика: Проблемы и материалы
Статья в выпуске: 229, 2013 года.
Бесплатный доступ
Автор обсуждает ряд методических проблем, связанных с составлением и анализом компьютерных баз данных археологических находок металлов с Ближнего Востока хальколита, раннего и среднего бронзового века. Представлена структура БД, подчеркивается возможность и преимущества статистического анализа, применяемого к расширенной и структурированной информации. Результаты статистической обработки материала по ряду показаний показаны в таблицах, а основные выводы по сравнительному анализу предложенной БД. Они касаются общей динамики производства по периодам, распределения находок по функциям, использования различных металлов, хронологической эволюции сплавов на основе меди и сопоставления региональных моделей производства металлов. Обсуждается стандартный слиток металла (как бронза, так и золото как инертный материал, не подверженный коррозии). Автор приходит к выводу о доступности метода, его единственной, но существенной дефектностью является экстремальное время и трудоемкость.
Металлы, производство, ближний восток, энеолит, раннийи средний бронзовый век, компьютерные базы данных, статистический анализ, сравнительный анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/14328541
IDR: 14328541
Текст научной статьи Компьютерные базы данных и исследования металлопроизводства на Древнем Востоке
Исследования древних технологий имеют фундаментальное значение в археологии. Достаточно сказать, что технологический принцип положен в основу археологической периодизации, включающей последовательность трех веков – каменного, бронзового и железного. Важнейший период в истории человечества получил название эпохи раннего металла (V–II тыс. до н. э.). Его ключевыми технологическими инновациями стали освоение горного дела, металлургии и металлообработки. Изучение производства и обработки металлов перспективно, если оно проводится на широком культурно-историческом фоне с привлечением данных о сырьевых ресурсах, путях и формах транспортировки продукции и, шире, обменно-торговых связях, а также о прогрессе иных, непосредственно не связанных с производством металла, технологий, социальных и экономических процессах, реконструируемых по разным источникам для анализируемых культур, обществ, территорий.
Достижения эпохи раннего металла (ЭРМ) не ограничивались внедрением металлических изделий: в это время происходят фундаментальные изменения в различных областях производства и социальной организации, мировоззрении человека. Укажу на такие явления, как городская революция, становление цивилизаций и формирование ранних государств, интенсификация взаимодействия человеческих коллективов, передача культурных и производственных достижений. Использование металла привело к появлению новых отраслей хозяйства, что имело сильнейшее влияние на темп и направление социально-экономического развития общества. Прогресс металлопроизводства был важным фактором в сложении международного разделения труда и развитии систем товарообмена, в том числе обмена на далекие расстояния. В этот же период начинает активно проявляться такой постоянный фактор исторического процесса, как неравномерность в развитии человеческих обществ, ускоренное развитие одних регионов и отставание других. Таким образом, выводы, полученные при исследовании металлопроизводства, важны для понимания широкого спектра историко-культурных и социально-экономических проблем, а также ряда так или иначе связанных с ними аспектов духовной жизни древних обществ, в данном случае – Ближневосточного региона.
В последние десятилетия в нашей стране и за рубежом интенсивно развиваются историко-металлургические исследования – перспективное направление в изучении древних производств. Применение естественнонаучных методов исследования, в частности компьютерной техники для обработки массового материала (изделий из металлов и негативов на литейных формах, серийных спектроаналитических данных), а также изучение древней технологии производства металлических изделий методами структурного анализа, открывают широкие перспективы для создания новых обобщений и концепций развития древнего производства металлов.
Важную роль в исследовании проблем древнего металлопроизводства сыграла формулировка концепции металлургических провинций (МП). Обоснование существования систем, в значительной мере определявших культурное, производственное и социальное развитие древних обществ, стало крупным достижением отечественной археологической науки. Концепция была сформулирована Е. Н. Черных в начале 1970-х гг. в ходе дискуссии о моно- или полицентричности становления древней металлургии Старого Света ( Chernykh , 1971). МП включали в себя производственные очаги различного типа с характерным набором производственных приемов и типов изделий; в рамках провинций развивалась технология горного дела, металлургии и металлообработки, вырабатывались технологические стандарты производства и морфологии продукции. Эти характеристики производства выявляются на базе анализа морфолого-функциональных признаков металлических орудий и оружия, рецептуры сплавов, технологии металлообработки. В меньшей степени родственные признаки производства проявлялись в морфологии металлических украшений и культовых предметов. Важнейшей производственной системой была Циркумпонтийская металлургическая провинция (ЦМП), существовавшая в раннем и среднем периодах бронзового века на широкой территории от Балкан, степной и лесостепной зон Восточной Европы и Кавказа до Анатолии, Месопотамии и Западного Ирана ( Chernykh , 1992. P. 140–171).
Разработка тематики ЦМП начиналась с выделения категорий орудий и оружия с определенными морфологическими характеристиками, входивших в так называемый диагностический набор металлического инвентаря, распространенный на всей территории провинции. Это втульчатые топоры, двулезвийные ножи/кин-жалы, четырехгранные шилья с упором, долота с упором, плоские тесла.
В 1980-е гг. в лаборатории естественнонаучных методов ИА РАН было положено начало созданию компьютерной базы данных (БД) по металлическим изделиям и их негативам на литейных формах для всей территории ЦМП ( Авилова, Черных , 1989; Авилова, Антонова, Тенейшвили , 1999; Černyh et al. , 1991). За два десятилетия работы над масштабным коллективным проектом была создана генеральная БД по провинции, включающая свыше 85400 предметов ( Авилова, Орловская , 2001). Тогда же были разработаны методические основы работы с БД ( Черных и др. , 1996).
Вместе с тем различные территории ЦМП были изучены крайне неравномерно. Преимущественное внимание исследователей было обращено на северную зону провинции – скотоводческие по преимуществу культуры степной зоны и Кавказа. Что касается южных территорий, то здесь объектом исследовательского интереса был период первоначального появления и распространения металла, т. е. время, предшествующее формированию ЦМП. Возникла необходимость заполнить эту лакуну, показать характер и динамику металлопроизводства в культурах или обществах южной зоны ЦМП, как непосредственно входивших в нее, так и тесно к ней примыкающих.
В методическом аспекте представлялось полезным применить исследовательские методы, выработанные отечественными специалистами, к БД, в которых собраны и систематизированы материалы по металлическим изделиям из регионов, являющихся общепризнанной базой относительной и абсолютной хронологии для археологических культур Старого Света. Современный уровень знаний о производстве и использовании металла в древности, количество накопленного материала потребовали уже не регионального, а реинтеграционного подхода, создания единой картины возникновения и развития металлопроизвод-ства в обширном культурном ареале Ближнего Востока. В связи с этим автором данной статьи в течение длительного времени проводилась работа по созданию и анализу БД по древним металлическим изделиям четырех регионов Ближнего Востока: Анатолии, Месопотамии, Сиро-Палестины (Леванта) и Ирана ( Авилова, Черных , 1989; Černyh et al. , 1991; Černykh, Avilova , 1996; Авилова , 1996; Авилова, Антонова, Тенейшвили , 1999; Авилова , 2001; Авилова, Орловская , 2001; Chernykh, Avilova, Orlovskaya , 2002; Черных и др. , 2002; Авилова , 2004; 2008; 2009; 2011). Методические основы серии работ по металлу Ближнего Востока определялись конкретными исследовательскими задачами и теми принципами, которые были отработаны на материалах Циркумпонтийской зоны.
БД по Ближнему Востоку на сегодняшний день не имеют аналогов в мировой археологической науке по своему объему и информативности (Авилова, 2008. Табл. 2–49). Для сравнения можно указать на хронологически и территориально широкую сводку Ж. Дезейе по металлическим орудиям (Deshayes, 1960); работы, посвященные классификации тех или иных категорий металлических изделий (Stronach, 1957; Maxwell-Hyslop, 1946; 1949; 1953; 1974), а также фунда- ментальную серию Prahistorische Bronzefunde под редакцией М. Мюллер-Карпе (Erkanal, 1977; Müller-Karpe, 1993; Pernicka, 1993), периодическое издание Германского Музея горного дела в Бохуме Der Anschnitt (особенно интересны выпуски: Old World archaeometallurgy, 1989; The Beginnings of Metallurgy, 1999; Anatolian metal I, 2000; Anatolian metal II, 2002).
Эти работы чрезвычайно полезны, но объем опубликованного в них материала несопоставим с нашими БД. Кроме того, компьютерные БД полностью удовлетворяют требованиям проведения статистического анализа материала по определенному набору признаков, а также сравнительного анализа полученных данных по единой методике, и являются основой комплексных историко-металлургических исследований. В данном случае речь идет о применении методов создания и анализа БД в изучении металлических находок из четырех крупных исторических регионов Ближнего Востока (Анатолия, Месопотамия, Сиро-Па-лестина / Левант, Иран), относящихся к трем протяженным хронологическим периодам - энеолиту (медный век - МВ), раннему (РБВ) и среднему (СБВ) периодам бронзового века. Такой подход обусловлен исследовательской стратегией, в соответствии с которой специфические особенности каждого региона рассматриваются на фоне объективного историко-культурного феномена, связанного со сложением и развитием древних цивилизаций ближневосточного типа.
Трудоемкий и длительный процесс сбора возможно более обширного материала стал необходимым условием для обоснования выводов, полученных в результате его обработки. Необходимость сбора и использования по возможности наибольшего числа данных диктовалась тем соображением, что чем более обширный материал собран, систематизирован и проанализирован, тем более обоснованными будут полученные выводы и достоверными предложенные реконструкции. Этот аспект особенно важен, поскольку вся информация о металлических находках Ближнего Востока была почерпнута автором из публикаций, при этом следует учитывать, что многие работы устарели, а мнения ряда авторов по таким важным вопросам, как хронология памятников, направления культурного и социального развития, нередко расходятся. В этом случае представительные БД помогают уравновесить точки зрения и избежать серьезных погрешностей.
Статистический анализ БД позволяет получить достаточно точные количественные характеристики производственных процессов в определенном регионе в определенный хронологический период, на основании которого в едином методическом ключе проводится их сопоставление. На основе последовательно структурированного материала оказалось возможным провести детальный и точный анализ массива информации по любому из заложенных в описание признаков с последующим выходом на обобщающий уровень ( Авилова , 2004; 2008; 2009; 2011).
Основные характеристики БД
На настоящий момент общая БД по Ближнему Востоку содержит информацию о 60 696 находках из 147 памятников. Региональные БД различны по представительности: БД по Анатолии содержит сведения о 37 017 находках из 62 па- мятников, по Месопотамии – о 14 893 находках из 7 памятников, по Леванту – о 5500 находках из 65 памятников, по Ирану – о 3286 находках из 13 памятников. Численность коллекций по регионам и памятникам весьма неравномерна (так, из Трои учтена 32 371 находка, из Ура – 13 625, но есть и целый ряд памятников, откуда известно по одному-два предмета).
Сбор материала по Анатолии был проведен с наибольшей полнотой, т. к. количество опубликованных памятников здесь обозримо и работа над металлом Древнего Востока начиналась с этого региона, на нем отрабатывалась структура и способ анализа БД. Сборы по Леванту и Ирану были также нацелены на возможно более полный охват материала, но по этим регионам имеются определенные ограничения, связанные с доступностью публикаций, а также с небольшими масштабами раскопок, ведущихся в настоящее время в Иране. Ситуация с археологическими материалами из Месопотамии во многом иная, что диктовало особенности сборов. Число исследованных памятников в Двуречье весьма велико, и некоторые из них дают громадное количество находок из металла. Поэтому был избран иной путь – наметить несколько памятников, в совокупности дающих возможность достоверной характеристики материала: с большим количеством находок, достаточно полно опубликованных, с представительной стратиграфией и достоверными датировками, расположенных в различных географических зонах. Этим требованиям удовлетворяют шесть памятников: стратифицированное поселение и могильник Тепе Гавра на северо-востоке Месопотамии; недавно раскопанное поселение Хассек Хейюк на Среднем Евфрате с серией спектральных анализов металла; на юге – поселение и могильник Телло; поселение Фара; и два могильника – Ур, выделяющийся обилием и богатством металлического инвентаря, и Киш – кладбище с обычным для эпохи инвентарем.
К настоящему времени накоплен значительный материал по аналитическому изучению медно-бронзовых изделий и руд (Gale, Stos-Gale, Gilmore, 1985; Yakar, 1984; 1985; Pernicka et al., 1984; Pernicka, 1993; 1995; Die Metallindustrie... 2004). Ряд работ посвящен распространению бронз различного состава (Moorey, 1985; 1994; Frangipane, 1985; Stech, Pigott, 1986). На этом пути существуют трудности, связанные с применением аналитических методов. Во-первых, распределение примесей в массе изделия неоднородно; оно значительно варьирует на поверхности и в центре изделия, так же как и содержание примесей в рудных жилах (Palmieri, Sertok, Chernykh, 1993. P. 577). Свинцово-изотопных анализов, которые позволяют точно привязать изделие к месторождению (Gale, Stos-Gale, Gilmore, 1985), пока явно недостаточно. Кроме того, в древности, несомненно, происходила переплавка изделий, что вносит информационный «шум» в интерпретацию данных спектрального анализа. Тем не менее сопоставление массовых аналитических данных позволяет утверждать, что в РБВ (IV тыс. до н. э.) был достигнут достаточно высокий уровень металлопроизводства, включавшего овладение плавкой руд разных типов, в том числе полиметаллических с примесями мышьяка, свинца и никеля, иногда сурьмы; массовое производство мышьяковых бронз; выработку достаточно обширного репертуара изделий. Качественный и количественный расцвет производства приходится на СБВ, в целом совпадающий с III тыс. до н. э. Наши выводы хорошо согласуются с перио- дизаций древней металлургии и металлообработки, предложенной Г. Когланом (Coghlan, 1951. P. 28, 29). Исследователь выделяет четыре фазы развития ме-таллопроизводства. Фаза А связана с использованием самородной меди; фаза В характеризуется плавлением самородной меди и литьем в открытых формах; фаза С, связанная с открытием выплавки меди из руд, т. е. с реальной металлургией; и фаза D, на которой происходит переход к использованию собственно бронз – искусственных сплавов на медной основе.
Наступление бронзового века было ознаменовано кардинальными инновациями, прежде всего массовым применением первых искусственных сплавов меди с мышьяком. Они доминировали на широких территориях Западной и Центральной Азии, Причерноморской зоны Европы и Кавказа на протяжении РБВ и СБВ, и только в ПБВ были вытеснены оловянными бронзами. Легирование меди мышьяком придает ей ряд важных механических и технических свойств: снижает окисляемость, нейтрализует вредное действие примесей свинца и висмута на ее пластичность, повышает жидкотекучесть, усиливает упрочняющий эффект, повышая твердость до 177 кг/мм2 (медь - 130 кг/мм2) ( Равич, Рындина , 1984. С. 114, 115).
Важнейшей чертой металлопроизводства СБВ является распространение оловянных бронз, в том числе и тройных сплавов медь–олово–мышьяк. Их внедрение стало важным техническим достижением: оловянные бронзы отличаются высокими литейными качествами в сочетании с ковкостью. Оловянные бронзы обладали значительными преимуществами - они были прочнее и тверже, чем мышьяковые, поскольку их состав оставался неизменным в процессе обработки. Управление производственными процессами в применении к оловянным бронзам облегчалось тем, что состав сплава оставался неизменным при нагреве. Кроме того, эти бронзы не были токсичными (в отличие от мышьяковых сплавов) и имели красивый золотистый цвет. Выдвигается предположение, что эти свойства оловянных бронз стали основной причиной их широкого распространения в эпоху поздней бронзы (Там же. С. 121, 122). Технология производства изделий из оловянных бронз изучена в значительной мере благодаря экспериментальным исследованиям широкого спектра составов и приемов обработки изделий с получением эталонных образцов таких бронз ( Равич , 1983).
В ходе исследования металла Ближнего Востока была создана специальная БД по спектральному составу медно-бронзовых изделий; в нее входит 1672 анализа. Данные распределены по регионам следующим образом: Анатолия – 658 анализов, Иран – 518, Левант – 279, Месопотамия – 217.
Весь массив спектроаналитических данных может быть разделен на три группы: металлургически «чистая» медь, мышьяковая бронза (или, по терминологии западных исследователей, мышьяковая медь, содержащая концентрации мышьяка ниже 1 %), оловянная бронза.
Металлургически «чистая» медь имеет высокую температуру плавления (1100°С). Существенным недостатком этого материала является вязкость, в результате черновая медь всегда сильно загрязнена шлаками и требует интенсивной проковки для их удаления; кроме того, она сильно подвержена коррозии. Примесь мышьяка значительно улучшает свойства металла по сравнению с «чистой» медью – мышьяковая бронза обладает высокой текучестью, ковкостью и твердостью. Температура плавления такого сплава приблизительно на 400° ниже, чем у меди, что ведет к экономии топлива при плавке и позволяет использовать более простые конструкции плавильных печей. Высокие технологические характеристики мышьяковой бронзы определяются составом сплава. Оптимальная ковкость в сочетании с прочностью и твердостью достигается при концентрации мышьяка 4-5 %. Однако основная масса изделий, относящихся к раннему и среднему периодам бронзового века, содержит 1-2 % мышьяка. Это связано с его потерями при нагреве вследствие высокой летучести элемента, затруднявшей контроль над его содержанием в сплаве (Равич, Рындина, 1984. С. 114, 115). Древние мастера обладали достаточными эмпирическими знаниями, чтобы контролировать содержание мышьяка в сплаве. Доказательством тому является зависимость концентрации мышьяка от функции изделия: орудия и оружие содержат до 5 %, а украшения – до 20 % элемента (Черных, 1966. С. 43). Установлены и более частные зависимости между функциональным назначением изделия и составом использованного металла: так, в ходе исследования материалов из Египта IV–III тыс. до н. э. выяснилось, что высокие концентрации мышьяка гораздо чаще встречаются в режущих орудиях - ножах и кинжалах, тогда как орудия ударного действия (топоры, тесла) производили из сплава с низким содержанием элемента (Eaton, McKerrel, 1976. Р. 175).
По вопросу о том, какие концентрации легирующих элементов являются пороговыми, т. е., начиная с какого уровня концентрации того или иного элемента в плаве проявляются практически полезные свойства примесей мышьяка и олова, общепринятого мнения в литературе не существует. В западных публикациях считается, что для олова такой порог концентрации определяется величиной выше 5 %, а для мышьяка колеблется в пределах от 1 до 5 % (Ibid. P. 169, 170). В специальной геохимической литературе за границу искусственного легирования принимается концентрация элемента, равная 1 % (1 % считается породообразующей примесью, 0,1–0,9 % – примесью, ниже 0,1 % – микропримесью: Шоу , 1969).
Необходимо отметить, что безошибочно отличить в отдельном конкретном случае целенаправленно изготовленный искусственный сплав меди с мышьяком от природного практически невозможно, т. к. даже в самородной меди доля мышьяка может достигать 20 % (Maddin et al., 1980). Н. Гейл и соавторы считают, что не существует надежных доказательств того, что образцы «мышьяковой меди» с содержанием мышьяка от 2 до 7% являются искусственными бронзами (Gale, Stos-Gale, Gilmore, 1985. С. 145). В давнем споре исследователей об искусственной или естественной природе примеси мышьяка я опираюсь на мнение Е. Н. Черных; еще в 1960-х гг. на основе статистической обработки данных химического анализа массовых материалов с территории Восточной Европы он предложил критерии определения искусственного сплава меди с мышьяком. Для мышьяка границей, выше которой начинаются искусственные сплавы, по мнению Е. Н. Черных, является обычно 0,5 %. Образцы с более высоким содержанием элемента относятся к искусственным мышьяковым бронзам. При таком условии термин «мышьяковая медь» в целом соответствует мышьяковой бронзе в нашем понимании; благодаря этому при статистических подсчетах мы можем сопоставлять данные зарубежных исследователей с результатами отечественных лабораторий.
Анализ созданных автором специализированных БД по древним металлическим изделиям Ближнего Востока преследовал ряд целей: выявить и сформулировать основные особенности металлопроизводства в каждом из четырех изученных регионов; показать его динамику средствами сравнительного анализа; выяснить связь особенностей производства металла с природными ресурсами регионов; показать взаимодействие между различными регионами и хозяйственно-культурными типами в свете производства и обмена металлами и иными материалами; предложить модели развития металлопроизводства для каждого изученного региона. В соответствии с этими целями были поставлены исследовательские задачи, в которые входило изучение основных аспектов древнего производства и использования металлов:
-
1) распределение материалов по регионам и хронологическим периодам;
-
2) распределение находок по функциональным классам (орудия / оружие, украшения, сосуды, предметы культового назначения, полуфабрикаты, литейные формы);
-
3) доля различных металлов в производстве (медь/бронза, золото, серебро, свинец);
-
4) рецептура используемых сплавов на медной основе.
Структура БД
Весь собранный материал разделен на 9 классов в соответствии с функциональным назначением предметов. Это необходимо для корректного сравнения функционально разнородных металлических предметов. Класс 1 включает орудия труда и оружие (здесь не всегда возможно провести четкое разграничение, поэтому категории объединены в один класс), класс 2 – украшения и детали костюма, класс 3 - предметы конской упряжи, класс 4 - детали защитного доспеха, класс 5 - сосуды, класс 6 - предметы культового назначения и знаки социального статуса, класс 7 – полуфабрикаты (слитки), класс 8 – негативы изделий на литейных формах из камня или глины, класс 0 – изделия неопределенного назначения, обломки.
БД вначале создавались в системе FoxPro, впоследствии были преобразованы в системе Excel. Каждая запись состоит из 53 полей - признаков, используемых для описания одного изделия. В них содержится информация об археологическом памятнике, его названии, географическом положении, точных географических координатах, о типе памятника (поселение, могильник, клад, случайная находка); комплексе, из которого происходит конкретная находка (слой, жилище, погребение); категории и морфологии изделия, его датировке, материале изготовления (при наличии спектрального анализа приводятся концентрации 11 химических элементов: Sn, Pb, Zn, Bi, Ag, Sb, As, Fe, Ni, Co, Au); основных публикациях (Черных и др., 1996. С. 95-103). Кроме БД по металлическим находкам, создана также БД по литературе, где каждой публикации присвоен номер, ссылка на который помещается в основной БД (поля 20 и 22). Приведу полный список признаков БД по металлическим находкам.
1 – название памятника; 2 – регион; 3 – географическая широта в градусах; 4 – географическая широта в минутах; 5 – географическая долгота в градусах; 6 - географическая долгота в минутах; 7 - тип памятника; 8 - комплекс; 9 - категория находки; 10 – рабочий край (одно- или двулезвийный предмет); 11 – способ крепления (черенок, втулка); 12 - технология (литье, ковка); 13 - нали-чие/отсутствие орнамента; 14 – функциональный класс (номер класса с 1 по 0, см. выше); 15 - тип изделия (принципы выделения типов или конечных типологических разрядов описаны в работе: Авилова, Черных , 1989; используются также обозначения типов, выделенных другими авторами; так, например, для Царского некрополя Ура указываются типы по классификации Л. Вулли: Woolley , 1934); 16 - культурно-хронологическая атрибуция находки, указанная автором первичной публикации; 17 – хронологическая атрибуция в соответствии с применяемой автором историко-металлургической периодизацией; 18 – автор раскопок / публикации; 19 – музейный шифр; 20 – первичная публикация; 21 – ссылка на иллюстрацию в первичной публикации; 22 - дополнительная публикация; 23 - ссылка на иллюстрацию в дополнительной публикации; 24 - примечание, касающееся особенностей формы или орнамента; 25 - материал изготовления в общих терминах – медь/бронза, серебро и т. д.; 26 – химическая группа по составу примесей к меди; 27 – шифр спектрального анализа меди/бронзы; 28 - медь как основа сплава (для медно-бронзовых изделий); 29-39 - количественная концентрация химических элементов Sn, Pb, Zn, Bi, Ag, Sb, As, Fe, Ni, Co, Au с точностью до тысячных долей процента; 40 - примечание по химическому составу меди/бронзы при наличии особенностей; 41-53 - значение «истин-но»/«ложно» для концентрации 11 химических элементов (признаки 29–39).
При обработке значительного объема материала встают некоторые специфические вопросы методического характера. Во-первых, мы сталкиваемся с необходимостью обосновать количественные сопоставления разновеликих и не равноценных по материалу находок. Неизбежно встает вопрос: насколько правомерно считать все мелкие серийные изделия (бусины, подвески в составе ожерелий и т. п.) отдельными находками. На мой взгляд, выход можно найти в учете трудозатрат и соотношения ценности использованных материалов: каждая мелкая вещь изготовлялась индивидуально – отливалась или отковывалась мастером-профессионалом с последующей доработкой, с затратой определенной нормы труда. Нельзя не принимать во внимание и ценность сырья. Золото и серебро высоко ценились в древности, соотношение цены золота к меди в древней Вавилонии составляло приблизительно 1:1000, серебра к меди – 1:180 ( Янковская , 1986). Таким образом, небольшое украшение может быть приравнено по ценности к крупному бронзовому орудию. Поэтому украшения подсчитываются по возможности с точностью до одного экземпляра. В идеале следовало бы учитывать данные о массе/весе металлов применительно к разным функциональным классам, периодам или регионам. Но выполнить это пожелание почти невозможно, т. к. указание веса изделий в публикациях – редчайший случай. Чаще указывается вес редких находок – слитков металла. Примером могут служить 18 слитков серебра из Махматлара (Центральная Анатолия); вес одного слитка
4,630 кг, остальных – 400–500 г. Авторы публикации предполагают, что это клад ( Ko^ay, Akok , 1950). Известен клад из Суз, включавший 6 слитков бронзы весом от 1,5 до 3 кг ( Tallon , 1987. № 687–692).
Кроме того, вес медно-бронзовых изделий меняется в результате коррозии, поэтому более перспективна работа с химически инертным золотом. Древние слитки золота известны - при этом очень важно, что почти все они имеют стандартные вес и форму. Так, 8 слитков-колец из погребения Нахаль Кана в Иудее имеют вес 120 г ( Gopher et al. , 1990). Могильник относится к местному позднему энеолиту (культуры Гхассул-Беершева, синхронные Уруку). Это единственный случай находки стандартных слитков драгоценного металла для столь раннего времени. Более поздние слитки-заготовки в виде золотых стержней из кладов Трои II g весят 10 г, заготовки в виде проволочных колец - 9 г. В кладе А находились 6 слитков серебра, одинаковых по форме, но несколько отличающихся по размерам и весу: 172 г, 182,7 г и 273,8 г ( Авилова , 2008. С. 158–160). Весовые соотношения стандартных бронзовых изделий (колец) из Месопотамии исследовал Дж. Дейтон ( Dayton , 1974), однако привязать их вес к известным весовым мерам зерна ему не удалось. Можно предполагать использование не единичных колец, размер и вес которых заметно колебались, а их связок.
Приведу основные результаты статистического анализа БД (табл. 1А, Б, В).
Распределение материала по хронологической шкале показывает, что в МВ в трех регионах производство металла значительно менее 1 % массива, только в Иране этот показатель составляет 5 %. При переходе к РБВ динамика производства различна: в Леванте и Месопотамии наблюдается скачкообразный рост – в 100 и более раз. По-другому этот рубеж выглядит в Анатолии и Иране – рост в 5–6 раз.
Переход от РБВ к СБВ отмечен новым скачком количества находок: в Анатолии – почти в 100 раз, в Месопотамии – в 25 раз. В двух других регионах он не столь велик: в Леванте – в 7 раз, в Иране – всего в 2 раза. В целом наиболее ярко выраженной скачкообразной динамикой распространения металлических изделий отмечена Месопотамия, как при переходе от МВ к РБВ, так и от РБВ к СБВ. Наиболее плавный рост производства происходит в Иране.
Функциональные классы изделий. В МВ в наиболее многочисленной иранской коллекции преобладает класс орудий / оружия (71 %). В Анатолии, наоборот, больше половины материала составляют украшения. Учитывая минимальное число находок этого времени из Месопотамии и Леванта, обсуждать их распределение не имеет смысла.
В РБВ в трех регионах украшения преобладают над орудиями / оружием, наиболее четко это выражено в Иране и Месопотамии. Такое распределение сложилось за счет могильника Си Гирдан и некрополя Тепе Гавры. Эти черты – свидетельство связи иранской металлургии с месопотамской, а также с памятниками майкопской культуры на Северном Кавказе, где золотые и серебряные украшения исчисляются тысячами. Для Леванта характерна высокая доля предметов культово-религиозного назначения.
В СБВ распределение материала резко меняется. В Анатолии и Месопотамии подавляющее большинство находок относится к украшениям. Лишь в Иране преобладает класс орудий / оружия.
* В таблицах 1А, 1Б, 1В в скобках помещены проценты.
В СБВ во всех регионах наблюдается максимальное функциональное и морфологическое разнообразие репертуара: представлено от 7 до 9 функциональных классов изделий.
Соотношение металлов. В МВ во всех регионах распространены почти исключительно изделия из меди/бронзы, находки из других металлов единичны.
В РБВ различия между регионами значительны. Так, в Анатолии по-прежнему основу коллекции составляют находки из меди/бронзы. Иная ситуация в Месопотамии и Иране, где отмечается массовое применение драгоценных металлов с преобладанием золота. В Леванте основой коллекций является медь / бронза, а ведущим драгоценным металлом серебро.
В СБВ в трех регионах происходят сильнейшие сдвиги в применении металлов: в Анатолии доминирует золото. В Месопотамии имеет место дальнейший рост применения драгоценных металлов. В Иране картина иная - теперь большинство находок изготовлено из меди/бронзы.
В целом распространение драгоценных металлов демонстрирует четкую зависимость от массового производства украшений и типов памятников. В РБВ этот класс изделий концентрируется в могильниках, а в СБВ – в могильниках и кладах.
Рецептура сплавов на медной основе. Для МВ наиболее важно то, что в это раннее время металлургически «чистая» медь не была единственным материалом: около половины анализов из Анатолии и Ирана дают медно-мышьяковый сплав. О его естественном или искусственном характере судить сложно, однако правомерно предполагать сознательный выбор древними металлургами медных руд с природным легированием мышьяком.
РБВ характеризуется повсеместным доминированием медно-мышьяковых сплавов – первых искусственных бронз всей Циркумпонтийской зоны ( Равич, Рындина , 1984; Frangipane , 1985). Единичные изделия из оловянной бронзы (включая тройные сплавы медь-олово-мышьяк) стали свидетельством экспериментальных поисков новых сплавов.
В СБВ роль «чистой» меди снижается в Иране и Леванте и остается на низком уровне в Анатолии и Месопотамии. В трех регионах снижается и доля медно-мышьяковых сплавов, лишь в Иране они производятся в значительном объеме. Одновременно резко растет применение медно-оловянных сплавов, в Месопотамии они становятся ведущими.
Модели древнего металлопроизводства соотносятся с различными стадиями культурно-исторического и социально-экономического развития регионов. Выявляется ряд исторически значимых культурных стандартов, во многом определявших специфику развития ближневосточного общества на той или иной ступени исторического процесса, поскольку для исследуемой эпохи степень овладения металлом является синонимом степени овладения высокими технологиями, что определяло прогресс культуры.
Проведенное исследование позволило установить общие черты и особенности металлопроизводства в четырех регионах Ближнего Востока в энеолите, раннем и среднем бронзовом веке. Развитие регулярного производства металлических изделий начинается в энеолите на территории Ирана и, в меньших масштабах, в Анатолии.
Только начиная с эпохи ранней бронзы, т. е. с урукского периода, можно говорить о металлургии в подлинном смысле слова. Основой металлопроизводства на Ближнем Востоке в это время является мышьяковая бронза. Проведенный анализ продемонстрировал, что качественный скачок в развитии производства в РБВ в Месопотамии связан с процессами урбанизации и формирования ранних государств в эпоху Урука, которые устанавливали постоянные интенсивные обменные контакты с центрами добычи и обработки металлов на соседних территориях Ирана и Восточной Анатолии ( Algaze , 1989).
Сравнение четырех региональных моделей металлопроизводства в РБВ свидетельствует о вхождении Северной Месопотамии, Восточной Анатолии, Западного Ирана, в какой-то мере Сиро-Палестины в единую культурную зону. С другой стороны, выявляются особенности в развитии каждого из отмеченных регионов. Безусловно, проникновение металлов и металлургии в жизнь различных регионов Евразии происходило не одновременно, и очевидно, что в рудных районах количество обнаруженных металлических предметов больше и появляются они раньше, чем, в частности, на лессовых равнинах Двуречья, где рождалась первая цивилизация.
Два региона – Анатолия и Месопотамия – отмечены наибольшим сходством металлопроизводства. Это выраженная скачкообразная динамика производства и употребления металла. В Леванте скачкообразный процесс также достаточно очевиден. Иранской модели металлургии, наоборот, свойственны плавное развитие и консерватизм.
Среднебронзовый век стал вершиной в развитии металлопроизводства на Ближнем Востоке. Резко возрастает морфологическое разнообразие инвентаря, типы изделий представлены значительными сериями. Добыча драгоценных металлов достигает пика, фиксируется массовое изготовление украшений и символов власти. Широко распространена оловянная бронза. Эти изменения – свидетельство фундаментальных социальных и идеологических трансформаций. Отсутствие единой культурно-производственной зоны в СБВ, скорее всего, связано с формированием многочисленных раннегосударственных структур в III тыс. до н. э.
Таким образом, междисциплинарный подход к созданию и анализу БД обеспечивает получение сопоставимых количественных и качественных характеристик археологического материала (древних металлических изделий и негативов на литейных формах) по ряду сопряженных признаков. На основе единой методики был выполнен анализ огромной серии металлических изделий V–II тыс. до н. э. из четырех крупных областей Ближнего Востока (Месопотамии, Сиро-Палестины, Анатолии, Ирана) и предложена характеристика динамики производства металлов и особенностей их использования по трем хронологическим периодам – МВ, РБВ, СБВ – с точки зрения преобладающих категорий металлического инвентаря и его типичных наборов, употреблявшихся металлов и сплавов на медной основе, общего объема производства. В результате удалось охарактеризовать четыре региональные модели металлопроизводства внутри историко-культурной зоны Ближнего Востока. Анализ БД по древним металлическим изделиям дает основания выйти на содержательные общеисторические заключения. Единственным существенным недостатком этого метода исследования является его крайняя трудоемкость.
Список литературы Компьютерные базы данных и исследования металлопроизводства на Древнем Востоке
- Авилова Л. И., 1996. Металл Месопотамии в раннем и среднем бронзовом веке//ВДИ. № 4.
- Авилова Л. И., 2001. Древние бронзы Леванта//РА. № 1.
- Авилова Л. И., 2004. Древние бронзы Ирана: Энеолит -средний бронзовый век//КСИА. Вып. 216.
- Авилова Л. И., 2008. Металл Ближнего Востока: Модели производства в энеолите, раннем и среднем бронзовом веке. М.
- Авилова Л. И., 2009. Модели металлопроизводства на Ближнем Востоке (энеолит -средний бронзовый век)//Археология, этнография и антропология Евразии. № 3 (39).
- Авилова Л. И., 2011. Металл Ближнего Востока: Социально-экономические и культурные процессы. Saarbrücken.
- Авилова Л. И., Антонова Е. В., Тенейшвили Т. О., 1999. Металлургическое производство в Южной зоне Циркумпонтийской металлургической провинции в эпоху ранней бронзы//РА. № 1.
- Авилова Л. И., Орловская Л. Б., 2001. Историко-металлургические и радиоуглеродные базы данных по Циркумпонтийской металлургической провинции//КСИА. Вып. 211.
- Авилова Л. И., Черных Е. Н., 1989. Малая Азия в системе металлургических провинций//Естественнонаучные методы в археологии. М.
- Равич И. Г., 1983. Эталоны микроструктур оловянной бронзы//Художественное наследие. М. № 8 (38).
- Равич И. Г., Рындина Н. В., 1984. Изучение свойств и микроструктуры сплавов медь -мышьяк в связи с их использованием в древности//Художественное наследие. М. № 9 (39).
- Черных Е. Н., 1966. История древнейшей металлургии Восточной Европы. М.
- Черных Е. Н., Авилова Л. И., Барцева Т. Б., Луньков В. Ю., Орловская Л. Б., Тенейшвили Т. О., 1996. Компьютерные программы в историко-металлургических исследованиях лаборатории ИА РАН//Компьютеры в археологии. М.
- Черных Е. Н., Авилова Л. И., Орловская Л. Б., Кузьминых С. В., 2002. Металлургия в Циркумпонтийском ареале: от единства к распаду//РА. № 1.
- Шоу Д. М., 1969. Геохимия элементов кристаллических пород. Л.
- Янковская Н. Б., 1986. К проблеме оптовой торговли Каниша//ВДИ. № 2.
- Algaze G., 1989. The Uruk expansion: cross-cultural exchange in early Mesopotamian civilization//Current Anthropology. Vol. 30.
- Anatolian metal I/Ed. Ü. Yalin. Bochum, 2000. (Der Anschnitt. Beih. 13.)
- Anatolian metal II/Ed. Ü. Yalin. Bochum, 2002. (Der Anschnitt. Beih. 15.)
- Chernykh E. N., 1971. Earliest stage of metallurgy in Circumpontic zone//Le VIII Congres Internationale des sciences prehistoriques et protohistoriques. Belgrade.
- Chernykh E. N., 1992. Ancient metallurgy in the USSR: The Early Metal Age. Cambridge.
- Cernykh E. N., Avilova L. I., 1996. Circumpontic metallurgical province and metal from Troy//The workshops and posters of the XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences (Forli, Italia, 8-14 September). Forli. (Abstracts. 2.)
- Cernyh E. N., Avilova L. I., Barceva T. B., Orlovskaja L. B., Tenejsvili T. O., 1991. The Circumpontic metallurgical province as a system//East and West. Vol. 41, № 1-4.
- Chernykh E. N., Avilova L. I., Orlovskaya L. B., 2002. The Circumpontic metallurgical province: from unification to disintegration//Anatolian metal II/Ed. Ü. Yalin. Bochum. (Der Anschnitt. Beih. 15.)
- Coghlan H. H., 1951. Notes on the Prehistoric Metallurgy of Copper and Bronze in the Old World. Oxford.
- Dayton J. E., 1974. Money in the Near East before coinage//Berytus. Vol. 23.
- Deshayes J., 1960. Les outils de bronze de l'Indus au Danube (IVе au IIе millenaire). Paris. I-II.
- Die Metallindustrie mesopotamiens von den Anfängen bis zum 2. Jahrtausend v. Chr.//Orient-Archäologie. Rahden/Westf., 2004. Bd. 3.
- Eaton E. R., McKerrel H., 1976. Near Eastern alloying and some textual evidence for the early use of arsenical copper//World Archaeology. Vol. 8. № 2.
- Erkanal H., 1977. Die Äxte und Beile des 2. Jahrtausends in Zentralanatolien//Prähistorische Bronzefunde. München. Abt. 9. Bd 8.
- Frangipane M., 1985. Early developments of metallurgy in the Near East//Studi di paletnologia in onore di Salvatore M. Puglisi. Roma.
- Gale N. H., Stos-Gale Z. A., Gilmore G. R., 1985. Alloy types and copper sources of Anatolian copper alloy artifacts//AS. Vol. 35.
- Gopher A., Tsuk T., Shalev S., Gophna R., 1990. Earliest gold artifacts in the Levant//Current Anthropology. Vol. 31. № 4. August -October.
- Ko$ay H. Z., AkokM., 1950. Amasya Mahmatlar köyü definesi//Turk Tarih Kurumu Belleten. № 14.
- Maddin R., Stech Wheeler T., Muhly J., 1980. Distinguishing artifacts made of native copper//Journal of Archaeological Science. Vol. 7.
- Maxwell-Hyslop R., 1946. Daggers and swords in Western Asia//Iraq. Vol. VIII.
- Maxwell-Hyslop R., 1949. Western Asiatic shaft-hole axes//Iraq. Vol. XI/1.
- Maxwell-Hyslop R., 1953. Bronze lugged axe-or adze-blades from Asia//Iraq. Vol. XV/1.
- Maxwell-Hyslop R., 1974. Western Asiatic jewellery ca. 3000-612 B. C. London.
- Moorey P. R. S., 1985. Materials and manufacture in ancient Mesopotamia: The evidence of archaeology and art//BAR. Oxford. 237.
- Moorey P. R. S., 1994. Ancient Mesopotamian Materials and Industries: The Archaeological Evidence. Oxford.
- Müller-Karpe M., 1993. Metallgefässe im Iraq. I: Von dem Anfängen bis zur Akkad Zeit//Prähistorische Bronzefunde. Stuttgart. Abt. II. Bd 14.
- Old World archaeometallurgy/Ed. by A. Hauptmann, E. Pernicka, G. A. Wagner. Bochum, 1989. (Der Anschnitt. Beih. 7.)
- Palmieri A. M., Sertok E., Chernykh E., 1993. From Arslantepe metalwork to arsenical copper technology in Eastern Anatolia//M. Frangipane, H. Hauptmann (eds). Between the Rivers and over the Mountains: Archaeologica Anatolica et Mesopotamica Alba Palmieri dedicata. Roma.
- Pernicka E., 1993. Analytisch-chemische Untersuchungen an Metallfunden von-Uruk-Warka und Kis//M. Müller-Karpe (ed.). Metallgefässe im Iraq. I: Von dem Anfängen bis zur Akkad Zeit. Stuttgart. (Prähistorische Bronzefunde. Abt. II. Bd 14.)
- Pernicka E., 1995. Gewinnung und Verbreitung der Metalle in prähistorischer Zeit//Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. Vol. 37 (1).
- Pernicka E., Seeliger T. C., Wagner G. A., Begemann F., Schmitt-Strecker S., Eibner C., Öztunali O., Baranyi I., 1984. Archäometallurgische Untersuchungen in Nordwestanatolien//Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz. Vol. 31.
- Stech T., Pigott V. C., 1986. The metal trade in South-West Asia in the third millennium B. C.//Iraq. Vol. 48.
- Stronach D. B., 1957. The development and diffusion of metal types in Early Bronze Age Anatolia//AS. Vol. 7.
- Tallon F., 1987. Metallurgie susienne I: De la fondation de Suse au XVIIIе siecle avant J.-C. Paris. I-II.
- The Beginnings of Metallurgy/Ed. by A. Hauptmann, E. Pernicka, T. Rehren, Ü. Yalin. Bochum, 1999. (Der Anschnitt. Beih. 9.)
- Woolley C. L., 1934. Ur excavations: The royal cemetery. London. Vol. II.
- Yakar J., 1984. Regional and local schools of metalwork in Early Bronze Age Anatolia. Part I//Anatolian Studies. Vol. 34.
- Yakar J., 1985. Regional and local schools of metalwork in Early Bronze Age Anatolia. Part II//Anatolian Studies. Vol. 35.