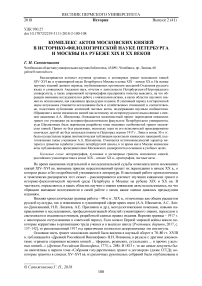Комплекс актов московских князей в историко-филологической науке Петербурга и Москвы на рубеже XIX и XX веков
Автор: Сапожникова Г.Н.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Грани социальной истории Российской Империи
Статья в выпуске: 2 (41), 2018 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается контекст изучения духовных и договорных грамот московских князей XIV-XVI вв. в гуманитарной науке Петербурга и Москвы в конце XIX - начале XX в. На основе научных изданий данного периода, опубликованных протоколов заседаний Отделения русского языка и словесности Академии наук, отчетов о деятельности Петербургского/Петроградского университета, а также современной историографии предпринята попытка выяснить, на что обращали внимание исследователи в работе с княжескими актами, в каких областях научного знания их использовали, как оценивали предыдущие издания. В указанный период в исторической науке актуальным становится исследование быта и хозяйственных отношений и, соответственно, подготовка публикации коллекций частных актов, поддержанная научным сообществом. Обращение к актам московских князей как источнику по истории русского языка связано с именем академика А.А. Шахматова. Описывается малоизвестный проект переиздания княжеских грамот его учениками на историко-филологическом факультете Петербургского университета, куда Шахматовым была перенесена разработка темы языковых особенностей грамот московских князей. Проект не был реализован, поскольку один из его исполнителей преждевременно скончался, другой же был вынужден покинуть Петроград осенью 1917 г. Лишь в конце 30-х гг. была осуществлена первая лингвистическая публикация нескольких княжеских завещаний, подготовленная также учениками А.А. Шахматова. Отмечается источниковедческий характер интереса к грамотам в работах ученых петербургской школы, в то время как в Москве княжеские акты публиковались преподавателями Московского университета в основном в учебных целях.
Историография, духовные и договорные грамоты московских князей, российская гуманитаристика в конце xix - начале xx в., археография, частные акты
Короткий адрес: https://sciup.org/147245156
IDR: 147245156 | УДК: 930.27 | DOI: 10.17072/2219-3111-2018-2-100-108
Текст научной статьи Комплекс актов московских князей в историко-филологической науке Петербурга и Москвы на рубеже XIX и XX веков
Во время выяснения издательской и исследовательской судьбы комплекса актов московских князей XIV‒XVI вв. внимание привлек нереализованный проект их переиздания в начале XX в., о котором редко и без подробностей упоминается в литературе. В настоящей работе хронологически и тематически расширяется этот сюжет – рассматривается контекст изучения княжеских грамот в историко-филологической научной среде Петербурга и Москвы на рубеже XIX и XX вв. В частности, определяется, в каких областях научного знания княжеские акты использовались, на что обращали внимание исследователи в своей работе с ними, какие оценки давались предыдущим изданиям.
Нижняя хронологическая граница работы ‒ 90-е гг. XIX в., отмеченные как общим расцветом русской культуры, так и появлением в гуманитарной сфере ярких имен (А.А. Шахматов, А.С. Лап-по-Данилевский, Н.П. Лихачев, А.Е. Пресняков и др.), методологическими поисками, новыми направлениями в исследованиях, профессионализацией областей гуманитарного знания, переходом к системности в издании источников, разработкой единых правил издания. Верхняя граница ‒ 1917 г. с некоторыми отступлениями в советский период. Если начало Первой мировой войны внесло некоторые коррективы в организацию труда ученых и в высшую школу [ Ростовцев, Баринов , 2017, с. 137‒142], то революционный 1917 год практически полностью дезорганизовал эти институты.
Основная часть грамот московских князей была введена в научный оборот в 70‒80 гг. XVIII в. публикацией в «Древней Российской Вивлиофике» Н.И. Новикова, в разделе с другими документами: «граматы старинныя великих князей ... тферских, резанских, суздольских ... и прочих удельных князей...» ( Древняя Российская Вивлиофика , 1775, с. 208). В 1813 г. те же самые докуметы были напечатаны в первом томе «Собрания государственных грамот и договоров» (далее СГГД); некоторые грамоты в списках XV‒XVI вв. из различных рукописных собраний были опубликованы в
1836 г. в первом томе «Актов археографической экспедиции» ( Акты, собранные в библиотеках и архивах..., 1836).
В 1950 г. Л.В. Черепнин издал все известные акты под названием «Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV–XVI вв.» Публикации 1813 и 1950 гг. сопровождались «филологической» критикой. Когда в 1811 г. был готов к печати первый том СГГД, архивист Н.Н. Бантыш-Каменский, подготовивший это издание, получил обстоятельное критическое письмо от К.Ф. Калайдовича. Его «строгие замечания... касались широкого круга исторических и палеографических вопросов». В частности, предлагалось, чтобы «собрание государственных грамот ... было издано со всею палеографическою точностью». Граф Н.П. Румянцев, курировавший процесс, даже принял решение издать письмо в виде отдельной брошюры [ Козлов , 1981, с. 102], но, видимо, дальше корректуры дело не продвинулось.
Языковед П.Я. Черных свои замечания к изданию 1950 г. основывал на сопоставлении отдельных грамот с их фотокопиями, сделанными, как он писал, ещё А.А. Шахматовым и С.Н. Се-верьяновым в конце XIX в. Черных отмечал некоторую непоследовательность и неточность в воспроизведении текста оригиналов с точки зрения исторической грамматики. Основное же расхождение с Л.В. Черепниным заключалось в чтении целого ряда слов, в результате возникала ситуация, «когда одно чтение, менее обоснованное, предпочиталось другому» [ Черных , 1951, с. 504-507].
Словосочетание «духовные и сговорные грамоты» встречается в эдиционной практике конца XIX в., в частности, в названии издаваемого в качестве «археографии для себя» сборника частных актов. В 1895 г. молодой доктор истории, преподаватель курса дипломатики в Петербургском Археологическом институте Н.П. Лихачев опубликовал в Петербурге акты «служилых людей» Московского государства XV‒XVI вв. в связи с работой над темой «История правительственных органов Московской Руси» ( Лихачев , 1895, с. 5). Задумав издать собранные по архивам и библиотекам акты в несколько приемов, Лихачев первый выпуск отвел для духовных грамот и договоров, пояснив, что «каждый новый образец подобных грамот почти всегда дает что-нибудь для уяснения бытовой истории Московской Руси или имеет ценность в смысле историко-юридического материала» ( Там же , с. 5-6). Основная часть публикуемых грамот были извлечены Лихачевым из фонда Коллегии экономии Московского архива Министерства юстиции.
Княжеских духовных и договорных грамот Н.П. Лихачев касался в своих лекциях по дипломатике. Относя дипломатику ко вспомогательным областям исторического знания, он отмечал, что княжеские акты наиболее известны и разработаны в науке и «можно только пожалеть, что эти драгоценные подлинники не изданы как акты Меровингской эпохи в виде альбома гелиогравюрных снимков» ( Лихачев , 1906, с. 28). Показывая развитие дипломатики как науки об актах на широком историческом фоне, Н.П. Лихачев относил договоры и духовные грамоты к частным актам, которые составлялись «для себя», а не для «всеобщего сведения», как акты государственные, которые, сообщая достоверный факт, нередко грешат намеренным искажением обстановки ( Там же , с. 15).
А.С. Лаппо-Данилевский в «Очерках русской дипломатики частных актов», которые стали квинтэссенцией многолетнего труда автора и его учеников над составлением каталога частных актов, с большей осторожностью разграничивает публичный и частный акт. Замечая, что «граница между сферами публичного и частного права была в разное время различной и что публичноправовые элементы иногда смешивались с частноправовыми в одном и том же акте», он приводил в пример завещания московских князей [ Лаппо-Данилевский , 2007, с. 65].
25 октября 1900 г., уже будучи избранным в Академию наук по историко-филологическому отделению, А.С. Лаппо-Данилевский сделал доклад на заседании отделения о состоянии дел в издании архивных материалов в России и убедил присутствующих в необходимости системной публикации частных актов фонда Коллегии экономии, как важнейшего источника для нового направления в науке ‒ исследования быта и хозяйственных отношений. План издания актов, несмотря на критику пофондового принципа публикации, все же был поддержан научным сообществом Москвы и Петербурга: В.О. Ключевским, П.Н. Милюковым, М.А. Дьяконовым, Н.П. Лихачевым, И.Н. Миклашевским, А.А. Шахматовым, С.В. Рождественским [ Ростовцев , 2001, с. 173-175].
Н.П. Лихачев в рецензии на труд выпускника Петербургского университета А.В. Экземплярского «Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период 1238-1505 г.» оценивал положение «актоведения» в России как плачевное: множество крупных и мелких изданий, с одной стороны, а с другой - «полное отсутствие даже попыток к изданию систематического реестра до- кументов и грамот, который давал свод хотя бы в одном хронологическом отношении» (Лихачев, 1897, с. 11-12). В этой «справочной книге» для «занимающихся русской историей», как определяет ее жанр сам автор, в статьях о московских князьях активно цитируются княжеские грамоты с отсылкой к изданию 1813 г. и ко второму изданию «Древней Российской Вивлиофики». В ряде случаев Экземплярский отступает от выбранного жанра и не только приводит выдержку из завещания или договора, а критически пересматривает дату составления, уточняет какой-либо факт (Экземплярский , 1889, с. 79-80, 88, 89, 122-123, 147, 149, 187-188).
В рамках исследования темы образования централизованного Российского государства в XIII-XV вв. А.Е. Пресняков активно использовал материал княжеских грамот и часто полемизировал в том числе с Экземплярским. Пытаясь «восстановить, по возможности права источника и факта», в своей докторской диссертации, которая была опубликована в Петрограде в 1918 г., Пресняков работал в том числе с первым томом СГГД и с оригиналами княжеских грамот, что отразилось во многочисленных подстрочных комментариях. Он также ссылался на исследование молодого В.Н. Дебольского «Духовные и договорные грамоты московских князей как историкогеографический источник», изданное в двух частях в «Записках Русского археологического общества» в 1901–1903 гг. Привлекая данные княжеских грамот, используя топонимику, писцовые книги конца XVI в., Дебольский картографировал многие волости и значительную часть сел [ Юшко , 2002, с. 14].
Вопрос о переиздании актов московских князей был поднят в среде филологов и лингвистов. В «краткой летописи жизни» А.А. Шахматова, составленной его дочерью Софьей в 1930 г., есть упоминание о том, что 21 марта 1913 г. на заседании Отделения русского языка и словесности Шахматов сообщил о готовившемся под его наблюдением В.А. Аносовым переиздании духовных и договорных грамот московских князей XIV-XV вв. ( Алексей Александрович Шахматов , 1930, с. 62). На этот факт обратил внимание С.В. Чирков, исследуя археографическую деятельность академика [ Чирков , 2005, с. 101].
С 1908 г. А.А. Шахматов преподавал на кафедре русского языка и литературы на историкофилологическом факультете Петербургского университета. Известно, что Владимир Аносов был его учеником. Сохранился отзыв Шахматова на так и не напечатанное сочинение студента Аносова «Церковно-славянские элементы в языке великорусских былин», удостоенное золотой медали на конкурсе студенческих работ ( Отчет о состоянии и деятельности ..., 1913, с. 210-216). В 19131916 гг. В. Аносов числился в списке лиц, оставленных при университете для подготовки к профессорской деятельности по кафедре русского языка и словесности (Там же, 1916, с. 63), а значит, в 1913 г. был молодым человеком. Можно провести параллели с другими издателями княжеских грамот. Например, первый том СГГД в основном был подготовлен Н.Н. Бантыш-Каменским, опытным архивистом, всю жизнь проработавшим в архиве Министерства иностранных дел [ Софинов , 1957, с. 44]. Л.В. Черепнин, приступая к публикации актов князей в конце 40-х гг. XX в., также был сложившимся источниковедом. Владимиру Аносову, начинающему исследователю, помогал опыт его наставника.
В 1927 г. в издательстве при Пермском университете вышла небольшая брошюра П.Г. Стрелкова «О языке семи древнейших завещаний Московских великих князей XIV века», где автор во вступлении сообщает, что данная работа по первоначальному плану должна была представлять собой лингвистический комментарий к тексту духовных грамот, подготовленных им к печати взамен «устаревшего и не соответствующего лингвистическим требованиям издания Собрания государственных грамот и договоров» ( Стрелков , 1927, с. 3). П.Г. Стрелков работал не с оригиналами, а по «фотографическим снимкам с подлинников», которые, по его словам, получил от А.А. Шахматова. В его распоряжении были также рукописные копии подлинников, снятые Шахматовым в 90-е гг. XIX в. ( Там же ). Павел Стрелков учился на историко-филологическом отделении несколькими годами позже Владимира Аносова и тоже был учеником профессора Шахматова. Работа о языке древнейших завещаний была написана в студенческие годы и должна была предварять новое издание грамот, подготовку которого А.А. Шахматов якобы предложил начать П. Стрелкову, который весной 1917 г. окончил университет и был оставлен на кафедре русского языка для приготовления к профессорскому званию, но к осени 1917 г. был вынужден уехать из Петрограда [ Раш-ковский , 2014].
По меньшей мере двое учеников А.А. Шахматова брались за подготовку переиздания княжеских завещаний и договоров. Нет сведений о том, была ли это совместная работа или П.Г. Стрелков продолжил дело, начатое В.А. Аносовым. Сам А.А. Шахматов подступался к этой теме с 90-х гг. XIX в. - подготовил фотокопии и списки с грамот. В «Извлечениях из протоколов заседаний ОРЯС» за 1898 г. также зафиксировано, что он начал работу о языке московских духовных и договорных грамот XIV-XV вв. ( Сборник ОРЯС , 1901, с. 43), но в списке опубликованных трудов автора такой работы нет. В случае реализации проекта, вероятно, это стало бы первым лингвистическим изданием завещаний и договоров московских князей. К началу XX в. А.А. Шахматов зарекомендовал себя в качестве ведущего специалиста в области археографии. Когда А.С. Лаппо-Данилевский предложил проект публикации грамот Коллегии экономии, то двинские грамоты XV в. в него решили не включать, поскольку шахматовское издание определили как образцовое. А до «Исследования о двинских грамотах XV века» 1903 г. А.А. Шахматов подготовил публикацию новгородских грамот с обширным очерком об их языковой специфике [ Чирков , 2005, с. 100-101].
Первое и пока единственное лингвистическое издание нескольких княжеских завещаний в составе «Хрестоматии по истории русского языка» осуществили в 1938 г. ученики А.А. Шахматова - С.П. Обнорский, который практически в одно время с В.А. Аносовым числился оставленным при кафедре русского языка и словесности для подготовки магистерской диссертации, и С.Г. Бархударов [ Обнорский, Бархударов , 1999, с. 97-106].
В Москве тексты княжеских актов использовались в учебных целых. В конце XIX - начале XX в. издавались хрестоматии по истории отечества, права, русского языка, где можно обнаружить перепечатанные из издания 1813 г. некоторые княжеские грамоты. В 1909 г. в серии «Памятники русской истории» историко-филологического факультета Московского университета вышел сборник «Духовные и договорные грамоты князей великих и удельных». Его составителем был ученик В.О. Ключевского и М.К. Любавского молодой приват-доцент С.В. Бахрушин, который спустя сорок лет станет ответственным редактором издания 1950 г. Сборник же 1909 г. служил пособием для семинарских занятий по курсу «Удельный период русской истории». Упреки в адрес редактора сборника, связанные с отсутствием «критического аппарата», Бахрушин посчитал необоснованными, поскольку, как он писал в предисловии, критическая работа «составит предмет самостоятельных занятий участников семинария» (Духовные и договорные. ., 1909, с. 3).
В 1907 г. профессор кафедры истории русского права юридического факультета Московского университета Д.Я. Самоквасов выпустил «Пособие для практических занятий студентов» в качестве приложения к курсу лекций по истории права. Несколько грамот московских князей были включены в раздел «Памятники удельных законов». Текст грамот печатался также по изданию 1813 г. и без «критического аппарата», но с постатейной разбивкой, характерной для юридической литературы ( Памятники древнего русского ., 1907). Сюда также можно отнести «Хрестоматию по истории русского права» М.Ф. Владимирского-Буданова, вышедшую в Ярославле в 1872-1875 гг., а затем в Киеве в начале XX в.
С оригиналами княжеских грамот, хранящимися в московском архиве Министерства иностранных дел, а точнее ‒ с печатями этих грамот, работал А.В. Орешников, один из крупнейших нумизматов, служивший хранителем в Историческом музее в Москве. В издании 1813 г. к публиковавшимся документам прилагались изображения печатей. По мнению Орешникова, чьи «Материалы к русской сфрагистике» вышли в 1903 г., эти рисунки «не могут выдержать самой снисходительной критики» и точности их доверять нельзя. Например, в СГГД в грамоте под № 12 (договор тверского князя с Новгородом) на рисунке печати великого князя тверского Михаила Ярославича «художник вместо ясно читаемого имени Афонас изобразил Николай» (Орешников, 1903, с. 26-27). В «Материалах...» автор показывает, как могут быть связаны между собой монеты и печати, а также описывает ряд печатей до конца XV в. (княжеских, посадничьих, монастырских). А.В. Орешников включает сфрагистику в состав вспомогательных исторических наук, констатирует ее неразработанность и отсутствие специальных исследований о русских печатях. Предлагая описание и качественные снимки княжеских печатей, автор комментирует эти сведения, включая тем самым данные сфрагистики в исторический контекст. Благодаря А.В. Орешникову известно, как выглядели ныне утраченные печати второй духовной грамоты Ивана Калиты 1339 г.1 К стандартной привесной княжеской печати через концы шнура была добавлена небольшая свинцовая печать, которую исследователь вслед за издателями СГГД и Н.М. Карамзиным оценивает как татарскую и со- провождает комментарием: «вероятно, приложение татарской печати, для большей крепости завещания, сделано на Ханском дворе в Московском Кремле» (Орешников, 1903, с. 14‒15). В середине XX в. эта точка зрения, озвученная Л.В. Черепниным в «Русских феодальных архивах», трансформировалась в тезис о процедуре утверждения завещаний московских князей в Орде [Мазуров, 1995, с. 144].
Последнее десятилетие XIX в. ‒ первые два десятилетия XX в. – непродолжительное, но плодотворное время развития отечественной гуманитаристики. Приметой его стало обращение исторического сообщества к социально-экономическим исследованиям. В археографической деятельности это проявилось в нацеленности на публикацию коллекций частный актов как актуальных источников. В условиях разнообразия методологических основ и исканий закладывалось актовое источниковедение.
Княжеские акты были известны научному сообществу, которое отмечало их значимость как для исследования, так и для формирования национального самосознания. Предпринимались попытки их видовой классификации. Н.П. Лихачев в своем курсе лекций по дипломатике относил завещания и договоры к частным актам, не делая каких-либо уточнений относительно княжеских грамот. Более глубокими, с учетом исторической специфики, были наблюдения А.С. Лаппо-Данилевского о смешении в завещаниях московских князей публично- и частноправовых элементов.
В связи с постановкой проблемы возникновения русского централизованного государства внимание исследователей привлекали главным образом духовные грамоты XIV–XV вв. Работы петербургской школы, в частности А.В. Экземплярского и А.Е. Преснякова, внесли много нового в представление об отдельных документах этого периода: были исправлены ошибки и неточности, допущенных первыми издателями духовных грамот.
Постепенная профессионализация исторического знания вызвала появление исследований, характеризующихся более глубоким анализом княжеских актов, изучением связанных с ними вопросов в области дипломатики (Н.П. Лихачев, А.С. Лаппо-Данилевский), сфрагистики (А.В. Орешников), исторической географии (В.Н. Дебольский), которые на рубеже XIX и XX вв. относили к вспомогательным историческим дисциплинам.
А.А. Шахматов как филолог и лингвист не был удовлетворен качеством предыдущих публикаций княжеских актов, которые интересовали его в контексте многолетних изысканий по истории складывания русского языка. В последние годы XIX в. Шахматов самостоятельно разрабатывал тему языковых особенностей актов московских князей, имея опыт работы с новгородскими и двинскими грамотами, затем, видимо, перенес эту тему в Петербургский университет, где к 1913 г. появился проект переиздания грамот, им курировавшийся. Публично было упомянуто только об одном исполнителе – молодом магистранте Владимире Аносове, ученике А.А. Шахматова. Другой его ученик, Павел Стрелков, написавший работу о языке древнейших завещаний XIV в., сообщает только о своем участии в подготовке переиздания. Пока остается неясным, была ли это совместная работа или П.Г Стрелков продолжил дело, начатое В.А. Аносовым. Проект не был реализован: В. Аносова не стало, П. Стрелков покинул Петроград к осени 1917 г., продолжив, тем не менее, работу над подготовкой переиздания. Отголоском университетских штудий под руководством профессора Шахматова стала первая лингвистическая публикация в 1938 г. нескольких княжеских грамот его учениками – С.П. Обнорским и С.Г. Бархударовым.
Издание 1813 г. к началу XX в. не утратило своей актуальности. К нему обращались в исследованиях, например, А.Е. Пресняков в «Образовании Великорусского государства» ссылался на 1 том СГГД, но при этом работал с оригиналами грамот. В Московском университете это издание бралось за основу при составлении хрестоматий для студентов по истории отечества, русскому языку, праву.
Вероятно, в начале XX в. вопрос нового издания завещаний и договоров московских князей был актуален, но не первостепенен. Работа над новым изданием захлебнулась в событиях 1914– 1917 г. и их последствиях.
Список литературы Комплекс актов московских князей в историко-филологической науке Петербурга и Москвы на рубеже XIX и XX веков
- Козлов В.П. Колумбы российских древностей. М.: Наука, 1981. 168 с
- Корнева И.И., Тальман Е.М., Эпштейн Д.М. История археографии в дореволюционной России. М.: Б.и., 1969. 228 с
- Кучкин В.А. Вторая душевная грамота великого князя Ивана Даниловича Калиты // Древняя Русь. Вопр. медиевистики. 2008. № 2(32). С. 129-132
- Кучкин В.А. Договорные грамоты московских князей XIV в. М.: Древлехранилище, 2003. 368 с
- Кучкин В.А. Издание завещаний московских князей XIV в. Первая душевная грамота великого князя Ивана Даниловича Калиты // Древняя Русь. Вопр. медиевистики. 2008. № 1(31). С. 95-108
- Кучкин В.А. Итоги реставрации духовных грамот Ивана Калиты // Отечественная история. 1992. № 6. С. 62-69
- Кучкин В.А. Сколько сохранилось духовных грамот Ивана Калиты? // Источниковедение отечественной истории: Сб. статей. М.: Наука, 1989. С. 206-225
- Лаппо-Данилевский А.С. Очерк русской дипломатики частных актов. СПб.: Северная звезда, 2007. 285 с
- Мазуров А.Б. Утверждались ли духовные грамоты Ивана Калиты в Орде? // Вопросы истории. 1995. С. 143-153
- Обнорский С.П., Бархударов С.Г. Хрестоматия по истории русского языка: учеб. пособие для студентов и аспирантов университетов. 3-е изд. М.: Аспект Пресс, 1999. 439 с
- Рашковский А. Как шельмовали статистиков в 1936 г. // Вятский наблюдатель: еженедельная газета. 2014. 15 декабря. URL: http://nabludatel.ru/news/v-1936-godu.html (дата обращения: 19.02.2017)
- Ростовцев Е.А. Деятельность А.С. Лаппо-Данилевского в Российской академии наук // Источник. Историк. История. СПб.: Изд-во Европ. ун-та, 2001. С. 135-346
- Ростовцев Е.А., Баринов Д.А. Петроградская университетская корпорация в годы I Мировой войны: опыт коллективного портрета // Клио. 2017. № 10. С. 136-144
- Софинов П.Г. Из истории русской дореволюционной археографии. М.: Б.и., 1957. 155 с
- Черных П.Я. Рец. на: Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. // Изв. АН СССР. Отд. литературы и языка. М.: Изд-во АН СССР, 1951. Т. 10, вып. 5. С. 504-507
- Чирков С.В. Археография в творчестве русских ученых конца XIX - начала XX в. М.: Знак, 2005. 320 с
- Юшко А.А. Феодальное землевладение Московской земли XIV в. М.: Наука, 2002. 239 с