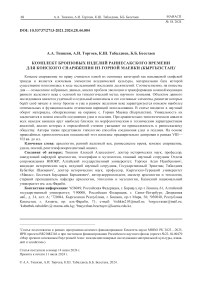Комплект бронзовых изделий раннесакского времени для конского снаряжения из Горной Маевки (Кыргызстан)
Автор: Тишкин А.А., Торгоев А.И., Табалдиев К.Ш., Бесетаев Б.Б.
Журнал: Материалы по археологии и истории античного и средневекового Причерноморья @maiask
Статья в выпуске: 18, 2024 года.
Бесплатный доступ
Конское снаряжение по праву считается одной из основных категорий так называемой скифской триады и является ключевым элементом всаднической культуры, материальная база которой существенно пополнилась в ходе исследований последних десятилетий. Соответственно, на повестке дня - осмысление собранных данных, анализ проблем эволюции и трансформации конской амуниции раннего железного века с основой на типологический метод научного познания. Объектом данного исследования является уздечный и седельный комплексы и его составные элементы, развитие которых берёт своё начало в эпоху бронзы и уже в раннем железном веке характеризуется поиском наиболее оптимальных в функциональном отношении вариаций использования. В статье вводятся в научный оборот материалы, обнаруженные на окраине с. Горная Маевка (Кыргызстан). Уникальность их заключается в новом способе соединения удил и псалиев. При сравнительно-типологическом анализе всех находок выявлен круг наиболее близких по морфологическим и техническим характеристикам аналогий, анализ которых в определённой степени указывает на принадлежность к раннесакскому обществу. Авторы также представили типологию способов соединения удил и псалиев. На основе приведённых хронологических показателей этот комплекс предварительно датирован в рамках VIII- VII вв. до н.э.
Археология, ранний железный век, раннесакское время, конское снаряжение, удила, псалий, рентгенофлюоресцентный анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/14131544
IDR: 14131544 | DOI: 10.53737/2713-2021.2024.28.44.004
Текст научной статьи Комплект бронзовых изделий раннесакского времени для конского снаряжения из Горной Маевки (Кыргызстан)
Среди многочисленных археологических источников раннего железного века, характеризующих материальную культуру ранних саков, комплекс снаряжения верхового коня считается одним из наиболее значимых при реконструкции разных сторон деятельности древних кочевников. Роль лошадей в хозяйстве и военном деле тогда являлась доминирующей, обеспечивая не только мобильность населения и социальный статус владельцев, но и формируя систему жизнеобеспечения, мировоззрение, новые технологии и многое другое. Изготовление всех не обходимых элементов конской амуниции происходило под влиянием доминирующих факторов. Процесс реализованных модификаций в этой сфере позволяет исследователям рассматривать имеющиеся многочисленные изделия в качестве датирующих предметов и культурных маркеров. При этом особое значение имеют наиболее полные комплекты, изготовленные из металла и органических материалов (кожа, рог и др.) и обнаруженные при раскопках захоронений лошадей, а также в виде кладов или прикладов. Такие сведения дополняют случайные находки, в том числе разрозненных элементов. Опыт изучения полученной совокупно сти различных деталей для конского сн аряжения древних кочевников отражён в существенной серии монографий и статей, опубликованных во 2-й пол. XX в. (см.,
№ 18. 2024
напр., библиографический обзор печатных работ археологов по рассматриваемой теме с 1947 по 1997 г.: Марс адолов, Тишкин 1998). Такая деятельность продолжается на современном этапе (Чугунов 2005; Шульга 2008; 2013; 2015; 2016; Вальчак 2009; Бесетаев 2014; 2015; Чугунов и др. 2017; и др.). К сожалению, до сих пор в археологии не унифицированы многие понятия и обозначения, связанные с изучением известных категорий изделий и комплектов для амуниции древних и средневековых лошадей. Хотя такие попытки пр едпринимались (Боковенко 1986; Кирюшин, Тишкин 1997; Тишкин 1998; Тишкин, Горбунова 2004; Шульга 2008; и др.). Расширение источниковой базы и ее важность для науки обозначают необходимо сть дальнейшего широкого обсуждения назревших пр облем практиче ского и теоретико-методологического плана.
Удила и псалии являлись основными функциональными компонентами в конском снаряжении раннесакского времени, так как они обеспечивали формирование узды для управления лошадью (В айнштейн 1989). Таки е находки, полученные в последние десятилетия, свидетельствуют о широком поиске наиболее оптимальных форм их соединения для реализации необходимых функций. Относительно хорошо сохранившиеся археологические материалы из памятников указанного периода дают возможность проследить эволюционное развитие конского снаряжения (Бесетаев 2015). В этом отношении соединение удил и псалиев имеет свои конструктивные особенности, которые были ранее отражены в ряде научных работ (Грязнов 1947 ; Кадырбаев 1968; Боковенко 1981 ; Марс адолов, 1998; Шульга 2008; Вальчак 2009; и др.). В большинстве случ аев классификация и типология этих элементов узды рассматривались по отдельности. Основная причина такой ситуаци и связана с тем, что оба компонента обнаруживаются вместе в одном комплексе относительно редко. Чаще встречаются только металлические удила. Они также обнаруживаются случайно, иногда только в виде отдельных частей. На сегодняшний день суще ствует около десяти вариантов соединения удил с псалиями, относящихся к раннесакскому времени (Besetayev 2021: 123). Но, как оказалось, это еще неполная информация. Целью настоящей статьи является введение в научный оборот новых находок металлических деталей для конского снаряжения раннесакского времени, обнаруженных у с. Горная Маевка в Кыргызстане, а также их рентгенофлюоресцентный анализ и рассмотрение способов с оединения удил и псалиев вне зависимо сти от морфологических особенностей каждого составного элемента.
Материалы и методы исследования
Скопление публикуемых металличес ких изделий было выявлено в Кыргызстане около с. Горная Маевка в 2016 г. при строительстве нового дома. Находчики отнесли древние вещи в антикварный салон, где при с одействии его владельца А.М. Камышева комплект был у них выкуплен в июне 2017 г. Обнаруженные археологические предметы сначала очищались от грязи и окислов. Затем поверхностный слой закреплялся 1. Позднее после первичной научной обработки реставрированные находки были переданы на хранение и экспонирование в музей Кыргызско-Турецкого университета «Манас» (г. Бишкек). А.М. Камышев сообщил одному из авторов статьи, что все вещи лежали в каменной оградке круглой формы. Более никаких данных об обстоятельствах их обнаружения неизвестно.
Село Горная Маевка находится в 30 км юго-восточнее г. Бишкека (Аламединский р-н, Чуйская обл., Кыргызская Республика) и относится к Таш-Мойнокскому сельскому совету (рис. 1). На его восточной окраине, у выхода небольшого ущелья, расположена курганная группа
№ 18. 2024
Комплект бронзовых изделий раннесакского времени для конского снаряжения из Горной Маевки (Кыргызстан)
сакского времени, надмогильные сооружения которой практиче ски полностью распаханы. Частично сохранилась насыпь лишь одного крупного (около 40 м в диаметре) кургана. Вполне возможно, что округлая оградка (вероятнее всего, «восьмикаменник») могла находиться на этом памятнике. Судя по внешнему виду, находки располагались не в захоронении, а близко к поверхности земли, что может свидетельствовать о наличии жертвенного приклада.
Археол огический комплекс из девяти металлических изделий (рис. 2) рассматривается нами как результат деятельности людей, обусловленной рядом внутренних и внешних факторов (социально-экономическим развитием общества древних кочевников, географической средой их обитания, традициями в хозяйственной, военной и культурной сфере, взаимодействием с другими народами, исторической ситуацией). Методика конкретных исследований включает традиционные археологические методы и приёмы изучения конкретных элементов снаряжения верховой лошади: морфологическое описание, учёт имеющихся классификаций и типологий, определение возможных способов изготовления и конструктивно- функциональных качеств, датирование по аналогиям, некоторые статистические наблюдения, выявление сходства и различия. Отдельно стоит указать об осуществлённом рентгенофлюоресцентном анализе. Он позволяет установить химический состав сплава, из которого был изготовлен каждый отдельный предмет. Все артефакты, публикуемые в данной статье (рис. 2—6), исследовались в музее Кыргызско-Турецкого университета «Манас» с помощью портативного рентгенофлюоресцентного спектрометра «INNOV-Х SYSTEMS» ALPHA SERIESTM (модель Альфа-2000, производство США). Указанный прибор неразрушающего дей ствия предназначен для количественного определения содержания химических элементов в изделиях из цветных металлов и сплавов. Для получения необходимых результатов применялась компьютерная программа с режимом «Аналитический», адаптированная для изучения археологических находок. Время одного измерения составляло 30 секунд. Процедура тестирования древних изделий и демонстрация результатов осуществлялась в рамках подходов, выработанных одним из авторов статьи в ходе проведения многочисленных анализов. В самом начале с помощью спектрометра изучалась поверхность изделия, закреплённая реставратором. В результате был получен своеобразный «фоновый» набор показателей для дальнейшего сравнительного анализ а с другими данными. При этом обычно фиксируются сведения, на которые необходимо обратить внимание (проявление рудных примесей, влияние окружавшей среды, уровень загрязнения, причины патинизации, особенности ингибитора и др.). О бязательным является тестирование металла на участках, освобождённых от поверхностных окисло в. У публикуемых находок это делалось аккуратно с помощью электрической мини-дрели (со специальными насадками и разным режимом работы). Подготовительный этап при дальнейшем использовании рентгенофлюоресцентного спектрометра имеет существенное значение. От него зависят результаты, которые необходимы при интерпретации и сравнениях, а также при формулировке заключений. Стоит отметить, что полученные показатели химических элементов специально не сводились в общую таблицу. О суще ствлённая процедура рентгенофлюоресцентного анализ а будет ниже представлена так, чтобы её по следовательно сть и зафиксированные результаты понимали другие исследователи.
Результаты исследования и их обсуждение
Удила изготовлены из цветного металла, они двусоставные и соединённокольчатые (рис. 2: 1, 3: 1—5). Форма внешнего контура окончаний — стремевидная, а внутри имеются два отверстия: основное — подпрямоугольное с одной вогнутой длинной стороной; дополнительное — круглое. Грызла наполовину гладкие, а на другой части они имеют рифлёный орнамент в виде шести рядов из двух усеченно-пирамидовидных выступов (рис. 3). У соединительных колец такие стер жни в сечении подквадратные с закруглёнными углами и заметными остатками литейных швов. Общая длина удил в развёрнутом виде составляет 15,8 см. Длина
№ 18. 2024
каждого звена примерна одинаковая — 8,7 см (этот и следующие показатели получены с помощью электронного штангенциркуля). Рассматриваемая основная деталь узды изготовлена способом литья в двухсторонней форме, который уже неоднократно описан в литературе (Минасян 1994: 158; Бейсенов, Шаблавина 2015: 106—107; Тишкин 2024: 264—265; и др.). Сначала создавалось так называемое симметричное звено, у которого внешнее стремевидное оформление и внутреннее соединительное кольцо находятся в одной плоскости. Затем к нему присоединялось второе аналогичное звено, но с ассиметрично расположенными внутренними окончаниями, что обеспечивало оптимальный вариант конструкции удил. Судя по параметрам и качеству изготовления, для этого могли использовать шаблон от первого звена, у которого внутреннее кольцо из воска развернули перпендикулярно окончанию и в нём сделали проём, чтобы завести вовнутрь соединительное кольцо уже готовой части удил. Наличие характерной выпуклости (рис. 3: 1, 3 ), которая образовалась на указанном участке, является своеобразным индикатором при реконструкции способа изготовления всего изделия.
С помощью рентгенофлюоресцентного спектрометра каждое звено изучалось отдельно. Сначала тестировалась поверхность симметричной части удил с тёмным покрытием. Получены следующие результаты: Cu (медь) — 59,89%; Sn (олово) — 30,41%; Fe (железо) — 8,55%; Ti (титан) — 0,74%; Pb (свинец) — 0,41%. Затем трижды в разных местах прибором исследовался участок на внешнем стремевидном окончании, где механическим путём удалялись верхние окислы. Зафиксированы такие схожие показатели:
— Cu — 84,28%; Sn — 13,02%; Fe — 2,42%; Pb — 0,28%;
— Cu — 86,76%; Sn — 11,02%; Fe — 1,98%; Pb — 0,24%;
— Cu — 86,07%; Sn — 11,63%; Fe — 2,01%; Pb — 0,29%.
Полученные данные указывают на медно-оловянный (бронзовый) сплав (Cu+Sn). Аномальным выглядит существенное содержание железа (Fe). Этот факт может демонстрировать как проникновение окислов вглубь изделия, так и присутствие в виде рудной примеси вместе со свинцом (Pb).
Тестирование спектрометром закреплённой реставратором поверхности асимметричного звена позволил выявить следующий поэлементный ряд: Cu — 84,36%; Sn — 11,82%; Fe — 1,5%; Sb (сурьма) — 1,21%; Ti — 0,84%; Pb — 0,27%. Он несколько отличается от предыдущего. Снятие окислов осуществлялось на двух участках (на грызле и на внешнем окончании), где в разных местах по два раза спектрометром проводились измерения. Последовательно получены такие результаты:
— Cu — 91,81%; Sn — 6,87%; Sb — 0,75%; Fe — 0,38%; Pb — 0,19%;
— Cu — 91,79%; Sn — 6,8%; Sb — 0,86%; Fe — 0,36%; Pb — 0,19%;
— Cu — 90,1%; Sn — 8,04%; Sb — 1,07%; Fe — 0,59%; Pb — 0,2%;
— Cu — 90,35%; Sn — 7,73%; Sb — 1,2%; Fe — 0,55%; Pb — 0,17%.
Эта серия показателей также свидетельствует о медно-оловянном (бронзовом) сплаве, но с рудными примесями в виде сурьмы (Sb) и свинца (Pb), а также с остатками окислов в порах поверхно сти зачищенных небольших зон. Стоит отметить, что в этом случае и далее разброс показателей по содержанию выявленных элементов вызван химической неоднородностью металла (ликвацией), что характерно для бронзолитейного производства древних кочевников Центральной Азии. Представленные данные указывают на то, что звенья удил производились из немного отличавшихся сплавов. Такое обстоятельство дополнительно подтверждает описанную реконструкцию способа изготовления всего изделия, когда сначала отдельно отливалось симметричное звено, а потом к нему присоединялось ассиметричное.
Псалии (2 экз.) — металлические, слабоизогнутые, трехдырчатые, со шпеньком, окончания сужаются (оформлены под конус), по краям овальные отверстия имеют размеры 0,9 × 0,5 см (рис. 2: 2—3 , 4: 1—2 ). Изделия почти идентичны. Немного отличается лишь их длина — 15,7 и 15,95 см. Основная часть каждого псалия отлита в двухсторо нней форме, о
Комплект бронзовых изделий раннесакского времени № 18. 2024 для конского снаряжения из Горной Маевки (Кыргызстан)
чём свидетельствуют сохранившие ся следы литейных швов. Шпеньки для жёсткой фиксации псалиев в удилах были вставлены в отверстия округлой формы , специально подготовленные в центральной части, затем их сильно расклепали и тщательно о бработали (рис. 4: 3—4 ). Сами эти маленькие стержни в сечении имеют эллипсовидную форму. Их длина 3,12 см, диаметр в центре 0,94 см, а у края — 0,91 см. Шпеньки отливались отдельно и имеют отверстия (рис. 4: 5 ) размерами 0,5 × 0,4 см для того, чтобы туда вставлялся фиксатор (типа стопорного шплинта), который мог быть изготовлен из разного материала и не сохранился.
Рентгенофлюоресцентный анализ осуществлялся для каждого псалия и шпенька отдельно. Сначала прибором изучалась патинированная поверхность изделия, которому условно был присвоен номер 1 (рис. 4: 1а—с ). Получен такой поэлементный ряд: Cu — 70,13%; Sn — 29,26%; Fe — 0,53%; Pb — 0,08%. Диаметр псалия вверху у отверстия — 1,15 × 1 см, между шпеньком и верхним отверстием — 1,01 × 0,87 см. В нижней части эти же размеры практически идентичны. Снятие поверхностных окислов осуществлялось у одного из крайних отверстий. Те стирование спектрометром проводилось трижды в разных местах:
— Cu — 79,99%; Sn — 19,48%; Fe — 0,45%; Pb — 0,08%;
— Cu — 76,33%; Sn — 23,02%; Fe — 0,59%; Pb — 0,06%;
— Cu — 79,01%; Sn — 20,52%; Fe — 0,41%; Pb — 0,06%.
Перечисленные схожие показатели указывают на медно-оловянный (бронзовый) сплав. Стоит отметить наличие в порах остатков окислов, что, вероятнее всего, повлияло на немного повышенное содержание железа.
Затем по аналогичной схеме исследовался шпенёк. Изучение закреплённой поверхности определило следующие результаты: Cu — 80,59%; Sn — 15,09%; Sb — 2,09%; Fe — 1 ,74%; Pb — 0,27%; Ti — 0,22%. Снятие окислов осуществлялось на маленьком участке, а измерения прибором осуществлялись дважды в разных местах:
— Cu — 87,43%; Sn — 9,52%; Sb — 1,12%; Ti — 1,12%; Fe — 0,64%; Pb — 0,17%;
— Cu — 88,4%; Sn — 9,39%; Sb — 1,25%; Fe — 0,79%; Pb — 0,17%.
Несмотря на попадание реставрационного покрытия в зону тестирования, п олученные данные свидетельствуют о том, что для изготовления шпенька использовался медно-оловянный сплав с суще ственным присутствием сурьмы (Sb) в качестве рудной примеси. Данная ситуация подтверждает факт отдельного изготовления двух представленных деталей, что также демонстрируют результаты следующих анализов второго псалия (рис. 4: 2а—с ), который, как было указано, почти идентичен первому. При тестировании поверхности зафиксирован такой поэлементный ряд: Cu — 73,21%; Sn — 26,31%; Fe — 0,43%; Pb — 0,05%. Участок с удаленными окислами исследовался спектрометром дважды в разных местах, и был выявлен медно-оловянный (бронзовый) сплав:
— Cu — 81,42%; Sn — 18,15%; Fe — 0,38%; Pb — 0,05%;
— Cu — 81,56%; Sn — 17,99%; Fe — 0,39%; Pb — 0,06%.
Изучение прибором закрепленной поверхности шпенька обозначило следующие показатели: Cu — 70,76%; Sn — 24,35%; Sb — 2,65%; Fe — 1,94%; Pb — 0,3%. Снятие окислов существенн о уточнило их. Исследования прибором проводились дважды в разных местах подготовленного участка:
— Cu — 88,44%; Sn — 9,51%; Sb — 1,25%; Fe — 0,69%; Pb — 0,11%;
— Cu — 88,96%; Sn — 9,18%; Sb — 1,05%; Fe — 0,67%; Pb — 0,14%.
Как уже было отмечено, и в данном случае можно заключить, что бронзовый шпенёк изготавливался отдельно, о чём свидетельствует присутствие сурьмы (Sb). При этом оба псалия отливались по схожей рецептуре. Возможно, что для изготовления второго такого изделия (немного бо́ льшего размера) использовали предыдущий экземпляр в качестве исходника для формы.
№ 18. 2024
Наносная или нагрудная подвеска в виде головы верблюда (рис. 2: 6 ) выполнена оригинально и качествен но: с хорошо выраженными круглыми глазами, отчётливо подчеркиваются ноздри, уши и губы, передающие агрессивность животного, а также нижние челюсти с отверстиями для подвешивания, имеется зао стрённый хохолок на макушке. Удалось сделать фотограмметрию скульптурного изделия и получить его цифровую копию2 для детальной демонстрации (рис. 5) и всестроннего изучения. Длина фигурки 4,22 см, макс имальная ширина 2,81 см. Толщина у неё разная. По краям ушей зафиксирован показатель — 1,17 см. С учётом нижних челюстей, в которых сделаны отверстия, отмечен другой параметр — 1,28 см. Измерение по крайним точка морды дало наименьший результат — 0,8 см. Отверстия для ремня имеют вытянутую овальную форму размерами 1,32 × 0,64 см.
При тестировании прибором закреплённой реставратором поверхности изделия получены такие показатели: Cu — 72,38%; Sn — 20,96%; Fe — 6,52%; Pb — 0,14%. Освобождение от окислов осуществлялось на небольшом участке выделенной скулы верблюда. Измерения спектрометром проводилось дважды в разных местах:
— Cu — 78,05%; Sn — 20,44%; Fe — 1,37%; Pb — 0,14%;
— Cu — 79,01%; Sn — 19,5%; Fe — 1,31%; Pb — 0,18%.
Как и во всех предыдущих случаях, выявлен медно-оловянный (бр онзовый) сплав. Присутствие повышенного содержания железа (Fe) и наличие свинца (Pb) объяснялось выше.
Подпружная пряжка-блок обнаружена в одном экземпляре (рис. 2: 8 ), хотя обычно в комплекте их находят в паре с аналогичным изделием, но имеющим характерный выступ на рамке для застегивания ремня, удерживавшего мягкое седло. Иногда эту вторую деталь мог заменить другой элемент в виде бляхи-застёжки (Степанова 2005: 110—112; Шульга 2008: 98, рис. 62). Публикуемая находка по форме выделяется относительно удлинёнными пропорциями по центральной оси. Ее длина вместе с выступами-фиксаторами составляет 5,14 см, а ширина — до 3,88 см (рис. 6: 1 ). Большое отверстие приёмной рамки имеет арочную форму размерами 1,93 × 1,79 см, а малое (для закрепления на ремне) оказалась диаметром около 0,9 см. Сначала прибором тестировалась лицевая поверхность изделия, покрытая патиной. Получены следующие результаты: Cu — 62,97%; Sn — 34,95%; Pb — 1,79%; Fe — 0,29%. Затем дважды измерения осуществлялись на участке, освобожденном от окислов:
— Cu — 82,64%; Sn — 16,12%; Pb — 1,12%; Fe — 0,12%;
— Cu — 82,83%; Sn — 15,88%; Pb — 1,21%; Fe — 0,08%.
Выявлен медно-оловянный сплав с повышенным содержанием свинца (Pb), который вполне мог быть как рудной примесью, так и специальной добавкой. Аналогичный медно-оловянно-свинцовый сплав встречен при рентгенофлюоресцентном анализе подпружных пряжек из памятника майэмирской (майемерской) культуры Бер езовка- I (Карамышево), который располагался на территории северо-западных предгорий Алтая (Тишкин 2020).
Распределитель уздечных ремней (рис. 2: 4 ) в рассматриваемом комплекте тоже один. Лицевая поверхность у него декорирована ромбовидными гранями (рис. 6: 2а ). Изделие имеет такие внешние параметры: 2,01 × 1,93 × 1,15 см. В основании оставлено отверстие 1,28 × 1,12 см с неровными краями (рис. 6: 2b ). Для ремней с боков оформлены четыр е проёма (параллельно с двух сторон) (рис. 6: 2с ) размерами 1 ,15 × 3,8 см и 1,11 × 0,4 см. Тестирование спектрометром закреплённой лицевой поверхности р аспределителя ремней позволило выявить такой поэлементный ряд: Cu — 76,24%; Sn — 23,4%; Fe — 0,22%; Pb — 0,14%. Затем дважды в разных местах прибором исследовался участок на основании изделия, освобождённый от окислов:
— Cu — 80,66%; Sn — 19,2%; Pb — 0,14%;
— Cu — 79,99%; Sn — 19,89%; Pb — 0,12%.
№ 18. 2024
Комплект бронзовых изделий раннесакского времени для конского снаряжения из Горной Маевки (Кыргызстан)
Эти данные также указывают на медно-оловянный (бронзовый) сплав.
Следующая группа находок представляет собой бляхи-застёжки (рис. 2: 5, 7, 9 ), одна из которых наиболее крупная (рис. 6: 3 ). Диаметр грибовидной верхней части 2,72 × 2,61 см (рис. 6: 3а ). Выпуклая «шляпка» располагается на коротком шпеньке, к которому прикреплена функциональная деталь с вытянутым овальным отверстием (размерами 1,64 × 0,57 см) для продевания ремня (рис. 6: 3b —с ). Общая высота всего изделия составляет 1,85 см. Параметры бляхи-застежки и форма нижней части отличается от подобных образцов нагрудных и уздечных деталей конской гарнитуры (Шульга 2008: 82—84, 94—95, рис. 58). Возможно, рассматриваемое изделие (рис. 6: 3 ) могло использоваться в качестве подпружной застёжки в паре с представленной выше пряжкой-блоком (рис. 6: 1 ). Не стоит исключать и другие варианты его применения. При тестировании спектрометром разноцветной лицевой поверхно сти «шляпки» получены такие показатели: Cu — 87,56%; Sn — 7,98%; As (мышьяк) — 3,72%; Pb — 0,58%; Bi — 0,16%. Затем измерения осуществлялись дважды в разных местах на защищенном участке, который был подготовлен на внешней стороне металлической петли:
— Cu — 90,82%; Sn — 5,37%; As — 3,35%; Pb — 0,35%; Bi — 0,11%;
— Cu — 90,75%; Sn — 5,33%; As — 3,4%; Pb — 0,4%; Bi — 0,12%.
Полученные результаты свидетельствуют об особенностях фиксируемого бронзового сплава. Наряду с медью (Cu) и оловом (Sn), в нём существен но выделяется мышьяк (As), присутствие которого, вероятнее всего, стоит расс матривать в качестве исходной рудной примеси, выполняющей роль естественной легирующей добавки и снижающей температуру плавления. Это суждение косвенно подтверждается наличием висмута (Bi). Данный химический элемент (как и свинец) часто сопровождает руды, в которых пр исутствует мышьяк. Исходя из рационального подхода, нет смысла ис пользовать для сплава две легирующие добавки, выполняющие схожие функции. Ко всему отмеченному добавим, что пока нет реальных доказательств, что в раннесакское время мастера могли получать мышьяк и использовать его в качестве технологического элемента. По всей видимости, для изготовления бронзовых изделий разрабатывались медные или полиметалличе ские месторождения с содержанием мышьяка, которых достаточно в Средней Азии. Важно отметить, что существовали изделия, в которые добавлялось олово и имелось заметное количество мышьяка. Это свидетельствует об относительной доступности таких материалов для бронзолитейн ого производства того времени, а также о знании их полезных действий (Yermolayeva et al. 2024: 16). Обозначенная тема требует отдельных исследований, поэтому зде сь ограничимся изложенной констатацией и предварительной интерпретацией.
Вторая бляха-застежка (рис. 2: 7 ) аналогична предыдущему изделию, но немного отличается размерами и оформлением нижней части (рис. 6: 4 ). Диаметр «шляпки» составляет около 2,67 см, высота всего изделия — 2,09 см, размеры отверстия — 1,15 × 0,73 см. Данная деталь может быть отнесена к нагрудным застежкам. Сначала прибором тестировалась лицевая поверхно сть грибовидной бляхи. Получены показатели химического состава: Cu — 88,91%; Sn — 8,56%; As — 1,85%; Fe — 0,25%; Pb — 0,32%; Bi — 0,11%. Затем дважды в разных местах исследовался участок внешней стороны петлевидного крепления, на котором были удалены окислы:
— Cu — 86,53%; Sn — 10,67%; As — 2,19%; Pb — 0,53%; Fe — 0,08%;
— Cu — 87,47%; Sn — 9,89%; As — 2,14%; Pb — 0,5%.
В представленных результатах отражена выше обозначенная с итуация с присутствием мышьяка и свинца в медно-оловянном сплаве.
Третья бляха-застежка меньше предыдущих изделий и, по всей видимости, относится к категории уздечных деталей. После отливки она не была тщательно обработана (рис. 6: 5 ). Размеры грибовидной «шляпки» — 2,26 × 2,1 см, общая высота всей детали составляет 1,73 см. Параметры отверстия для ремня: 1,16 × 0,4 см. Сначала прибором тестировалась неровная
№ 18. 2024
лицевая поверхность бляхи. Зафиксирован следующий поэлементный ряд: Cu — 79,02%; Sn — 20,58%; Fe — 0,34%; Pb — 0,06%. Затем измерения проводились спектрометром дважды в разных местах на участке внешней стороны петлевидного крепления, на котором были удалены окислы:
— Cu — 80,98%; Sn — 18,87%; Pb — 0,08%; Fe — 0,07%;
— Cu — 82,57%; Sn — 17,31%; Pb — 0,07%; Fe — 0,05%.
Эти данные демонстрируют медно-оловянный (бронзовый) сплав.
Осуществленный рентгенофлюоресцентный анализ позволяет сделать ряд предварительных наблюдений и заключений разного характера. Важно отметить, что представленные детали конской амуниции и выполненные анализы свидетельствуют о наличии ремесленного производства. Это отражается в качестве изготовления и обработки изделий, а также в комбинировании приёмов формирования кинематической цепи из бронзовых удил и псалиев (Тишкин 1998: 87, рис. 2: 3 ). Обнаруженный комплект сформирован из предметов, которые выполнены из сплавов, отличающихся присутствием разных рудных примесей, что свидетельствует о нескольких источ никах получения медных руд и о системе их переработки. При этом олово было доступно в достаточном количе стве. Данное обстоятельство характерно для раннесакского периода на территории Верхнего Прииртышья и сопредельных районов (Хаврин 2008). С накоплением данных рентгенофлюоресцентных анализо в и их дальнейшего обобщения будут решаться вопросы формирования и развития традиции бронзолитейного дела у древних кочевников. При этом уже сейчас ясно, что носители майэмирской (майемерской) культуры имели свои центры такого производства. Изготовленные предметы распространялись не только в северном и северо-восточном направлении, но и в южном и юго-западном.
Аналогии представленным изделиям из найденного комплекта можно найти в основном среди материалов майэмирской (майемерской) культуры, памятники которой расположены в предгорьях Алтая (Кирюшин, Тишкин 1997; Бородаев 1998; Шульга 2008, 2016; Тишкин 2019; Самашев и др. 2023; и др.) и датируются в рамках VIII — VI вв. до н.э. На территории Кыргызстана комплекты изделий конского снаряжения раннесакского времени обнаружены при исследовании двух объектов в местности Кичи-Ача, которая находится в высокогорной долине Внутреннего Тянь-Шаня (Табалдиев 2017: 581—582, фото 1; 2). Для территории Восточного Казахстана отметим недавно опубликованные результаты раскопок объекта № 6 на памятнике Курук- II , где также найдена наносная или нагрудная подвеска в виде головы верблюда (Самашев 2022: 17, рис. 6). Одним из базовых погребальных комплексов для изучения майэмирской (майемерской) культуры является Гилево-10 (Шульга 2016: 120—123, 128, рис. 44: 3, 19—26 , 45: 19 ), где также обнаружены аналогичные изделия из цветного металла для конского снаряжения.
Основные различия между удилами раннесакского вр емени прослеживаются в оформлении внешних окончаний и в способах их соединения с псалиями. В нашем случае в округлое дополнительное отверстие внешнего окончания вставлялся шпенёк, специально сделанный и прочно закрепленный в центральном отверстии металлического псалия. Фиксировалось соединение стопорным шплинтом. Полные аналогии псалиям из Горной Маевки на сегодняшний день нам неизвестны, и они могут быть выделены в отдельный тип. Однако в упомянутом уздечном комплекте из Кичи-Ача (Табалдиев 2017: 582, фото 1) имеется целый псалий с центральным отверстием, в которое мог вставляться отсутствующий шпенёк для соединения с удилами такой же конструкции, идентичными находкам из Горной Маевки. Второй аналогичный псалий сломан напополам. На удилах, обнаруженных случайно на окраине с. Узынагаш (Алматинская обл.), имеются такие же сработанные дополнительные округлые отверстия, а также рифленый орнамент (рис. 7: 1 ). Похожее изделие происходит с территории Восточного Казахстана (рис. 7: 2 ). Еще одни удила рассматриваемого типа были случайно найдены в окрестно стях г. Каракол (Иссык-Кульская обл., Кыргызстан). Грызла их имеют рифление, а отверстия в центр е сильно изношены (рис. 7: 3 ).
Комплект бронзовых изделий раннесакского времени № 18. 2024 для конского снаряжения из Горной Маевки (Кыргызстан)
Вероятнее всего, зафиксированный «р едкий» вариант соединения удил и псалиев (рис. 8: 6 ) бытовал весьма непр одолжительное время в связи с появлением других и более эффективных в функциональном отношении типов (рис. 8). Часто информация о принципах формирования ремней, а также о механизмах фиксации разных деталей снаряжения верховой лошади утрачивается. Однако следует отметить, что выявленное новое соединение по своей конструктивной особенности имеет относительное сходство с применением металлических псалиев (У-образных и с Т-образным выступом) в удилах с пешковидными отверстиями на окончаниях (Бородаев 1998: 57, рис. 4: 3—5 ; Тишкин 1998: 79—81, рис. 1: 1 , 2: 1—3 ; Шульга 2008: 75—76; Толеубаев и др. 2020: 186, рис. 15: 2 ; и др.). Вероятнее всего, подобный вариант имел свой мягкий прототип (рис. 8: 7, 12 ). Так, в кургане № 2 могильника Тасмола-V и в кургане № 1 памятника Тасмола-VI (Центральный Казахстан) был зафиксирован случай соединения удил с щёчными ремнями оголовья через дополнительные отверстия внешних стремевидных окончаний (Кадырбаев 1968: 29, рис. 2: 1, 5 ). Подобный способ М.П. Грязнов рассматривал как один из вариантов реконструкции раннесакской узды (Грязнов 1947: 10, рис. 3: 1 ).
Представленные находки из Горной Маевки являются чрезвычайно значимыми изделиями для дальнейшей систематизации, классификации и типологи и как отдельных элементов снаряжения верховой лошади раннесакского времени, так и их совокупно сти для решения ключевых проблем при изучении материальной культуры древних кочевников Евразии.
Заключение
В заключение остановимся на датировке публикуемого комплекта. Имеющиеся дополнительные отверстия на внешних окончан иях удил М.К. Кадырбаев считает ранним признаком для такой категории изделий (Кадырбаев 1968: 30). В настоящее время наиболее хорошо разработана хронология для памятников раннескифского времени Тувы. Особенно это касается кургана Аржан-2 (Чугунов и др. 2017), который на основе комплексного анализ а датируется последней четвертью VII в. до н.э. (Чугунов 2011: 311). Среди обнаруженных там металлических предм етов конского снаряжения нет комплектов, аналогичных находкам из Горной Маевки, хотя отдельные детали оформления пр исут ствуют. Несмотря на существенную отдаленность Тывы от Кыргызстана, данная ситуация может быть относительным маркером при определении верхней границы рассмотренного комплекса. Ближе находится уже упомянутый археологиче ский комплекс майэмирской (майемерской) культуры Гилево-10. Группу объектов № 5 автор раскопок датирует в пределах 2-й пол. VII — начала VI в. до н.э., как и находки из ограды № 17 могильника Измайловка (Шульга 2016: 94). По фрагменту кожи из одного погребения памятника Гилево-10 была получена радиоуглеродная датировка 2490±45 BP (GrA-24421), которая после калибровки обозначила такие календарные показатели: по 1δ (68,2%) — 770—520 BC и по 2δ (95,4%) — 790—480 BC (Алексеев и др. 2005: 137). Исходя из этих данных, устанавливается широкая хронология — от первой трети VIII до рубежа VI и V вв. до н.э. Более детальные датировки могут быть получены при радиоуглеродном датировании костных образцов от лошадей и овец из этого базового памятника на территории западных предгорий Алтая. Таким образом, опираясь на имеющиеся хронологические показатели, комплект из Горной Маевки можно предварительно датировать в рамках VIII — VII вв. до н.э.
Список литературы Комплект бронзовых изделий раннесакского времени для конского снаряжения из Горной Маевки (Кыргызстан)
- Алексеев и др. 2005: Алексеев А.Ю., Боковенко Н.А., Васильев С.С., Дергачев В.А., Зайцева Г.И., Ковалюх Н.Н., Кук Г., ван дер Плихт Й., Посснерт Г., Семенцов А.А., Скотт Е.М., Чугунов К.В. 2005. Евразия в скифскую эпоху: Радиоуглеродная и археологическая хронология. Санкт-Петербург: Теза.
- Бейсенов А.З., Шаблавина Е.А. 2015. Особенности литья предметов конского снаряжения тасмолинской культуры. Вестник Томского государственного университета. История 4 (36), 105—112.
- Бесетаев Б.Б. 2014. История изучения конского снаряжения кочевников Восточного Казахстана скифо-сакского времени. Вестник НГУ. Серия: История, филология 13. 7. Археология и этнография, 17— 28.
- Бесетаев Б.Б. 2015. Некоторые вопросы эволюции конского снаряжения скифо-сакского времени Восточного Казахстана. Вестник НГУ. Серия: История, филология 14. 7. Археология и этнография, 24—29.
- Боковенко Н.А. 1981. Динамика развития конской сбруи в скифское время на Алтае (к проблеме цикличности инноваций). В: Массон В.М., Боряз В.Н. (отв. ред.). Преемственность и инновации в развитии древних культур. Ленинград: Наука, 55—57.
- Боковенко Н.А. 1986. Начальный этап культуры ранних кочевников Саяно-Алтая (по материалам конского снаряжения): автореф. дисс. … канд. ист. наук. Ленинград: ЛО ИА АН СССР.
- Бородаев В.Б. 1998. Вакулихинский клад (комплекс находок раннескифского времени с местонахождения Вакулиха-1). В: Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А. (отв. ред.). Снаряжение верхового коня на Алтае в раннем железном веке и средневековье. Барнаул: Алтайский университет, 56—73.
- Вайнштейн С.И. 1989. Конская сбруя. В.: Бромлей Ю.В., Штробах Г. (ред.). Свод этнографических понятий и терминов. Материальная культура. Москва: Наука, 69—72.
- Вальчак С.Б. 2009. Конское снаряжение в первой трети I-го тыс. до н. э. на Юге Восточной Европы. Москва: Таус.
- Грязнов М.П. 1947. Памятники майэмирского этапа эпохи ранних кочевников на Алтае. КСИИМК 18, 9—17.
- Кадырбаев М.К. 1968. Некоторые итоги и перспективы изучения археологии раннежелезного века Казахстана. В: Кадырбаев М.К. (отв. ред.). Новое в археологии Казахстана. Алма-Ата: Наука, 21— 36.
- Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А. 1997. Скифская эпоха Горного Алтая. Ч. I. Культура населения в раннескифское время. Барнаул: Алтайский университет.
- Марсадолов Л.С. 1998. Основные тенденции в изменении форм удил и псалиев и пряжек коня на Алтае в VIII—V вв. до н.э. В: Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А. (отв. ред.). Снаряжение верхового коня на Алтае в раннем железном веке и средневековье. Барнаул: Алтайский университет, 5—24.
- Марсадолов Л.С., Тишкин А.А. 1998. Основная библиография печатных работ археологов за последние 50 лет (1947—1997) по конскому снаряжению I тыс. до н.э. в степной полосе Евразии. В: Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А. (отв. ред.). Снаряжение верхового коня на Алтае в раннем железном веке и средневековье. Барнаул Алтайский университет, 91—92.
- Минасян Р.С. 1994. Способы литья бронзовых удил в предскифское и скифское время. В: Алексеев А.Ю., Боковенко Н.А., Марсадолов Л.С., Семёнов Вл.А. (ред.). Элитные курганы степей Евразии в скифо- сарматскую эпоху. Санкт-Петербург: ИИМК РАН; ГЭ, 157—163.
- Самашев З. 2022. Об одном погребально-поминальном обряде у ранних саков. Археология Казахстана (Қазақстан археологиясы) 3 (17), 9—31.
- Самашев и др. 2023: Самашев З., Чотбаев А.Е., Бесетаев Б.Б. 2023. Новые данные о снаряжении лошади раннесакского времени (по материалам кургана № 1 могильника Акжайлау, Восточный Казахстан). Археология Казахстана (Қазақстан археологиясы) 2 (20), 9—29.
- Степанова Е.В. 2005. Эволюция подпружных застежек по материалам курганов Алтая скифского времени. В: Тишкин А.А. (отв. ред.). Снаряжение кочевников Евразии. Барнаул: Алтайский университет, 109—115.
- Табалдиев К.Ш. 2017. Древние этнокультурные связи Алтая и Тянь-Шаня (Тенир-Тоо, Ала-Тоо). Мир Большого Алтая 3 (4), 580—595.
- Тишкин А.А. 1998. Находки некоторых элементов конского снаряжения скифской эпохи скифской эпохи в предгорной зоне Алтая. В: Кирюшин Ю.Ф., Тишкин А.А. (отв. ред.). Снаряжение верхового коня на Алтае в раннем железном веке и средневековье. Барнаул: Алтайский университет, 78—90.
- Тишкин А.А. 2020. Предметы конского снаряжения аржано-майэмирского времени из Змеиногорского музея (Алтайский край) и перспективы их дальнейшего изучения. В: Черная М.П. (отв. ред.).
- Краткие материалы XVIII Международной Западносибирской археолого-этнографической конференции: «Западная Сибирь в транскультурном пространстве Северной Евразии: итоги и перспективы 50 лет исследований ЗСАЭК». Томск: ТГУ. URL: http://zsaek.tsu.ru/sites/default/les/webform/ Тишкин%20АА.pdf (дата обращения 11.08.2024).
- Тишкин А.А. 2024. Металлические удила со стремевидными окончаниями из местонахождения Гуселетово-VI (Романовский район Алтайского края): комплексное описание и рентгенофлюоресцентный анализ. Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края XXХ, 261—267.
- Тишкин А.А. 2019. Майэмирская (майемерская) культура. В: Тишкин А.А. (ред.). История Алтая. Т. 1. Древнейшая эпоха, древность и средневековье. Барнаул: Алтайский университет; Белгород: Константа, 201—210.
- Тишкин А.А., Горбунова Т.Г. 2004. Методика изучения снаряжения верхового коня эпохи раннего железа и Средневековья. Барнаул: Алтайский университет.
- Толеубаев и др. 2020: Толеубаев А.Т., Жуматаев Р.С., Омаров Г.К., Шакенов С.Т., Бесетаев Б.Б., Ергабылов А.Е. 2020. Результаты археологических исследований 2019 г. на могильнике Елеке сазы 2. В: Байтанаев Б.А. (ред.). Маргулановские чтения-2020: материалы международной научно-практической конференции «Великая Степь в свете археологических и междисциплинарных исследований» (г. Алматы, 17—18 сентября 2020 г.). Т. 2. Алматы: ИА КН МОН РК, 180—205.
- Хаврин С.В. 2008. Анализ состава раннескифских бронз Алтая. В: Шульга П.И. Снаряжение верховой лошади и воинские пояса на Алтае. Ч. I. Раннескифское время. Барнаул: Азбука, 173—178.
- Чекин и др. 2019: Чекин А.Г., Тулегенов Т.Ж., Бесетаев Б.Б. 2019. К вопросу о культурной принадлежности населения раннесакского времени Жетысу. В: Байтанаев Б.А., Хабдулина М.К. (отв. ред.). Маргулановские чтения—2019: материалы Международной археологической научно-практической конференции, посвященной 95-летию со дня рождения выдающегося казахстанского археолога К.А. Акишева. Нур-Султан: НИИ археологии им. К.А. Акишева; ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 409—417.
- Чугунов К.В. 2005. Уздечные комплекты алды-бельской культуры в контексте развития конского снаряжения. В: Тишкин А.А. (отв. ред.). Снаряжение кочевников Евразии. Барнаул: Алтайский университет, 103—109.
- Чугунов К.В. 2011. Аржан-2: реконструкция этапов функционирования погребально-поминального комплекса и некоторые вопросы его хронологии. Российский археологический ежегодник 1, 262—335.
- Чугунов и др. 2017: Чугунов К.В., Парцингер Г., Наглер А. 2017. Царский курган скифского времени Аржан-2 в Туве. Новосибирск: ИАЭт СО РАН.
- Шульга П.И. 2008. Снаряжение верховой лошади и воинские пояса на Алтае. Ч. I. Раннескифское время. Барнаул: Азбука.
- Шульга П.И. 2013. Конское снаряжение ранних кочевников Минусинской котловины (по материалам Минусинского музея им. Н.М. Мартьянова). Новосибирск: РИЦ НГУ.
- Шульга П.И. 2015. Снаряжение верховой лошади в Горном Алтае и Верхнем Приобье. Ч. II.(VI—III вв. до н.э.). Новосибирск: РИЦ НГУ.
- Шульга П.И. 2016. Могильник раннескифского времени Гилево-10 в предгорьях Алтая. Новосибирск: ИПЦ НГУ.
- Besetayev B.B. 2021. Typology of horse equipment of the Early Saka period. Al-Farabi Kazakh National University Bulletin of history 1 (100), 120—130.
- Samashev Z. 2021. My kingdom for a horse: saka-scythian horse-human relations. In: Roberts R. (ed.). Gold of the Great Steppe. London: Paul Holberton Publishing, 119—136.
- Yermolayeva A.S., Yerzhanova A.E., Dubyagina Y.V. 2024. The Taldysay Settlement: a Site of Ancient Metallurgy in the Zhezkazgan-Ulytau Mining and Metallurgical Center. Qazaq Historical Review. Vol. 2. No. 1, 6—18.