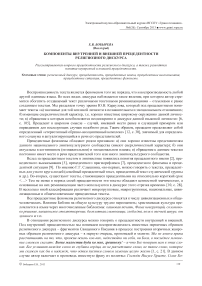Компоненты внутренней и внешней прецедентности религиозного дискурса
Автор: Бобырева Екатерина Валерьевна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 6 (26), 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются вопросы прецедентности религиозного дискурса, а также разводятся понятия внутренней и внешней прецедентности.
Религиозный дискурс, прецедентность, прецедентные имена, прецедентные высказывания, прецедентные ситуации, прецедентные феномены
Короткий адрес: https://sciup.org/14821973
IDR: 14821973
Текст научной статьи Компоненты внутренней и внешней прецедентности религиозного дискурса
Воспроизводимость текста является феноменом того же порядка, что и воспроизводимость любой другой единицы языка. Во всех видах дискурса наблюдается такое явление, при котором автор стремится обогатить создаваемый текст различными текстовыми реминисценциями – отсылками к ранее созданным текстам. Мы разделяем точку зрения Ю.Н. Караулова, который под прецедентными понимает тексты «а) значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях; б) имеющие сверхличностный характер, т.е. хорошо известные широкому окружению данной личности; в) обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [6, с. 105]. Прецедент в широком смысле – случай, имевший место ранее и служащий примером или оправданием для последующих случаев подобного рода. Таким образом, прецедент представляет собой определенный «стереотипный образно-ассоциативный комплекс» [12, с. 30], значимый для определенного социума и актуализирующийся в речи его представителей.
Прецедентные феномены обладают рядом признаков: а) они хорошо известны представителям данного национального лингвокультурного сообщества (имеют сверхличностный характер); б) они актуальны в когнитивном (познавательном) и эмоциональном планах; в) обращение к данным текстам постоянно имеет место в речи представителей того или иного лингвокультурного сообщества.
Вслед за прецедентным текстом в лингвистике появились понятия прецедентного имени [2], прецедентного высказывания [5], прецедентного прагморефлекса [7], прецедентного феномена и прецедентной ситуации [9]. По мнению Г.Г. Слышкина, «во-первых, можно говорить о текстах, прецедентных для узкого круга людей (семейный прецедентный текст, прецедентный текст студенческой группы и др.). Во-вторых, существуют тексты, становящиеся прецедентными на относительно короткий срок <…> Тем не менее в период своей прецедентности эти тексты обладают ценностной значимостью, а основанные на них реминисценции часто используются в дискурсе этого отрезка времени» [10, с. 28]. В несколько иной классификации различают микрогрупповые, макрогрупповые, национальные, цивилизационные и общечеловеческие прецедентные тексты.
Все прецедентные феномены религиозного дискурса относятся к числу цивилизационных и общечеловеческих. Влияние Библии на общую культуру трудно переоценить; христианская культура преломляется в языке через многочисленные библеизмы: каиновая печать, Фома неверующий, соломоново решение, вавилонское столпотворение, бесплотная смоковница, злоба дня, волк в овечьей шкуре, от лукавого и т.п.
В отношении религиозного дискурса можно говорить о прецедентности внутренней и внешней. Под внутренней прецедентностью мы понимаем воспроизводимость известных первичных образцов религиозного дискурса – фрагментов Священного Писания в процессе построения вторичных жанровых образцов религиозного дискурса – в первую очередь, проповедей и молитв: Мы не имеем права рассчитывать на то, что, прожив жизнь кое-как, недостойно ни себя, ни Бога, в последнее мгновение сможем сказать: Боже милостив буди ко мне, грешному! – и что Бог поверит нам в этих словах. Бог услышит каждое слово из глубины сердца, но не расчетливое слово, не такое слово, которое мы скажем как бы в надежде, что одним пустым словом заменим целую жизнь [1, с. 21]. В данном случае автор включает в проповедь известную фразу из молитвы: Господи Иисусе Христе, Сыне Бо- жий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй нас. Боже, милостив буди ко мне грешному. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! [8, с. 4]. Указанная молитва, в свою очередь, с некоторыми изменениями взята из Евангелия от Луки: Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже! Будь милостив ко мне грешнику!» (Лк. 18: 13).
Прецедентный феномен может включаться в текст проповеди с целью усиления эмоциональности и воздействия на адресата: Сегодня, поклоняясь Кресту Господню, мы с новой силой можем понять, с новой глубиной мысли уловить, что означает царское достоинство и служение Господа нашего Иисуса Христа: оно означает любовь такую всецелую, такую совершенную, что Христос может позабыть о Себе совсем, неограниченно; позабыть о Себе до такой степени и отождествить Себя с нами так, что Он соглашается, в Своем человечестве, утратить чувство Своего единства с Богом, с источником вечной жизни, – больше того: с вечной жизнью в Себе Самом, и соединиться с нашей мер-твостью, с нашей смертностью. Такая любовь делает Господа Иисуса Христа нашим достойным Царем; перед такой царственностью преклоняется всякое колено (Флп. 2: 10). И потому что Он таков, Он может быть и первосвященником всей твари [1, с. 39–40].
Внутренняя прецедентность выполняет ряд вполне определенных задач: а) прецедентные высказывания (например, в тексте проповеди) могут использоваться с целью поместить упоминаемый факт в определенную историческую (библейскую) перспективу, что придает данному факту более значимый вес; б) в ряде случаев появление текстовой реминисценции в новом тексте (например, в проповеди) связано с желанием адресанта использовать уже имеющийся образ в новом сообщении, оживляя текст проповеди; в) текстовая реминисценция может использоваться как ссылка на авторитет; г) подтверждение правильности передаваемой мысли через указание на ее источник; д) опора на прецедентный текст может выполнять эстетическую подзадачу, обращая внимание адресата на уже существующий яркий образ.
Говоря о внешней прецедентности, целесообразно рассмотреть прецедентные имена, прецедентные высказывания, прецедентные ситуации.
Прецедентное имя – имя, связанное с а) широко известным текстом (как правило, относящимся к разряду прецедентных); б) ситуацией, широко известной носителям языка. Прецедентные имена – «абстрактные имена, указывающие на ключевые концепты национальной культуры, двусторонние имена, а также некоторые имена, денотаты которых выступают как эталоны времени, пространства, меры, а сами имена отражают соматический, зооморфный и другие коды культуры» [3, с. 142].
В религиозном дискурсе к разряду прецедентных могут быть отнесены как имена нарицательные ( ангел, сатана, бог, богиня, папа ), так и собственные ( Иисус, Илья, Моисей, Николай Чудотворец, Святой Петр, Магдалина, Иуда и т.п.). Прецедентное имя служит для указания на единичный объект (реальный или воображаемый) и может употребляться денотативно (для наименования объекта) и конно-тативно (для характеристики объекта). Экспрессивность прецедентного имени позволяет использовать его в виде прозвища, которое закрепляет за тем или иным лицом эмоциональную характеристику в определенном социуме. Большое количество личных имен, функционирующих в тексте Святого Писания, в силу широкой известности и частого употребления перешли в разряд прецедентных: Лазарь, Магдалина, Фома , Каин и т.п. В свернутом виде прецедентное имя представляет собой модель поведения, выступающую в качестве символа. Использование прецедентного имени, как правило, всегда влечет за собой актуализацию прецедентной ситуации.
Прецедентное имя может акцентировать внимание на определенном контексте (религиозном): …Но министр как-то изловчился, и новорожденный благополучно появился на свет. Случилось это в день Николая Чудотворца, поэтому ребенка нарекли Николозом. Саакашвили увидел в этом имени чудесный знак .
В ряде случаев прецедентное имя может выступать не только заместителем определенной ситуации, но и неким символом – заместителем всего религиозного учения: Великий комбинатор не любил ксендзов. В равной степени он отрицательно относился к раввинам, далай-ламам, попам, муэдзинам и прочим служителям культа [4, с. 383]. Прецедентное имя, как и любое индивидуальное имя, именует предмет, указывая на денотат. Дифференциальные признаки прецедентного имени во многом игнорируются, но сохраняется связь имени с породившим его текстом. Особенностью прецедентного имени является его способность функционировать в качестве сложного знака, который помимо набора значений, обладает инвариантом восприятий объекта или субъекта.
Прецедентное высказывание, в отличие от прецедентного имени, есть «репродуцируемый продукт речемыслительной деятельности, законченная и самодостаточная единица, <…> сложный знак, сумма значений компонентов которого не равна его смыслу» [3, с. 107]. Прецедентное высказывание неоднократно воспроизводится в речи и входит в когнитивную базу носителей языка. Паремиологический фонд как русского, так и английского языков изобилует прецедентными высказываниями, имеющими религиозную основу: алчущие и жаждущие , бить себя в грудь , внести свою лепту , возвратиться на круги своя, всему свое время, выпить/испить чашу до дна, глас вопиющего в пустыне , дар божий, запретный плод, злачное место, злоба дня , камень преткновения, копать яму другому, плоть от плоти , краеугольный камень, крошки с барского стола , кто ищет, тот всегда найдет, кто не работает, тот не ест , между небом и землей, на седьмом небе , соль земли , умыть руки, хромать на обе ноги и т.п.
Прецедентное высказывание, так же как и прецедентное имя, ассоциируется с целой ситуацией, не может быть сведено к одному слову; за прецедентным высказыванием стоит целый прецедентный текст. Прецедентное высказывание перестает быть единицей языка и становится единицей дискурса. Применительно к религиозному дискурсу представляется возможным говорить о том, что функционирующие здесь прецедентные высказывания представлены собственно цитатами, поскольку полное воспроизведение текста невозможно из-за объема последнего: «Никогда не говори никогда». Но мысли у меня такой, не в обиду русским мужчинам, не было. Мусульманские женщины могут выходить только за мусульман. Прецедентное высказывание акцентирует внимание на более значимых фразах, репликах Священного Писания, ярких фразах определенного религиозного учения, которые в силу своей известности и частой воспроизводимости глубоко вошли в сознание носителя языка – носителя языка вообще, независимо от его религиозной принадлежности и разделяемых взглядов. Прецедентное высказывание может использоваться для усиления смысла, заложенного автором.
Прецедентные высказывания, функционирующие в рамках религиозного дискурса, могут быть разделены на канонические (употребляемые без изменений) и трансформированные (те, в которых присутствуют изменения). В рамках трансформированных высказываний можно выделить те, в которых имеет место:
Прецедентная ситуация в отличие от прецедентного имени и прецедентного высказывания, с одной стороны, есть динамическое событие, с другой – статичный отрезок действительности, застывшее положение дел. Ярким примером прецедентной ситуации может служить, например, предательство Иисуса Христа Иудой, ставшее «эталоном» предательства вообще.
Прецедентные ситуации, в отличие от других прецедентных феноменов, не могут рассматриваться как вербальные феномены. Они могут только вербализовываться, но устойчивых и стереотипных форм их вербализации не существует. Прецедентная ситуация принадлежит когнитивному сознанию и выводится на языковой уровень с помощью различных средств вербальной коммуникации; «...говорящий или пишущий вспоминает в процессе производства нового текста какую-то ситуацию, выражение из старого текста и в том или ином виде включает ее в новый текст» [11, с. 22]. Некоторые прецедентные ситуации имеют конкретное наименование, например «Вавилон», «Голгофа» и т.п. Стереотипная ситуация может апеллировать к конкретной ситуации, имевшей место в прошлом, которая приобретает статус прецедентной и оказывается эталоном для ситуаций такого рода. Прецедентное имя в данном случае может выступать в качестве знака этой прецедентной ситуации: Иуда – грех, предательство, Магдалена – раскаяние, Христос – страдание, спасение, Адам и Ева – первооснова, первородный грех и т.д.
В отношении религиозного дискурса представляется возможным выделить еще и такую категорию, как прецедентный феномен. Прецедентные феномены могут быть как вербальными (тексты как продукты речемыслительной деятельности), так и невербальными (произведения живописи, скульптуры, музыки, разнообразные артефакты).
К разряду прецедентных в рамках религиозного дискурса относятся:
-
а) понятия, характерные для религиозного дискурса: «религиозные заповеди», «церковные таинства», «акт очищения», «исповедь», «схождение священного огня», «пост», «молитва»;
-
б) жесты, используемые в рамках религиозного дискурса: «осенение крестным знамением», «земной поклон»;
-
в) абстрактные понятия: «апокалипсис», «грех», «преисподняя», «искушение».
Все прецедентные феномены религиозного дискурса позволяют глубже проникнуть в его структуру и понять все детали проявления и функционирования последнего. Кроме того, ценностная картина религиозного дискурса будет неполной при исключении из поля зрения вопросов прецедентности. Прецедентность выступает до некоторой степени показателем ценностной значимости любого текстового фрагмента.
Список литературы Компоненты внутренней и внешней прецедентности религиозного дискурса
- Воскресные проповеди. СПб., 2003
- Гудков Д.Б. Прецедентные имена и парадигма социального поведения//Лингвистические и лингводидактические проблемы коммуникации. М., 1996. С. 58-69
- Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. М., 2003
- Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок. Саратов, 1991
- Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д. Как тексты становятся прецедентными//Русский язык за рубежом. 1994. № 1. С. 73-76
- Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987
- Красных В.В. Когнитивная база vs культурное пространство в аспекте изучения языковой личности (к вопросу о русской концептосфере)//Язык, сознание, коммуникация. М., 1997. Вып. 1. С. 81-91
- Православный молитвослов. Издательский Совет русской православной церкви, М., 2002
- Прохоров Ю.Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев. М., 1996
- Слышкин Г.Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. М., 2000
- Супрун А.Е. Текстовые реминисценции как языковое явление//Вопр. языкознания. 1995. № 6. С. 17-29
- Телия В.Н. Человеческий фактор в языке. Язык и картина мира. М., 1988