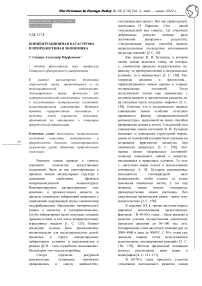Концентрационная катастрофа и природогенная экономика
Автор: Свитин Александр Парфенович
Журнал: The Newman in Foreign Policy @ninfp
Статья в выпуске: 66 (110), 2022 года.
Бесплатный доступ
В разделе рассмотрены тенденции современной науки, проявляющиеся в ее технократической модальности. Анализируются такие феномены как материаловедческая конъюнктура, склонность к исследованиям экстремальных состояний, концентрационная катастрофа. Вводится понятие «природогенная экономика», в качестве новой парадигмы экономики, адекватной по отношению к концепции природогенной цивилизации.
Технонаука, экстремальные состояния вещества, материальные и природогенные балансы, концентрационное загрязнение среды обитания, природогенная экономика
Короткий адрес: https://sciup.org/14124844
IDR: 14124844 | УДК: 327.8
Текст научной статьи Концентрационная катастрофа и природогенная экономика
Развитие химии привело к синтезу огромного количества искусственных соединений. Часть из них синтезировалась в процессе поиска молекулярных структур с заданными свойствами (феномен материаловедческой конъюнктуры). Неконтролируемое распространение этих конечных и промежуточных веществ за пределы химических лабораторий приводило к загрязнению окружающей среды химическими полуфабрикатами. Накопление эмпирического знания о веществе в экспериментальных, сугубо лабораторных целях допускает создание промежуточных, в том числе неприродогенных агрессивных веществ [1. С. 125]. Однако последние должны быть предназначены исключительно для исследовательских целей, храниться в строго контролируемых лабораторных условиях и использоваться в режиме ДСП – «для служебного пользования». Рассмотрим этот подход подробнее.
Следуя стратегии ресурсной конъюнктуры, технонаука неизбежно превращалась в «науку крайностей», достижения рекордного результата. «Экстремальная наука» способна вызвать непредсказуемые последствия исчезновения науки как таковой» [2. С. 10].
Как показал В. И. Кузнецов, в истории химии можно выделить этапы, на которых «…химические процессы осуществлялись по-разному, то преимущественно в экстремальных условиях, то в нормальных» [3. С. 158]. Так, «периоды алхимии и флогистона… характеризовались явным креном в сторону экстремальных состояний. Тогда исследователи только еще знакомились с составом веществ и предпочитали разлагать их на составные части, пользуясь «жаром»» [3. С. 158]. Отметим, что в алхимическом периоде становления химии особенно отчетливо проявляется фактор «материаловедческой конъюнктуры», нацеленной на поиск способов превращения свинца в золото. Следующий этап становления химии состояний В. И. Кузнецов связывает «с появлением структурной теории, одним из положений которой было указание на сохранение фрагментов молекулы при химических процессах» [3. С. 158]. Этот период химии «нормальных состояний» позволил накапливать знания о веществе, находящемся в природных условиях. То есть «…наступила новая полоса в использовании температур. А. М. Бутлеров рекомендовал пользоваться «температурой мало возвышенной», чтобы следить за ходом изменения химических частиц. С тех пор возникла химия низких температур, преимущественно химия растворов. Вся классическая органическая химия – яркое тому свидетельство» [3. С. 158].
К середине XX в. «вновь наступил период широкого использования энергетических факторов… В 40-50-х годах… были введены в качестве условия осуществления химических процессов давления до 50–100 тыс. атм. Одновременно стали вводиться температуры до 2000–4000 и даже до 5000°С. С 50-х годов уже довольно широко стали использоваться всевозможные инициирования реакций» [3. С. 158, 159]. Методы физической активации молекул рассмотрены нами ранее в монографии [4. С. 141–173].
В 60-70-х годах прошлого столетия «тенденции интенсивного развития химии
экстремальных состояний… реализуются в форме все новых и новых областей химии, – таких как «химия низкотемпературной плазмы» (это химия при температурах 1000– 4000°С), «химия высоких скоростей», «химия сверхвысоких давлений», радиационная химия, «химия высоких энергий», «химия горячих атомов» и т. д.» [3. С. 159]. Как показал В. И. Кузнецов, перечисленные «…области химии, несмотря на их различия, имеют то общее, что они связаны с применением энергетической активации, а это прямо противоположно каталитической химии (курсив мой. – А. С. )» [3. С. 159]. Это замечание представляется нам весьма существенным. Упомянутая «энергетическая активация» является, согласно нашей классификации активационных процессов [4], физической активацией. Наряду с последней существует химическая активация молекул, реализующаяся в каталитических процессах, в том числе и в биокаталитических реакциях. Именно этот тип активации представляется нам наиболее природогенным, ибо он свойственен биологическим системам, не нарушающим в ходе своей эволюции природогенных балансов вещества. В монографии «Методы расчета параметров активации молекул» описаны процессы химической активации молекул и способы оценки барьеров активации каталитических процессов в рамках вибронной теории молекулярных взаимодействий [4. С. 101–141].
Как отмечает В. И. Кузнецов, между химией нормальных состояний (t=0–300°С; Р=1–10 атм) и химией низких температур (t<<0°С; P=вакуум) «…нет принципиальных различий: посредничество катализаторов и там и здесь обеспечивает непрерывное снижение энергии исходных связей и приводит к тому, что реакции как качественные химические преобразования вещества совершаются в форме постепенности (курсив мой. – А. С . )» [3. С. 159]. Мы полагаем, что именно эта «постепенность» обеспечивает природогенные условия образования вещества.
Что же касается химии экстремальных состояний (t>>1000–4000°С; P=104–105 атм; радиация и т. п.), то она «…характеризуется полным разрывом исходных связей и часто дискретным переходом частиц на новые энергетические уровни. Реакции в этой области совершаются уже не в форме постепенности, а резкими скачками» [3. С. 159].
Как подчеркивает В. И. Кузнецов, «по сути дела, вся классическая химия в той или иной степени каталитическая (т. е. химия нормальных состояний. – А. С .), так как наряду с чисто энергетической активацией изучаемые ею процессы протекали и посредством активации через катализаторы, стенки сосудов, растворители и т. д. Но теперь все больше и больше дает о себе знать химия экстремальных состояний и прежде всего – та ее ветвь, которая характеризуется применением высоких температур, радиации и высоких давлений» [3. С. 160–170].
В. И. Кузнецов полагает, что «главным стимулом развития химии экстремальных состояний, несомненно, являются достижения ядерной энергетики… По вопросу о том, как повлияет изобилие ядерной энергии на будущее химии, можно привести много интересных предположений. Но все они в конечном счете сводятся к тому, что человек уже теперь должен готовить те пути, которые позволят наиболее рационально перестраивать молекулы, кристаллы и иные агрегаты атомов (курсив мой. – А. С. ) с целью получения все новых и новых соединений» [3. С. 170-171]. Указанная цель вытекает из материаловедческой конъюнктуры поиска «все новых и новых соединений», обладающих все новыми и новыми свойствами. Как раз на этом пути исследователи синтезируют множество веществ, способных вступать в «резус-конфликт» с пулом природогенных веществ, состоящим из естественных первоприродных соединений, а также из той части искусственных второприродных соединений, полученных в реакционных условиях, соответствующих химии «нормальных состояний», которые обладают свойствами природогенности.
В. И. Кузнецов задается вопросом: «можно ли полагать, что химии экстремальных состояний суждено, так сказать, догнать и перегнать химию нормальных состояний? Какой путь развития химии будет ведущим?» [3. С. 171]. И вот как он отвечает на свой вопрос: «…химические исследования во все времена истории химии… находились в зависимости от уровня организации вещества. Отражая эту организацию, они поднимались со ступени на ступень, позволяя постигать все более и более высокоорганизованные формы химических отношений, соответствующие все более сложным многофункциональным соединениям. Вершины абиотической
химической организации находятся… в районе биогенеза, т. е. там, где экстремальные условия исключены . Место расположения этого района можно установить лишь в результате изучения законов эволюции, … которые дают ключ к эволюционному катализу (выделено мной. – А. С. ) - высшей ступени химизма. Путь же к ней - это путь развития каталитической химии, т. е. химии нормальных состояний» [3. С. 171]. Таким образом, именно с химией нормальных состояний В. И. Кузнецов связывает магистральное развитие химии, полагая, что «лишь на этом пути возможно планомерное усложнение и повышение уровня организации веществ вплоть до получения ферментоподобных соединений. Последние… способны стать средством такого синтеза, который протекает при нормальных условиях и обеспечивает 100%-ный выход целевых продуктов» [3. С. 171-172].
В. И. Кузнецов полагает, что в рамках химии экстремальных состояний будут развиваться металлохимия, гидрохимия и другие разделы химии. Однако для развития «.химии высокоорганизованных - и тем более предбиологических - систем, с которыми связано большинство отраслей химии, в том числе неорганической» [3. С. 172] экстремальные состояния неприемлемы.
И тем не менее химия экстремальных состояний, мотивируемая материаловедческой конъюнктурой, продолжает развиваться, создавая множество искусственных соединений, в том числе обладающих агрессивностью, «недружественностью» по отношению к корпусу веществ природогенной хемосферы, не говоря уже о биосфере. Это ведет к поступательному нарушению природных (природогенных) балансов веществ.
Есть основание говорить о конфликте вещественных балансов, состоящем в противостоянии природогенного баланса веществ и промышленно-технологических «материальных балансов». Согласно М. З. Бору [5], последние означают «систему показателей, характеризующих ресурсы какого-либо продукта в сопоставлении с потребностями в нем. Материальные балансы используются для выявления степени обеспеченности производства соответствующими видами и установления правильных пропорций в… хозяйстве». Таким образом, материальные балансы направлены на «согласование потребностей и ресурсов на данном этапе развития… хозяйства» [5]. В рамках технологической парадигмы природопотребления в показателях материальных балансов «…проявляется внутреннее единство и взаимозависимость всех элементов общественного производства» [5]. Природные же балансы материалов, веществ и полей проявляются как единство взаимоотношений между собой природных элементов, характеризуемое целостностью объектов реальности. Отмеченные различия балансов (материальных и природных) приводят к их конфликту, выражающемуся в неблагоприятных экологических последствиях.
Технонаука, ориентированная на материально-балансовую конъюнктуру производства, фундирует технологическую стратегию природопользования, учитывающего главным образом природопотребительский ценностный подход, ведущий к диспропорциям природных балансов. Природогенный императив задает другой вектор, ориентированный на природопостижение, сохраняющее природные балансы, восстанавливающие (реабилитирующие) те участки природных балансов, которые были нарушены вследствие технологического воздействия на них, обусловленного материаловедческой конъюнктурой.
Балансовый метод современной (технонаучной) экономики «…позволяет вскрывать частичные диспропорции (курсив мой. - А. С. ) в развитии отраслей и помогает принять меры по их ликвидации.» [5].
«Разработка материальных балансов обеспечивает… выявление новых ресурсов и внутренних резервов для ввода их в экономический оборот (курсив мой. - А. С. ), способствует строжайшей экономии материальных ресурсов» [5]. В новой -природогенной - стратегии природопреобразования должна бы приниматься во внимание не столько «экономия материальных» ресурсов, сколько экономия природогенных ресурсов и поддержание природогенных балансов. На этой основе может быть выдвинута новая парадигма экономической науки - природогенная экономика.
Материаловедческая конъюнктура как доминирующий фактор мотивационных оснований технонауки входит в состав более общей характеристики - ресурсной конъюнктуры. В традиционной производственной деятельности человека, фундированной технологической парадигмой
науки, «увязка ресурсов продукции с потребностями… предполагает изыскание добавочных источников роста производства за счет более полного использования производственных мощностей, роста производительности труда, мобилизации внутренних ресурсов, технически и экономически обоснованного снижения удельных расходов материальных ресурсов, замены дефицитных видов продукции менее дефицитными (курсив мой. – А. С. )» [5]. Производительная же деятельность, в основу которой будет положена парадигма природогенной экономики, ориентирована иначе. Она тоже «озабочена» снижением «удельных расходов ресурсов», но только не материально-технических, а - природогенных. Кроме того, такое альтернативное производство, основанное на альтернативных (природогенных) науке и экономике, будет стремится к постепенному замещению неприродогенных видов продукции природогенными, а также замене менее природогенных материалов более природогенными.
В традиционной химической технологии используется понятие «технологический материальный баланс», означающее «соотношение количеств веществ, введенных и полученных в химикотехнологическом процессе…» [6]. Этот тип материальных балансов «…составляют по уравнению основной суммарной реакции с учетом побочных реакций; он базируется на законе сохранения массы (в данном случае общая масса поступающих в производство материалов равняется массе входящих материалов)… Материальный баланс технологический - составная часть проекта новых производств или анализа работы существующих» [6]. В рамках концепции химической тектологии [7] роль технологических материальных балансов традиционной химической технологии играют природогенные тектологические балансы, направленные на восполнение природогенного круговорота веществ в природе. Этот процесс можно представить как такого рода взаимоперерождение природогенных веществ, которое не нарушает природогенную модальность последних. Неприродогенные химические соединения, созданные человеком в период технологического «удвоения природы», часто являясь тупиковыми продуктами, нарушают природогенный круговорот веществ в природе. Создавая артефакты «второй природы», человеку следовало бы предусматривать сохранение круговорота веществ, полей, материалов, структур и т. п. Иначе говоря, все то, что искусственно создается, не должно нарушать замкнутость цепи взаимоперерождения объектов реальности.
Трудно не присоединиться к Х. Ленку, настаивающему на том, что «…человек не имеет права производить все то, что он в состоянии производить, и не имеет права применять на практике все то, что он в состоянии произвести» [8. С. 173]. Простая мысль, и вроде бы тривиальная. За ней, однако, угадывается некая глубина, состоящая в неявной, латентной угрозе «первой природе» со стороны артефактов «второй природы», на самых ранних стадиях генерации последней, долгое время казавшихся вполне безобидными.
В этой связи следует иметь в виду различение природных и искусственных химических соединений. Среди искусственных соединений могут быть выделены природоподобные и неприродоподобные. Химия природных соединений занимается изучением соединений природного, неискусственного происхождения. Природоподобные искусственные соединения не эквивалентны соединениям природного происхождения, но - родственны им, т. е. имеют свойства, близкие к свойствам природных соединений. Неприродоподобные соединения обладают свойствами, резко отличающимися от свойств соединений природного происхождения. Среди неприродоподобных соединений можно выделить по отношению к природным соединениям нейтральные и агрессивные, «конфликтные» вещества. Этот «конфликт» выражается в форме разрушительных воздействий на балансы природных и природоподобных соединений в хемосфере и биосфере. В результате этих воздействий природные и природоподобные соединения могут трансформироваться в неприродоподобные, антиприродогенные вещества.
Еще одной формой проявления свойств антиприродогенных соединений является их патологическое воздействие на биологические объекты, как на уровне микроорганизмов, так и на биосферу в целом. В результате нарушаются всевозможные
биологические балансы, что ведет к экологически неблагоприятным последствиям.
В промышленности в качестве исходного сырья используются природные, природоподобные и неприродоподобные соединения. При этом использование последних ведет к наиболее выраженным экологическим дисбалансам. Особенно ощутимы эти явления в сфере производства агрессивных, взрывчатых, ядовитых, антибиологических веществ, в том числе в производстве оружия массового поражения. Проблема, связанная с угрозой их применения, распространения, хранения, а также утилизации, остается актуальной и тревожной. Однако молекулы-убийцы, вещества-киллеры возникают не только целевым образом, но и как побочные продукты в производственной, научно-исследовательской и военнотехнологической деятельности.
В результате экспериментов, в том числе экстремальных, в химических лабораториях создается огромное число тупиковых и агрессивных соединений, которые можно бы называть интермедиатами для служебного пользования - ДСП-интермедиатами. Практика синтеза новых соединений не может быть искусственно ограничена запретами на синтез конечных или тем более промежуточных соединений, подпадающих под определение антиприродогенности. Иное дело подвергать вновь синтезируемые соединения специальному контролю на природогенность, включающему изучение их совместимости в том числе с объектами биологической реальности. Вещества, не прошедшие природогенный контроль, не должны подлежать свободному распространению, а тем более производственному тиражированию, сколь бы заманчивыми с позиций материаловедческой конъюнктуры свойствами они не обладали. Режим нераспространения ДСП-интермедиатов, выявленных в ходе природогенного контролинга, не означает наложения на них «ареста», «заточения» в сейфах химических лабораторий. Напротив, они подлежат самому тщательному исследованию с целью изучения свойств и выявления причин их антиприродогенности. При этом необходимо обеспечить надлежащий уровень природогенной безопасности в отношении исследователей и возможных «несанкционированных утечек» этих веществ в окружающую среду.
Еще одной опасностью роста неприродогенности окружающей среды является неконтролируемая концентрационная деятельность человека. Речь идет о фундированных технонаукой и промышленными технологиями процессах несдерживаемой концентрации вещества, полей, комбинаций их свойств. Как было показано нами в [1. С. 126], это ведет к нарушению концентрационных балансов веществ, представляющих собой, по нашему мнению, еще не в полной мере осознанную глобальную концентрационную катастрофу современной технологической цивилизации. Говоря о «загрязнении» природной среды неприродогенным уровнем концентраций (веществ, полей и их комбинаций), мы не сводим проблему к тематике, связанной с понятием ПДК - предельно допустимых концентраций биологически и экологически опасных веществ и полей. Последние, согласно описанному выше подходу природогенного контролинга, вообще не должны поступать в окружающую среду даже в незначительных концентрациях, ибо должны обладать статусом ДСП-интермедиатов. Речь идет о тех веществах и полях, которые в незначительных количествах являются природными или природоподобными. И лишь в результате технологической деятельности человек создает неприродогенные концентрации этих веществ и полей. Например, электрические, магнитные и радиоактивные поля в целом в природных (земных) концентрациях не угрожают биосфере. (Молнии хотя и являются чрезмерными концентрациями электрических зарядов, но в целом к экологической катастрофе не ведут.) Однако доведенные человеком концентрации этих полей до чрезвычайно высоких уровней - факторы экологических дисбалансов. Кроме того, эти сверхконцентрированные поля используются в химико-технологических процессах, в результате чего генерируются неприродоподобные вещества, о чем мы уже говорили, описывая химию «экстремальных состояний».
Техносфера изобилует неприродогенными концентрациями. По большому счету наука в рамках технологической парадигмы все более и более превращается в «служанку» концентрационных «излишеств» человека. К числу последних можно отнести и взрывчатые вещества.
Принося ощутимую пользу в мирных
технологических процессах, эти вещества (тротил, пластид и т. п.) явились серьезной угрозой жизни человека и биосферы в форме средства террористического насилия. Еще более опасны ядерные, химические и бактериологические концентрационные излишества.
К феномену концентрационной катастрофы может быть отнесено и неуклонное возрастание скоростей во всех сферах человеческой деятельности. Чрезмерные скорости выступают в форме неприродогенной концентрации кинетической энергии, травмирующей и «убивающей» людей в автомобильных, железнодорожных, авиационных катастрофах. Здесь неприродогенность понимается как несовместимость с безопасностью жизни. Тотальная спешка, не дающая сосредоточиться, деформирует культуру человека в целом, его духовную жизнь и интеллектуальное развитие. Как писал Э. Юнгер, «постоянное наращивание темпа тяжелее самой работы, и возрастающая спешка указывает на процесс перевода мира в цифры» [9. С. 402]. П. Вирилио отмечает, что «…сейчас мы видим пренебрежение мыслительными, аналоговыми операциями в угоду инструментальным (инструментальной конъюнктуре. – А. С. ) и цифровым, якобы (курсив мой. – А. С. ) развивающим познание» [2. С. 9]. Он так же говорит и о таком явлении, как «…заражение ускорением всей природы земного шара…» [2. С. 19].
Таким образом, расширительное толкование понятия «предельно-допустимая концентрация» приводит нас к концепции концентрационной катастрофы современной цивилизации, в которой «…стремление исследователей к рекордному результату ставит под вопрос не только «прогресс», но и «будущее» науки»» [2. С. 67]. Более того мы полагаем, что явления концентрационной катастрофы проявляется и в гедонистических аспектах психической деятельности человека, ибо в основе действия алкоголя, наркотических веществ, слишком громкой и чрезмерно ритмической музыки, чрезмерной либидизации человеческих отношений и т. п. также лежит неприродогенная сверхконцентрация воздействующих на психику химических, физических, биологических, социальных и психических активаторов. Парадигма современной цивилизации, а именно, ее концентрационного безумия.
Список литературы Концентрационная катастрофа и природогенная экономика
- Свитин, А. П. Становление информационной химии: Философско-методологические аспекты: Монография / А. П. Свитин; СибГАУ. Красноярск, 2003. 156 с.
- Вирилио, П. Информационная бомба. Стратегия обмана / П. Вирилио. М.: ИТД ГК "Гноозис", фонд "Прагматика культуры". 2002. 192 с.
- Кузнецов, В. И. Диалектика развития химии / В. И. Кузнецов. М.: Наука, 1973. 328 с.
- Быков, В. И. Методы расчета параметров активации молекул / В. И. Быков, А. П. Свитин. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1988. 211 с.
- Бор, М. З. Материальные балансы / М. Бор // Большая Советская Энциклопедия. В. 30 т. Т. 15 / Гл. ред. А. В. Прохоров. 3-е изд. М.: Советская Энциклопедия, 1974. С. 501.
- Большая Советская Энциклопедия. В. 30 т. Т. 15 / Гл. ред. А. В. Прохоров. 3-е изд. М.: Советская Энциклопедия, 1974. С. 502.
- Свитин, А. П. Химическая тектология / А. П. Свитин // Теория и история. 2003. № 2. С. 130-137.
- Ленк, Х. Размышления о современной технике / Х. Ленк. М.: Аспект Пресс, 1996. 183 с.
- Junger, E. Siebzig verweht. Vol. 1 / E. Junger. Stuttgart. Klett-Cotta. 1980, S. 402.