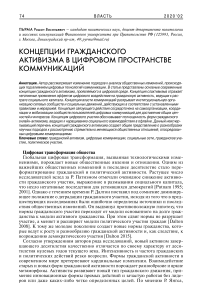Концепции гражданского активизма в цифровом пространстве коммуникаций
Автор: Пырма Роман Васильевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Глобализация и цифровое общество
Статья в выпуске: 2, 2020 года.
Бесплатный доступ
Автор рассматривает изменение подходов к анализу общественных изменений, происходящих под влиянием цифровых технологий коммуникации. В статье представлены основные современные концепции гражданского активизма, проявляемого в цифровой среде. Концепция слактивизма отражает негативные проявления эффектов цифрового воздействия на гражданскую активность, ведущих к растрате социального капитала. Концепция власти коммуникаций раскрывает институциональную организацию сетевых сообществ и социальных движений, действующих в соответствии с установленными правилами и иерархией. Концепция связующего действия сосредоточена на самоорганизации, координации и мобилизации сообществ пользователей цифровых коммуникаций для достижения общих ценностей и интересов. Концепция цифрового участия обосновывает полноценность форм гражданского онлайн-активизма, ведущих к наращиванию социального взаимодействия в офлайне. Данный неисчерпывающий перечень концепций гражданского активизма создает общее представление о разнообразии научных подходов к рассмотрению стремительно меняющихся общественных отношений, опосредованных цифровыми коммуникациями.
Гражданский активизм, цифровые коммуникации, социальные сети, гражданское участие, политическое участие
Короткий адрес: https://sciup.org/170171380
IDR: 170171380 | DOI: 10.31171/vlast.v28i2.7137
Текст научной статьи Концепции гражданского активизма в цифровом пространстве коммуникаций
Глобальная цифровая трансформация, вызванная технологическими изменениями, порождает новые общественные явления и отношения. Одним из важнейших общественных изменений в последнее десятилетие стало переформатирование гражданской и политической активности. Растущее число исследователей вслед за Р. Патнэмом отмечали очевидное снижение активности гражданского участия, выраженное в размывании социального капитала, что несло негативные последствия для устоявшихся демократий [Putnam 1995; 2001]. Однако с течением времени Р. Далтон поставил под сомнение доминирующее положение о деградации гражданского участия, исходя из того что в предшествующих исследованиях были ошибочно определены источники и последствия общественных изменений. Он выдвинул противоположную гипотезу, что нормы гражданского участия переходят от модели основанного на долге гражданства к модели активного гражданства. При этом сдвиг нормы не разрушает участие, а меняет и расширяет модели политического участия граждан [Dalton 2008]. К тому же молодое поколение создает новые нормы гражданства, которые ведут к росту и разнообразию гражданской активности и, как следствие, к возрождению демократического участия [Dalton 2015].
Согласно утверждениям авторов ряда исследований, новый активизм завершающего десятилетия качественно отличается по своему характеру от десятилетия нулевых годов текущего века. Интенсивность и частота гражданских и политических действий резко возросли. Формы гражданской активности в современном мире претерпевают кардинальные изменения. Взаимодействие старых и новых форм гражданской активности порождает разнообразие и яркие метаморфозы. Активисты развивают новый тип гражданского движения, применяя инновационные формы прямых действий и зачастую работая без лидеров или даже каких-либо четко определенных целей. По мнению Р. Янгса, нарастающая активность имеет важные последствия для отношений между гражданами, политическими институтами, гражданским обществом и государством при необходимости защиты гражданского пространства в сочетании с новыми возможностями для расширения участия граждан и переосмысления демократии [Youngs 2019].
Под гражданским активизмом обычно понимаются инициативные действия, прямые или косвенные усилия граждан для решения социальных, политических, экономических, экологических проблем. В последние годы много внимания уделяется появлению «интернет-активизма», но ученые и эксперты расходятся во мнениях о том, отличается ли онлайн-политическая деятельность от более традиционных форм активизма. Они пытаются ответить на исследовательский вопрос, какое влияние оказывают глобальный охват и стремительная скорость Интернета на сущностный характер, динамику гражданской активности и онлайн-политического протеста [Earl, Kimport 2011].
Концепция слактивизма
Переход технологий коммуникаций на интерактивные платформы социальных медиа открыл новые возможности для организации социального взаимодействия, гражданского участия и политической мобилизации. Однако ряд исследователей весьма скептически отнеслись к расширению опций для общения и размещения контента на площадках цифровых медиа, не находя оснований для активного включения пользователей в гражданские кампании и политические действия. Исследователи полагали, что новые медиа способствуют потерям традиционной организации активистов, поскольку обычные люди будут избегать общепринятых и проверенных форм активизма (демонстрации, сидячие забастовки, конфронтация с полицией, стратегические судебные процессы и т.д.) и будут вовлечены в «слактивистские» формы, которые могут быть более безопасными, но гораздо менее эффективными. Онлайн-активизм создает у пользователей, присоединившихся без особых усилий к сообществам в социальных сетях, иллюзию значимого влияния на мир. Таким образом формулируется ключевое положение слактивизма, который характеризуется как идеальный тип активности для пассивного поколения [Морозов 2014]. Термин «слактивизм» содержит негативную коннотацию, т.к. происходит из набора слов «бездельник» или «лентяй» ( slacker ) и «активность» ( activism ). Авторы концепции определяют слактивизм как «легкую онлайн-активность, не имеющую никакого политического или социального воздействия»1.
По логике авторов концепции, слактивизм зиждется на принципе низких затрат на коммуникацию, что способствует легкому формированию сообществ, но не приводит к реальным гражданским действиям. Мнимая активность выражается в механическом выставлении «лайков», подписи онлайн-петиций и др., что стало проявлением «ленивой коммуникации» пользователей, даже не вникающих в содержание контента и происходящих событий. Резкое падение операционных издержек на организацию активистами гражданских кампаний открыло поле деятельности для гораздо большего числа участников. Вместе с тем традиционные и проверенные формы организации общественных акций девальвируются, поскольку граждане отдают предпочтение пассивным формам участия, которые требуют меньше усилий и более безопасны, однако их эффективность вызывает сомнение.
Критики слактивизма фактически не удовлетворены тремя аспектами актив- ности в цифровой сети: это крайне низкая стоимость акции (благодаря цифровым средствам массовой информации), чисто символический аспект участия и потенциальное чувство расширения прав и возможностей человека, когда воздействие фактически близко к нулю [Van Deth 2014]. «Диванный активизм» подвергается критике на том основании, что современные гражданские кампании в социальных медиа несопоставимы с реальными действиями, сопряженными с высокими издержками и рисками участия. Платформы социальных сетей построены вокруг слабых связей, которые редко в реальности приводят к активным действиям граждан1.
Следуя концепции слактивизма, ряд исследователей не находят оснований, чтобы квалифицировать социальные сети в качестве ключевого триггера общественного и политического активизма. Они признают, что для значительной части россиян, особенно молодежи, социальные сети действительно являются работающей формой горизонтальной самоорганизации, самовыражения и обмена контентом. Подавляющее большинство пользователей Интернета интересует прежде всего возможность общения, развлечения и поиска информации, а не гражданская активность и политические акции [Петухов и др. 2014].
Концепция власти коммуникаций
Цифровые технологии коммуникации трансформируют общественные движения и коллективные действия. Онлайн-сети связи децентрализовали потоки информации, но управление ими способно создать масштаб и энергию социального движения. В концепции М. Кастельса власть зиждется на способности формировать сознание общественности посредством контроля над коммуникацией и информацией, будь то макросила государства и медиакорпораций или микросила различных организаций [Castells 2009].
Согласно М. Кастельсу, власть в современном обществе осуществляется через сети. В этих социальных и технологических условиях существуют четыре различные формы власти.
-
1. Сетевая власть: организованное давление активного ядра сетевого общества на граждан, не включенных в глобальные сети.
-
2. Сетевая мощь: институциональная сила, вытекающая из стандартов, необходимых для координации социального взаимодействия в сетях, власть осуществляется не путем исключения из сетей, а путем введения правил включения.
-
3. Сетевое влияние: воздействие в различных формах и контекстах одних социальных акторов на других социальных акторов; при этом процессы сетевого влияния могут быть специфичными для каждой сети.
-
4. Власть создателей сетей: способность программировать конкретные сети в соответствии с интересами и ценностями программистов, а также способность переключать различные сети в соответствии со стратегическими альянсами между доминирующими субъектами различных сетей.
Общественные действия в цифровом пространстве происходят через программирование и коммутацию организационных сетей. В сетевом обществе сила и противодействие имеют фундаментальное значение для воздействия на нейронные сети в человеческом разуме с помощью сетей массовой коммуникации и самосвязи. Противодействие реализуется в сетевом обществе в борьбе коммуникаторов, отражающих доминирующие интересы, за изменение про грамм конк ретных сетей [Castells 2011].
Свою концепцию власти коммуникаций М. Кастельс обосновывает, рассматривая опыт резонансных событий Арабской весны в странах северной Африки, «Индигнадас» в Испании и «Оккупируй Уолл-стрит» ( OWS ), массовых протестов в Турции, Бразилии и многих других государствах. Массовые гражданские действия явили образцы современных «сетевых социальных движений», которые вовлекают в создание альтернативного центра силы посредством объединения городского пространства и киберпространства.
Концепция М. Кастельса исходит из утверждений, что «движения являются вирусными, следуя логике интернет-сетей», и «горизонтальность сетей поддерживает сотрудничество и солидарность, одновременно подрывая необходимость формального лидерства», что противоречит многим эмпирическим данным, полученным в результате сетевых исследований и анализа онлайн-ком-муникаций. В этих и подобных социальных движениях, во многом отличных друг от друга, он находит общую черту: все они неразрывно связаны с созданием автономных коммуникационных сетей, поддерживаемых Интернетом и мобильной связью. М. Кастельс исследует социальные, культурные и политические корни этих новых социальных движений, изучает их инновационные формы самоорганизации, оценивает точную роль технологий в динамике движений, предлагает причины поддержки, которую они нашли в больших слоях общества, и исследует их способность вызывать политические изменения путем воздействия цифровых коммуникаций на граждан [Castells 2015].
Последователи М. Кастельса, исследуя ключевые характеристики организации гражданской и политической активности в Интернете, отмечают, что цифровые медиа могут оказывать на социальные движения как «эффекты большого размера», так и «эффекты теории 2.0». Первое относится к тому, как цифровые медиа способствуют более мощной и эффективной мобилизации. Последнее относится к тому, как доступность цифровых медиа может привести к новым формам социальных движений. Исследователи утверждают, что сеть предлагает две ключевые возможности, связанные с активизмом: резкое снижение затрат на создание, организацию и участие в акциях, а также снижение потребности в том, чтобы активисты физически были вместе для организации общих действий. Причем практика онлайн-петиций, бойкотов, кампаний по написанию писем и рассылке электронных писем показала, что чем больше эти возможности используются, тем более радикальными становятся изменения в организации и участии в гражданских акциях протеста [Earl, Kimport 2011].
Через общение с другими людьми на арене социальных сетей люди могут развить поддержку отношения к определенному движению, которая становится основой для участия. В то же время социальные сети могут помочь инициировать действия, потому что люди могут столкнуться с мобилизацией информации, призывом к действиям, настроением, поддерживающим движение, и/или другой информацией, инициирующей действия в социальных сетях.
Концепция объединяющего действия
В отличие от авторитетных исследователей-скептиков, следующих идее размывания социального капитала гражданского общества под влиянием цифровых коммуникаций, оптимисты сосредоточились на рассмотрении случаев, связанных с использованием цифровых медиа в качестве инструмента для построения и координации сетей активистов, видя в этом расширение возможностей гражданского участия.
Отдельные исследователи изучали, как активисты антикорпоративной глобализации в начале нового века используют новые цифровые технологии для координации действий, построения сетей, осуществления медиаактивизма и физического воплощения своих новых политических идеалов. Тогда активисты использовали списки электронной почты, веб-страницы и открытое программное обеспечение для редактирования, организации и координации действий, обмена информацией и подготовки документов, отражающих общий рост цифрового сотрудничества. Цифровые платформы предоставляли возможность организации онлайн-форумов для размещения аудио-, видео- и текстовых файлов. Помимо этого, активисты также создали временные медиацентры для генерирования альтернативной информации, экспериментировали с новыми технологиями, где обменивались идеями и ресурсами. Под влиянием анархизма и одноранговой сетевой логики активисты антикорпоративной глобализации использовали цифровые технологии не только в качестве конкретных инструментов, но и для выражения альтернативных политических представлений, основанных на формирующемся сетевом идеале [Juris 2005].
Участие посредством цифровых сетевых действий является не просто заметной популярной тенденцией, но и новой формой политического участия, которая не только структурно похожа на формы офлайн-участия в том смысле, что она является самостоятельным партисипативным действием сама по себе, но и потенциально отражает другую концепцию гражданской активности [Bennett 2012]. В подходе В. Беннетта и А. Сегерберг цифровые коммуникации становятся новой, отличной от традиционной формой организации коллективных действий, что требует изменения объясняющей парадигмы исследований. Традиционные парадигмы подчеркивают важность мобилизации ресурсов, рационального принятия решений, определения затрат и выгод совместных действий. Влияние цифровых технологий подвигает к поиску новых теоретических оснований. Организационная динамика цифровых коммуникаций возникает, когда они начинают формировать сетевую структуру. Понимание вариаций крупномасштабных действий в сетях требует различения двух логик: коллективных действий, связанных с высоким уровнем организационных ресурсов и формированием общей идентичности, и соединительных действий, основанных на персонализированном обмене контентом между сетями средств массовой информации [Bennett, Segerberg 2013].
Гражданское и политическое участие опосредуются крупномасштабными персонифицированным и цифровым действиями. Идеи и механизмы организации действий становятся более персонализированными, чем в случаях, когда действия организованы на основе идентичности, членства или идеологии социальной группы. Авторы концепции видят в сетях основу социальной и политической жизни, что значительно выиграет от более точного изучения того, как эти сети формируются и функционируют. Цифровые медиа играют важную роль в координации, коммуникации и мобилизации гражданской активности [Bennett, Segerberg, Walker 2014].
В настоящее время после череды «революционных событий» в ряде стран среди исследователей стало преобладать мнение, что социальные медиа предоставляют инструментальные средства коммуникации в организации гражданских действий и политических акций. При этом в структуре организации выделяются некоторые особенности. Подавляющее большинство пользователей играют роль периферийных онлайн-участников событий (слактивисты). Они окружают небольшой эпицентр протестов, представляющих слои уменьшающейся онлайн-активности вокруг сплоченного меньшинства. Метод декомпозиции сети для изучения иерархической структуры сети доказывает, что периферийные участники имеют решающее значение для увеличения охвата протестных сообщений и создания онлайн-контента на уровнях, сопоставимых с основными участниками. Успех в максимизации числа онлайн-граждан, охваченных протестными сообщениями, зависит от активизации критической периферии. Сила наблюдателей заключается в их количестве: их совокупный вклад в распространение сообщений протеста по величине сопоставим со вкладом основных участников. Слактивисты имеют больше шансов совершить значимые действия, они более чем вдвое активнее, чем люди, которых нельзя отнести к таковым, и их действия имеют более высокий потенциал влияния на других пользователей. Гражданская активность пользователей в цифровой среде является эффективным средством, позволяющим резко поднять потенциал социальных и политических движений [Barbera et al. 2015]. Другие исследователи, изучая влияние цифровых коммуникаций на гражданское участие в офлайн-формах, установили, что «слабые связи», возникающие в больших социальных сетях, способствуют более высокому уровню политической активности [Kahne, Bowyer 2018].
Концепция цифрового участия
По мысли ряда исследователей, политическое участие в цифровой сети и его проявления являются формой политического взаимодействия и должны быть концептуализированы, идентифицированы и измерены как единое целое [Theocharis 2015]. Политическое участие в цифровой сети может быть понято как персонализированное действие на основе сетевых медиа, которое выполняется отдельными гражданами с целью показать свою собственную мобилизацию и активировать свои социальные сети, чтобы повысить осведомленность о социальном политическом давлении для решения социальной или политической проблемы [Theocharis 2015].
Одним из положительных результатов влияния цифровых медиа на интернет-аудиторию является расширение их участия в гражданской и политической жизни. Исследователи обнаружили также тесную связь между политическими действиями в Интернете, такими как присоединение к политическим группам и подписание петиций, и политическими действиями в автономном режиме [Boulianne, Theocharis 2018]. На основе расширенной концепции политического участия выявляется большое разнообразие творческих, выразительных, индивидуализированных и цифровых форм гражданской активности. Старые и новые формы систематически интегрируются в многомерную модель политического участия, которая вписывается в общий репертуар гражданской активности. Исследователи подчеркивают необходимость изучения многочисленных форм онлайн-активности, чтобы понять тенденции развития политических коммуникаций и гражданского участия [Theocharis, Van Deth 2018]. Цифровые медиа добавили различные творческие и неполитические способы участия в социальной и политической жизни, которые не только часто образуют основу политического участия, но и, как представляется, во множестве повседневных контекстов оказываются встроенными в то, что в конечном итоге превращается в политически значимые действия.
Исследователи предлагают разграничить участие в коллективных действиях, цифровое участие и персонализированное участие в акциях. Цифровое участие относится к участию в ряде цифровых медиамероприятий в поддержку движения. Участие в персонализированных действиях относится к участию в ряде персонализированных и небольших групповых мероприятий, которые являются отличительными чертами сетевого социального движения или кампании за совместные действия. Три формы участия могут усиливать друг друга. Но, поскольку многие из персонализированных и небольших групп деятельности происходят из более широких коллективных действий, было бы разумным рассматривать коллективное участие как логически предшествующее персональ- ному участию в действиях. Между тем недавние исследования показали, что цифровая деятельность может привести к офлайн-акциям. Поэтому теоретическая модель будет рассматривать участие в коллективных действиях и цифровое участие как предшественников индивидуального участия в действиях [Lee, Chen, Chan 2017].
Исследователи, изучая взаимосвязь между использованием социальных сетей и вовлечением в гражданское и политическое участие, пришли к заключению, что влияние использования социальных сетей на участие большее для политического выражения и меньшее для информационного использования, но масштаб этих эффектов зависит от политического контекста [Boulianne 2019]. Ряд авторов на основе метаанализа эмпирических исследований взаимосвязей и эффектов между использованием социальных сетей и вовлечением граждан установили, что цифровые коммуникации в целом имеют позитивную связь с вовлеченностью пользователей, в частности с показателями социального капитала, гражданской активности и политического участия [Skoric et al. 2016]. Социальные медиа становятся неотъемлемой частью процессов организационной коммуникации, обусловливая поведение граждан, которого было бы трудно или невозможно достичь без применения новых технологий, меняющих среду социализации, способы обмена знаниями и процессы активации гражданских действий.
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситету.
Список литературы Концепции гражданского активизма в цифровом пространстве коммуникаций
- Морозов Е. 2014. Интернет как иллюзия. Обратная сторона сети. (пер. с англ. И. Кригера). М.: CORPUS; АСТ. 528 с
- Петухов В.В., Бараш Р.Э., Седова Н.Н., Петухов Р.В. 2014. Гражданский активизм в России: мотивация, ценности и формы участия. - Власть. № 9. С. 11-19
- Barbera P., Wang N., Bonneau R., Jost J.T., Nagler J., Tucker J. González-Bailón S. 2015. The Critical Periphery in the Growth of Social Protests. - PLoS ONE. Vol. 10. Is. 11. URL: 10.1371/journal.pone.0143611 (accessed 17.03.2020) DOI: 10.1371/journal.pone.0143611(accessed17.03.2020)
- Bennett L.W. 2012. The Personalization of Politics: Political Identity, Social Media, and Changing Patterns of Participation. - The Annals of the American Academy of Political and Social Science. Vol. 644. P. 20-39
- Bennett W.L., Segerberg A. 2013. The Logic of Connective Action. Digital Media and the Personalization of Contentious Politics. N.Y.: Cambridge University Press. 251 p