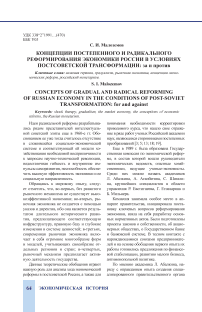Концепции постепенного и радикального реформирования экономики России в условиях постсоветской трансформации: за и против
Автор: Малоземов Сергей Иванович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Модернизационные изменения
Статья в выпуске: 4 (23), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется эволюция взглядов «градуалистов» и «шокотерапевтов» о модели реформирования постсоветской экономики, характеризуются концепции рыночного реформирования России.
Шоковая терапия, градуализм, рыночная экономика, концепции экономических реформ, российский монетаризм
Короткий адрес: https://sciup.org/14723694
IDR: 14723694 | УДК: 338“2”1991…(470)
Текст научной статьи Концепции постепенного и радикального реформирования экономики России в условиях постсоветской трансформации: за и против
Идеи радикальной реформы разрабатывались рядом представителей интеллектуальной советской элиты еще в 1960-е гг. Обоснованием ее уже тогда считалось отсутствие в сложившейся социально-экономической системе и соответствующей ей модели хозяйствования необходимой восприимчивости к запросам научно-технической революции, недостаточная гибкость и внутренние импульсы саморазвития, неспособность обеспечить высокую эффективность экономики и ее социальную направленность.
Обращаясь к мировому опыту, следует отметить, что, во-первых, без развитого рыночного механизма не существует высокоэффективной экономики; во-вторых, рыночная экономика не создается с помощью указов и директив, ибо она является результатом длительного исторического развития, предполагающего соответствующую инфраструктуру, правовую базу и глубокие изменения в системе ценностей; в-третьих, современная рыночная экономика включает в себя огромное многообразие форм и моделей, учитывающих своеобразие отдельных регионов и стран; в-четвертых, рыночный механизм предполагает активную деятельность государства.
Данные теоретические обобщения играют важную роль для анализа хода экономической реформы в постсоветской России, а также для понимания необходимости корректировки проводимого курса, что нашло свое отражение в ряде работ ученых Российской академии наук, являющихся сторонниками постепенных преобразований [3; 5; 13; 18; 19].
Еще в 1989 г. была образована Государственная комиссия по экономической реформе, в состав которой вошли руководители экономических ведомств, опытные хозяйственники, ведущие ученые-экономисты. Среди них можно назвать академиков Л. Абалкина, А. Аганбегяна, С. Шаталина, крупнейших специалистов в области управления Р. Евстигнеева, Г. Егиазаряна и Б. Мильнера.
Комиссия занимала особое место в аппарате правительства, инициировала постановку ключевых вопросов реформирования экономики, взяла на себя разработку основных нормативных актов. Были подготовлены проекты законов о собственности, об акционерных обществах, о Государственном банке и банковской системе. В тесном контакте с нарождающимися союзами предпринимателей и на основе обобщения первого опыта их работы готовились предложения по финансовой стабилизации, развитию малого бизнеса, антимонопольной политике.
По мнению академика Л. Абалкина, наряду с оправданием опыта создания специализированного правительственного органа по управлению процессом реформирования экономики приходится признать и наличие существенных ограничений полномочий комиссии, которые не только осложняли синхронизацию мер по проведению реформы, но и служили одним из основных тормозов в ее работе [3, с. 30].
Концепция «Радикальная реформа: Первоочередные и долговременные меры» [24] была принята уже через три месяца после создания rомиссии. Большое значение придавалось общественному мнению. Однако реакция на представленный документ была далеко неоднозначной. Так, анкетирование среди участников Всесоюзной научнопрактической конференции (ноябрь 1989 г., г. Москва), на которой обсуждалась концепция, показало, что реалистичной предложенную программу считают 62 % опрошенных. Треть дали отрицательный ответ. Наиболее скептически отнеслись к предложенной программе работники вузов, а самую большую поддержку она получила у работников предприятий [3, с. 33].
В концепции радикальной реформы прописывались следующие меры:
– стимулирование перехода государственных предприятий на аренду, их преобразование в акционерные общества и иные хозяйственные товарищества, кооперативы, коллективные предприятия;
– жесткая политика финансового оздоровления с использованием новых налоговых и кредитных рычагов, стабилизацию денежного обращения;
– активная структурная политика, направленная на ускоренное развитие производства потребительских товаров и услуг, производственной и социальной инфраструктуры, укрепление экспортного потенциала, ресурсосбережение;
– последовательное и неуклонное формирование рынка (продажа продукции сверх государственных заказов по свободным ценам, которые снижаются по мере увеличения объемов реализуемой на рынке продукции и ограничения денежной массы; введение антимонопольного законодательства и поощрение состязательности);
– поэтапное приближение государственных твердых и регулируемых цен к свободным ценам, балансирующим спрос и предложение на рынке, приведение их в соответствие с ценами мирового рынка;
– формирование финансового рынка, создание фондовых бирж и системы государственного регулирования торговли ценными бумагами;
– интенсивное развитие внешнеэкономических связей, стимулирование иностранных инвестиций, создание совместных предприятий, зон совместного предпринимательства;
– развитие валютного рынка, начиная с проведения валютных аукционов и заканчивая организацией нормальной торговли валютой, подготовка условий для введения вначале частичной конвертируемости рубля;
– перестройка организационных структур управления в связи с изменениями в распределении их функций, расширением самостоятельности предприятий и формированием рынка [3, с. 34].
По замыслу авторов концепции, реформирование предполагалось разделить на конкретные этапы: 1990, 1991–1992 и 1993– 1995 гг., с определением задач для каждого этапа. Согласно приведенным расчетам, к 1995 г. удельный вес государственных предприятий должен был составить 30 %, акционерных предприятий – около 25, арендных предприятий – до 20, кооперативов – до 15 % [3, с. 35]. Осуществление вышеперечисленных мер должно было заложить основу для эффективного функционирования социально ориентированной рыночной экономики.
Обращает на себя внимание глубокая проработка концепции. Были просчитаны радикальный (названный в последующем «шоковым») и умеренно-радикальный варианты ее реализации.
Радикальный вариант предполагал осуществление в кратчайшие сроки коренной ломки сложившихся структур, единовременное снятие всех ограничений для действия рыночного механизма, сокращение государственных расходов на инвестиции и дотации к розничным ценам, осуществление жесткой кредитной политики. Ввод в действие рыноч- ного механизма должен был осуществиться путем почти полного отказа от контроля за ценами и доходами.
Последствия столь радикального варианта могли привести к галопирующей инфляции, разорению большого числа предприятий при одновременном обогащении других, спаду производства, массовой безработице, существенному снижению уровня жизни. Осознавая подобные разрушительные последствия реформирования, правительство Н. Рыжкова избрало так называемый умеренно-радикальный вариант и приступило к его реализации.
Во-первых, начался реальный процесс разгосударствления экономики и управления, несмотря на упорное сопротивление Верховного Совета СССР. Был ликвидирован ряд союзных министерств, на базе которых возникли первые государственные концерны: «Газпром» и «Агрохим».
Во-вторых, создавались мелкие акционерные общества, наряду с которыми намечалось отработать механизм акционирования крупнейших предприятий, комбинатов и других хозяйственных объектов, основываясь на опыте работы АО «Камаз». Вопросы разграничения полномочий центра и регионов в части долевого разделения акций создаваемых акционерных обществ решались оперативно. Причем бросается в глаза форсирование процесса: акционерные общества создавались до принятия соответствующих законов.
В-третьих, в соответствии с курсом на разгосударствление банковской системы был принят закон о Государственном банке, который он выводился из подчинения правительству Одновременно возникают первые коммерческие (в том числе кооперативные) банки.
В-четвертых, начался переход к рыночной форме оборота средств производства с одновременным отказом от традиционной схемы материально-технического снабжения. Теперь государственный заказ должен был размещаться в договорном порядке.
Эти первые практические шаги по реализации умеренно-радикального варианта реформы требовали огромных усилий, глубокой научной проработки, тщательного изуче- ния мирового опыта, и, как пишет академик Л. Абалкин, «происходили они, естественно, в упорной борьбе, поскольку натыкались на стереотипы и догмы уходящей со сцены системы» [3, с. 38].
Следовательно, реализация первой концепции радикальной экономической реформы, разработанной в 1989 г., позволяет утверждать, что радикальная реформа в стране началась отнюдь не в 1992 г. Однако обострившаяся политическая ситуация в стране серьезно осложнила проведение в жизнь этого варианта реформы. Более радикальные реформаторы в конечном счете обвинили правительство Н. Рыжкова в чрезмерной консервативности и сопротивлении реформам. Эта мысль довольно успешно внедрялась в массовое сознание, чему в немалой степени способствовало культивирование сложившегося стереотипа многими серьезными учеными и политиками, в частности В. Мау и Е. Ясиным [16; 25]. Камнем преткновения при наличии четкой программы действий, определенного опыта реформирования явилось отсутствие необходимой твердости в принятых решениях, а самое главное – доверия. «Но не в силу порочности принятого решения, а в результате отсутствия тех самых “определенных условий” – политической мудрости и воли; общественного согласия, основанного на подчинении групповых устремлений высшим национально-государственным интересам; готовности последовательно и решительно проводить в жизнь выработанный курс», – отмечает Л. Абалкин [3, с. 45].
Кроме того, правительственной концепции была противопоставлена альтернативная программа, получившая название «500 дней», или «Программа Шаталина – Явлинского». Группа Г. Явлинского взяла курс на разработку альтернативной программы радикальной реформы.
Таким образом, главными ошибками правительства Н. Рыжкова в осуществлении первого этапа радикальной реформы академик Л. Абалкин считает:
– некомплексное ее осуществление, когда, например, самостоятельность предприятий не была подкреплена соответствующими из- менениями в методах планирования, введением налоговых ограничений, изменениями ценообразования и др.;
– медлительность осуществляемых шагов, откладывание назревших преобразований, касающихся, в частности, перестройки кредитной политики, перехода к оптовой торговле средствами производства;
– политические амбиции правящей элиты;
– отсутствие твердости правительства в проведении выработанной линии;
– отсутствие единого понимания природы накопившихся проблем и путей их разрешения;
– недостаточное внимание к формированию массового общественного сознания [4, с. 110–113].
В конечном счете наполненный драматическими событиями 1991 г. спровоцировал выбор «шокового» варианта экономической реформы. События, происшедшие во второй половине 1991 г., радикально изменили ситуацию и во многом предопределили новый этап экономической реформы [1, с. 7], имевший пагубные последствия.
В основе критики позиции радикальных реформаторов лежит теория альтернативности, согласно которой возможные варианты или сценарии общественного развития особенно проявляются в переходные эпохи, в процессе радикальной ломки и обновления сложившихся структур и отношений. Выбор пути является итогом действия многочисленных факторов и происходит в результате острейшей социально-экономической, политической борьбы. В итоге лишь один из вариантов становится определяющим, а возврат или переход к другим сценариям отпадают.
Эти теоретические посылки используются сторонниками постепенных преобразований для опровержения аргументов, доказывающих, что «шоковая терапия» была единственно возможным путем преобразований. Аргументы радикальных реформаторов сводятся к тому, что, во-первых, до прихода правительства реформаторов, начавшего свою деятельность с либерализации цен, никаких реформ в стране не проводилось. Во-вторых, в распоряжении государства не оставалось реальных рычагов власти, поэтому единственной надеждой оставалась саморегулирующая роль рынка.
Тезисы сторонников постепенного реформирований, апеллирующих к оппонентам, заключаются в следующем.
– Реальные реформы начались в конце 1980-х гг., а не в 1992 г., что подтверждается многочисленными работами академика Л. Абалкина, посвященными анализу экономических реформ в России и обосновывающие проведение реальных шагов, направленных на создание в стране социально ориентированной рыночной экономики [3; 4; 6].
– Опустошение прилавков произошло не столько в результате объективных причин, сколько вследствие заявлений о предстоящей либерализации цен. Обострившийся дефицит в 1991 г. был не первопричиной либерализации цен, а реакцией на объявленные намерения.
– Мировой опыт развития рыночной экономики показал необходимость активного участия государства в хозяйственной жизни и несостоятельность идеи полного ухода от государственного регулирования. Необходимо создать качественно новую систему управления и регулирования, адаптированную к условиям рынка [3, с. 55].
Следовательно, альтернативы выбранному пути были, они всесторонне обосновывались учеными, доказавшими нецелесообразность радикального варианта реформ и пагубность его последствий. Кроме того, проведенные впоследствии специальные исследования по проблеме оптимального выбора вариантов обосновывают зависимость выбора не только от политических амбиций, но и от оценки реальных возможностей экономики. Так, по мнению В. Рязанова, выбор альтернативы реформирования в немалой степени зависит от того, насколько точно определено исходное состояние национальной хозяйственной системы, особенно степени развития товарно-рыночных черт. «Так, опираясь на постулат о нерыночности советской экономики, в недалеком прошлом был сделан неправомерный вывод, что сложив- шуюся систему государственной экономики (бюрократического рынка) нельзя изменить, ее можно только разрушить. Реформаторы либерального толка вынесли приговор: система не поддается постепенной перестройке. Именно такие оценки стали теоретической опорой в обосновании выбора реформы рыночного шока в России, запустившей кризис и распад, а значит, предопределившей обнищание значительной массы населения» [22, с. 435].
Действительно, к 1985 г. наша страна представляла собой фактически смешанное, многосекторное хозяйство с ограниченным действием рыночных механизмов. Вместо «шоковой терапии» необходимо было проводить политику постепенной трансформации планово-рыночного хозяйства в хозяйство социального типа с регулируемыми рыночными отношениями.
В основе избранного российским руководством курса лежал монетарный подход. Российский монетаризм – это политика и идеология, основанные на придании доминирующего значения денежным факторам и ориентированные на достижение соответствующих показателей (объем денежной массы в обращении, темпы инфляции, величина бюджетного дефицита). Все другие факторы либо недооцениваются, либо просто игнорируются. Сложнейшие экономические и социальные процессы рассматриваются сквозь узкую щель денежного обращения. Так, российские монетаристы, отказавшиеся от поддержки постепенных преобразований, утверждали, что единственной причиной инфляции является бюджетный дефицит, забывая при этом о влиянии на цены издержек производства, транспортных тарифов, монополизма производителей, величин налоговых ставок и ссудного процента. В результате методы подавления инфляции оказывались крайне ограниченными и неэффективными.
В связи с этим, академик Л. Абалкин критикует такой подход, отмечая односторонность российского монетаризма, его стремление выйти на заданные параметры любой ценой. Апеллируя к рынку, который все в экономике расставит по местам, российские монетаристы утверждают: главное – добиться финансовой стабилизации, а все остальное в экономике нормализуется само собой, кстати, объясняет и отсутствие у правительства четкой структурной политики [3, с. 58].
Кроме того, команду Е. Гайдара критикуют за то, что она не пользовалась советами ведущих ученых нашей страны. Исключение было сделано лишь для западных консультантов – сторонников монетаризма: Дж. Сакса, руководителей МВФ и других международных финансовых организаций, которые не столько давали советы и рекомендации, сколько выдвигали условия, обязательные для выполнения при получении кредитов или различных видов помощи.
К этому следует добавить, что советники из МВФ всегда отличались слабым знанием российской действительности, истории страны и ее культуры, духовного склада населения и сложившейся системы ценностей. Неудивительно, что отрицательные последствия осуществленных в 1992 г. мер были настолько велики и разрушительны. Не удалось остановить спад производства, обуздать инфляцию, добиться финансовой стабилизации, предотвратить обнищание населения.
Уже после первых месяцев радикальных реформ Институт экономики РАН дал развернутый анализ принципиальных ошибок правительства [5]. Констатировано, что кабинет министров Е. Гайдара за основу взял экономические принципы, разработанные группой специалистов США и известные как идеи «Вашингтонского консенсуса». Это вытеснение государства из сферы экономики и свобода рыночного саморегулирования, массовая приватизация собственности, либерализация торговли и системы ценообразования, форсированное сжатие денежной массы как средство подавления инфляции, валютнофинансовая открытость экономики, упор на внешние заимствования как источник экономического роста.
Однако ни одной из стран, пытавшихся реализовать подобную программу, не удалось добиться успеха. Наиболее ярко несостоятельность идей «Вашингтонского консенсуса» проявилась в Индонезии, в большинстве стран СНГ и в России.
Результаты преобразований по навязанной «Вашингтонским консенсусом» модели были настолько катастрофичными, что ученые усомнились в профессионализме реформаторов. Так, В. Рязанов справедливо полагает, что реформирование должно служить развитию производства и общества, а не их разрушению. Если же при проведении реформы преобладают разрушительные механизмы, а главной целью становится уничтожение старой системы, такие процессы нельзя называть классической реформой [21, с. 227].
На фоне указанных социальноэкономических потрясений экономический кризис, начавшийся в 1993 г., перерос в прямой развал экономики. В итоге принципиально иной стала и стратегия реформ, вылившаяся в весьма примитивную стратегию выживания.
В связи с этим сотрудники Института экономики РАН пришли к выводу, что фактически с конца 1993 г. никаких реформ в стране уже не проводилось. «Безуспешные попытки правительства залатать постоянно возникающие дыры – это отнюдь не движение по пути реформ, а всего лишь способ выживания» [2, с. 180].
Тем не менее Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1995 г. № 439 «О Программе Правительства Российской Федерации “Реформы и развитие российской экономики в 1995–1997 годах”», расцененное как новая возможность выработки четких социально-экономических приоритетов, определения ключевых проблем структурной и инвестиционной политики, к сожалению, констатировало ошибочность выбранного курса работы, а все беды российской экономики объяснялись «объективными закономерностями переходного периода».
Поэтому в целом возобладал инерционный подход – упрямое продолжение ранее принятого курса, который в качестве главной цели выдвигал финансовую стабилизацию, предшествующую подъему производства, оживлению инвестиционной активности и решению социальных задач.
Инерционный подход не получил поддержки в академических кругах среди та- ких ученых, как Л. Абалкин, Л. Макаревич, В. Рязанов, Г. Ханин, по следующим причинам.
Во-первых, теоретически несостоятельно и практически неосуществимо разведение во времени задач финансовой стабилизации и оживления в реальном секторе экономики, т. е. подъем производства и наращивание инвестиций, потому что при больной экономике не может быть здоровых финансов, как и при падающем производстве невозможно увеличить доходы бюджета.
Во-вторых, ошибочно сводить финансовую стабилизацию к состоянию федерального бюджета и снижению темпов инфляции «любой ценой». С народнохозяйственных позиций финансовая стабилизация предполагает как минимум нормализацию денежного обращения, преодоление непомерно затянувшегося кризиса платежей, укрепление финансового положения главных субъектов рыночной экономики, восстановление функций денежных сбережений населения.
В-третьих, нельзя непомерно преувеличивать достоинства финансовой стабилизации при проведении рыночных реформ.
Именно поэтому сторонники постепенных преобразований считали программу 1995–1997 гг. новым вариантом монетаристских иллюзий и обещанием выполнить указания международных организаций как условие получения финансовой помощи.
Однако, критикуя своих оппонентов, ученые все-таки признают некоторые позитивные моменты «российского» этапа реформы:
– преодоление тотального огосударствления экономики;
– слом административно-командной системы управления;
– начало создания структуры и инфраструктуры современного рынка;
– появление хотя и массового, но довольно неоднородного слоя российских предпринимателей.
Говоря о конечных целях реформы, точнее, их достижении, следует акцентировать внимание на создании высокоэффективной и социально ориентированной экономики, гибкой и восприимчивой к нововведениям, обеспечивающей высокое качество жизни и ор- ганически включенной в мировое хозяйство. Однако эти цели не были достигнуты. Наоборот, ход социально-экономических процессов привел к прямо противоположным результатам. Сторонникам постепенной трансформации причина видится прежде всего в том, что ломка сложившейся системы явно опередила созидательную работу. Но самая главная причина неудач радикальных реформаторов представляется в порочности избранного курса социально-экономических преобразований, ошибочности стратегии и тактики их проведения. Ученые сходятся во мнении о бесперспективности навязанной модели реформирования и о чрезмерности разрушений, совершенных ельцинскими реформами [2; 6–8; 14–16; 21; 23; 25]. Б. Бакитский приходит к выводу, что реформы российского периода не только не создали предпосылок хозяйственного подъема и социального благополучия, но и породили опасные факторы необратимого разрушения хозяйства и деградации населения России, сделали весьма вероятной утрату Россией самостоятельности [24, с. 83].
Убедившись в неспособности «шокоте-рапевтов» создать не только социально ориентированную рыночную экономику, но и достаточно убедительную стратегию выживания, сторонники постепенных преобразований настойчиво рекомендуют смену курса социально-экономической политики. Так, ученые РАН предложили новую программу, направленную на обновление курса реформ и против разрушительных процессов искажения последнего.
В концентрированном виде эта концепция изложена в совместном докладе ряда видных экономистов России и США: Л. Абалкина, О. Богомолова, В. Макарова, Л. Клейна, В. Леонтьева, Д. Тобина, М. Интрилигейто-ра, М. Поумера и других, опубликованном в июле 1996 г. в преддверии второго тура президентских выборов [18]. Его суть заключалась в том, что власть остается в руках старой номенклатуры благодаря сохранению однопартийной системы и идеологической жесткости режима. Экономические преобразования должны проводиться постепенно и под контролем номенклатуры, а попытки альтернативной политической деятельности соответственно должны жестко подавляться.
Неудивительно, что радикальные реформаторы крайне негативно оценили эту концепцию, обвиняя ее разработчиков в уходе от реформ, усилении авторитаризма, поскольку в основу нового курса предлагалось положить опыт китайских преобразований [17, с. 6].
Нарастающее к 1996 г. в стране недовольство результатами реформ, критика и откровенный провал радикальных преобразований способствовали разработке сотрудниками Института экономики РАН «Новой экономической политики», которая предполагала продуманный и взвешенный путь перехода к рынку, высокое качество жизни населения.
Особенно подчеркивался тот факт, что обновление курса реформ не является одномоментным актом. В отличие от локальных решений, таких, например, как ставка процента или размер налоговых платежей, фиксация курса рубля, изменение таможенных пошлин или налоговых платежей, которые могут вводиться с определенной даты, переход к новой стратегии требует времени. Наряду с четким определением ее целевых установок и выбором национальных приоритетов, необходимо проведение крупного структурного маневра.
Одной из ключевых задач является восстановление управляемости экономики, создание надежного механизма управления государственной собственностью. Необходимыми условиями успеха обновления должны стать российская идея, расширение социальной базы реформ и доверие населения к власти.
Таким образом, ученые Отделения экономики РАН выступили инициаторами и сторонниками глубоких социально-экономических преобразований общественной жизни страны. К сожалению, в то время ни переизбранный президент, ни правительство не прислушались к высказанным рекомендациям.
Разразившийся в августе 1998 г. финансовый кризис, который не был неожиданностью для экономистов, работающих над проблемами реформирования экономики страны, прекратил дискуссию между сторонниками радикальных реформ («шокотерапевтами») и приверженцами постепенных преобразований («градуалистами») о том, что лучше, – быстрый или постепенный переход к рынку. История российских реформ свидетельствует о том, что радикальные реформы на деле не выдержали того темпа, который предполагался, ибо скорость реформирования вовсе не является определяющей в осуществлении перехода к рынку. Гораздо большее значение имеет макроэкономическая политика и эффективность институтов, измеряемая изменением доли государственных доходов и теневой экономики в ВВП [17; 19]. В результате сторонники постепенных преобразований пришли к выводу, что главная причина ошибок реформаторов-радикалов состоит не в ускоренном проведении реформ, а именно в неправильном выборе курса реформирования, ориентированного на рекомендации западных специалистов [6; 21; 23; 24].
Когда Россия оказалась на краю пропасти, в очередной раз предлагалась модель развития уже латиноамериканского образца, которая акцентирует внимание на либерализации торговли и финансово-кредитной системы; приватизации; дерегулировании экономики за счет сокращения государственного вмешательства в производство; всяческом содействии конкуренции и защите прав собственности; социальном обеспечении населения с использованием частного бизнеса.
Однако даже в латиноамериканском регионе отчетливо обозначились две противоположные тенденции. Одна – продолжение неолиберальных, рыночных преобразований, демонтаж прежней этатистской модели, основанной на принципах кейнсианства (Чили). Другая – возврат к усилению роли государства и даже национализации частных компаний, к применению жестких мер по вмешательству государственного аппарата в производственный процесс (Венесуэла, Никарагуа, Боливия).
На этом фоне позиционирование России по своей социально-экономической модели как весьма близкое к позиционированию многих латиноамериканских стран представлялось весьма противоречивым.
В связи с этим ученые Отделения экономики РАН за несколько дней до назначения академика Е. Примакова Председателем Правительства РФ обратились к Президенту России, Федеральному Собранию и Правительству России с предложениями по обеспечению минимальной экономической безопасности населения и страны от реальных угроз разразившегося финансового кризиса. Открытое письмо, подписанное Д. Львовым, Л. Абалкиным, О. Богомоловым, В. Макаровым, Д. Некипеловым, Н. Петраковым, С. Ситаряном, Н. Федоренко и другими, содержало изложение эмиссионной идеи вывода страны из кризиса [19].
Основные положения программы заключаются в следующем:
– регулярная индексация заработной платы, пенсий, пособий и стипендий за счет дополнительных бюджетных поступлений, «базирующихся на росте цен»;
– создание государственного фонда для централизованных закупок импортного продовольствия;
– расширение массивной денежной поддержки банков, реанимация механизма кредитования промышленности через уполномоченные банки;
– обязательная продажа экспортерами 100 % валютной выручки Центральному банку; резкое сокращение числа банков, уполномоченных проводить валютные операции;
– восстановление института спецэкспор-теров для определенных категорий «стратегических товаров»;
– решение проблемы неплатежей за счет «контролируемой эмиссии» и покрытия просроченных незачтенных долгов за счет разового вливания денег в экономику;
– создание условий для роста российского промышленного производства за счет стимулирования потребительского спроса на отечественные товары [9, с. 12].
Открытое письмо широко обсуждалось в прессе. Реформаторы в лице Е. Ясина посчитали программу оторванной от реальной жизни [26]. Ю. Латынина, например, отмечала, что «востребованные властью советские академики» подверглись критике, а их про- грамма была окрещена как «манифест нового курса», выражающего интересы бывших советских директоров. Кроме того, программа сторонников постепенных преобразований, на которых возлагалась вина за половинчатость реформ, потребовалась правительству лишь для расширения «своей социальной базы» [12].
В действительности в половинчатости российских реформ виноваты сами реформаторы, поскольку при приватизации социалистического государства была приватизирована только половина того, что состояло на балансе, а именно – активы. Обязательства же остались у государства. Например, приватизация жилья, т. е. активов государства, оказалась делом простым. А вот жилищнокоммунальные услуги, т. е. пассивы государства, остались на дотации у бюджета. Благодаря половинчатости государство превратилось в высокодоходный финансовый инструмент, доступный крайне ограниченному кругу лиц.
Однако Е. Ясин описывает данную проблему в несколько иной плоскости, рассуждая о государстве как об неэффективном собственнике. Так, по его мнению, «российская экономика не является свободной. В ней не обеспечены равные условия конкуренции, очень силен бюрократический произвол. Малый бизнес существует в полуподавленном состоянии, преимущественно в тени. Не обеспечен свободный вход на рынок. Созданы антимонопольные органы, но они пока обычно опасаются браться за самые острые вопросы, опасные проявления монополизма, в том числе со стороны властей, участвующих в бизнесе. Так что либерализация не завершена. Приватизация также далека от завершения, до трети активов находится в руках государства, и многие функции, которые можно было бы передать частному сектору, выполняются чиновниками. На многих государственных или полугосударственных предприятиях сохраняется плохое управление и нет внутренних стимулов к его улучшению: менеджеры больше думают о перераспределении собственности в свою пользу. Начинает складываться заметный разрыв в уровне менеджмен- та государственных и частных компаний». В завершение мысли он делает главный вывод: «Сама по себе приватизация отходит на второй план, в сфере отношений собственности более важны спонтанно идущие процессы перераспределения и закрепления прав собственности» [28, с. 389].
Неприкрытый паразитизм чиновников должен был закончиться дефолтом, а когда это произошло, власти потребовалась более широкая социальная база, которую обеспечили своей программой ученые-академики. Она, по мнению экспертов, является несколько расширенным и демократизированным вариантом той системы, которая сформировалась за годы реформ в России. «Та партия бывших советских директоров крупных и средних предприятий, выразителями интересов которой можно считать бывших советских академиков, вовсе не заинтересованы в государственной собственности на средства производства. Они заинтересованы в другом – в предоставлении директорам тех прав, которыми сейчас пользуются только олигархи» [12, с. 13]. Именно для расширения круга соискателей финансовой милости, пишет Ю. Латынина, вводятся новые механизмы и осуществляется переход от сугубо индивидуальных концессий к поточному методу предоставления льгот, каковым являются институты спецэкспортеров или множественность валютных курсов.
Тем не менее после утверждения нового состава правительства во главе с Е. Примаковым идеи, которые нарабатывались в предшествующие годы, были на определенное время востребованы. Хотя, как отмечает Л. Абалкин, «замалчиванию богатейшего потенциала российской экономической науки пришел конец» [6, с. 6], дальнейшие события показали, что устойчивое и системное привлечение ученых РАН, не только экономистов, к разработке программы возрождения России еще не состоялось.
Оценивая в целом эволюцию взглядов сторонников постепенных преобразований, можно сказать, что они неуклонно следовали такому курсу реформ, который предлагал правительству различные программы вывода страны из кризиса на протяжении деся- тилетнего периода преобразований, основанные на теории социальных альтернатив. Радикальные реформы, по их мнению, начались в 1989 г., когда была разработана первая концепция радикального реформирования экономики. Весь период реформ они делят на два этапа: первый, советский этап преобразований (1989–1990 гг.) и второй, российский этап, начавшийся в 1992 г.
«Шоковая терапия» и последующий переход к стратегии выживания воспринимаются «градуалистами» как отклонение от курса реформ. Более того, по их мнению, с определенного момента рыночные реформы в смысле перехода к социально ориентированной рыночной экономике в стране вообще не проводились, их заменил ошибочный курс социально-экономической политики, который лишь назывался «реформами». В результате было потеряно доверие народа к правительству, финансовым организациям и самим реформам.
Наблюдается и смена акцентов в оценке «шокотерапевтов». Если в первые годы российских реформ основным недостатком политики их проведения считалось желание одним скачком перейти к рынку, то со временем было признано, что ошибочны не столько выбранные темпы преобразований, сколько выбранный стратегический курс.
«Градуалисты» неоднократно подчеркивали, что второй этап реформирования отличается замалчиванием богатейшего потенциала российской экономической науки и обращением к рекомендациям плохо знающих Россию зарубежных экспертов. Они обосновывают необходимость радикального поворота проводимой в стране социальноэкономической политики, доказывая, что продолжение старого курса носит тупиковый характер. При этом, в процессе перехода к рынку менялись оценки темпов преобразований в сторону замедления, ибо смена курса не может являться одномоментным актом. Кроме того, ученые уже не ориентируются на какую-либо западную или восточную модель развития, считая наиболее важным учет национальных особенностей страны.
Несмотря на пессимистические оценки западных экспертов [9], сторонники постепенных преобразований придерживаются той позиции, что Россия имеет шанс на возрождение и должна идти по пути социального творчества и созидания, освоения богатого наследия и вновь стать великой экономической державой [2; 6; 10; 13; 22; 23].
13 февр. – С. 2.
Список литературы Концепции постепенного и радикального реформирования экономики России в условиях постсоветской трансформации: за и против
- Абалкин Л. И. В тисках кризиса/Л. И. Абалкин. -М.: Ин-т экономики РАН, 1994. -271 с.
- Абалкин Л. И. Выбор за Россией/Л. И. Абалкин. -М.: Ин-т экономики РАН, 1998. -212 с.
- Абалкин Л. И. Зигзаги судьбы: Разочарования и надежды/Л. И. Абалкин. -М.: Ин-т экономики РАН, 1996. -289 с.
- Абалкин Л. И. Неиспользованный шанс: Полтора года в правительстве/Л. И. Абалкин. -М.: Политиздат, 1991. -304 с.
- Абалкин Л. И. Проблемы и необходимые коррективы политики экономической реформы/Л. И. Абалкин, Ю. П. Авдиянц, О. И. Ананьин. -М.: Ин-т экономики РАН, 1992. -108 с.
- Абалкин Л. И. Спасти Россию/Л. И. Абалкин. -М.: Ин-т экономики РАН, 1999. -254 с.
- Арсентьев Н. М. Проблема модернизации России в контексте цивилизационного и геополитического выбора/Н. М. Арсентьев, Д. В. Доленко//Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. -2010. -№ 2. -С. 6-13.
- Арсентьев Н. М. Российская модернизация: развитие капитализма и проблема цивилизационного выбора в XVIII -начале XX века/Н. М. Арсентьев, Д. В. Доленко//Экономическая история. -2010. -№ 4. -С. 4-19.
- Галлиев А. Раздвоение личности/А. Галлиев//Эксперт. -1998. -№ 35. -С. 10-12.
- Греф Г. Внутри каждого сидит ожидание чуда/Г. Греф//Известия. -2000. -29 дек.
- Грэм Т. Возрождение России отнюдь не неизбежно/Т. Грэм//Моск. комсомолец. -2001. -13 февр. -С. 2.
- Латынина Ю. Директора против олигархов/Ю. Латынина//Эксперт. -1998. -№ 35. -С. 13.
- Львов Д. Будущее Российской экономики/Д. Львов//Экономист. -2000. -№ 12. -С. 3-18.
- Макаревич Л. Кризис постсоветской экономической модели/Л. Макаревич//Бюл. фин. информации. -М., 1998. -№ 9. -С. 4-21.
- Малоземов С. И. трансформационные процессы в россии: проблемы, тенденции, последствия/С. И. Малоземов//Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. -2012. -№ 4. -С. 41-50.
- Малоземов С. И. Модернизация сельского хозяйства россии в переходных условиях/С. И. Малоземов//Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. -2010. -№ 2. -С. 26-33.
- May В. Российские экономические реформы глазами западных критиков/В. Мау//Вопр. экономики. -1999. -№ 11. -С. 4-23.
- Новая экономическая политика для России: Совместное заявление российских и американских экономистов//Независимая газ. -1996. -1 июля.
- Открытое письмо ученых Отделения экономики РАН Президенту, Федеральному собранию и Правительству РФ//Экономика и жизнь. -1998. -№ 37. -С. 2-3.
- Попов В. Шокотерапия против градуализма: конец дискуссии/В. Попов//Эксперт. -1998. -№ 35. -С. 14-19.
- Рязанов В. Т. Смена трансформационной модели в России: причины и перспективы/В. Т. Рязанов//Шансы российской экономики/под ред. Ю. Осипова, Е. Зотовой. -М., 1997. -С. 225-251.
- Рязанов В. Т. Экономическое развитие России: реформы и российское хозяйство в XIX-XX вв./В. Т. Рязанов. -СПб.: Наука, 1998. -796 с.
- Ханин Г. Стабилизация кризиса/Г. Ханин//ЭКО: Экономика и организация промышленного производства. -2000. -№ 3. -С. 11-50.
- Шансы российской экономики/под ред. Ю. Осипова, Е. Зотовой. -М.: Теис, 1997. -665 с.
- Экономическая реформа: поиск решений: материалы Всесоюз. науч.-практ. конф. по проблемам радикал. экон. реформы, 13-15 нояб. 1989 г./под общ. ред. Л. Абалкина, А. Милюкова. -М.: Политиздат, 1990. -288 с.
- Ясин Е. Не надо приставать к людям/Е. Ясин//Известия. -2001. -12 февр.
- Ясин Е. Поражение или отступление? (Российские реформы и финансовый кризис)/Е. Ясин//Вопр. экономики. -1999. -№ 2. -С. 4-28.
- Ясин Е. Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных реформ/Е. Ясин. -М.: ИД ГУВШЭ, 2002. -437 с.