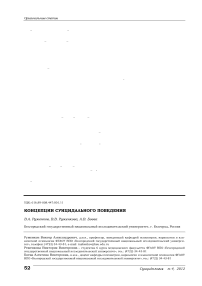Концепции суицидального поведения
Автор: Руженков Виктор Александрович, Руженкова Виктория Викторовна, Боева Алевтина Викторовна
Журнал: Суицидология @suicidology
Статья в выпуске: 4 (9) т.3, 2012 года.
Бесплатный доступ
В обзоре излагаются основные взгляды на генез суицидального поведения, приводится разработанная авторами классификация концепций суицидального поведения, анализируется вклад в его генез индивидуально-личностных, анатомо-антропологических, генетических, социально-средовых и клинических факторов.
Суицидальное поведение, самоубийство, теория суицида, факторы риска суицида
Короткий адрес: https://sciup.org/140141373
IDR: 140141373 | УДК: 616.89-008.447:001.11
Текст научной статьи Концепции суицидального поведения
Анализ доступных данных литературы показал, что в настоящее время существует ряд различных концептуальных взглядов на предполагаемые механизмы формирования суицидального поведения. В зависимости от отрасли науки, лежащей в основе интерпретации генеза суицидального поведения, можно выделить: социологическую, анатомо - антропологическую, психологическую, генетическую, биохимическую, клиническую (психиатрическую) и эклектическую концепции.
-
I. Социологическая теория самоубийства.
Первым фундаментальным научным трудом, объясняющим механизм формирования суицидального поведения, была работа социолога Э. Дюркгейма «Самоубийство. Социологический этюд» [23], впервые изданная в 1897 году. Он выделил четыре типа суицида: аномический, фаталистический, эгоистический и альтруистический. Первые два относятся к регуляции социальной жизни общества¸ остальные два – к характеристикам личности.
Аномический суицид (аномия – нарушение закона) имеет место в обществах с внезапным нарушением регуляции социальной жизни и взаимоотношения индивида и общества. Суициды совершают лица, потерявшие связи с референтной группой, привычным укладом жизни, ценностными установками. Типичными примерами таких суицидов являются внезапная безработица, разводы, вынужденная миграция, экономические потрясения. Рост аномических суицидов увеличивается при социальной нестабильности, нарушении общественных ценностей.
Фаталистические суициды имеют место в автократических обществах, общественных структурах с жесткой регуляцией поведения личности. Это относится к тюрьмам, армии, военизированным организациям.
Эгоистические суициды детерминируются недостаточной интеграцией общества, референтной группы или семьи. Общественные формации перестают регулировать и определять поведение человека. Индивид, оказавшись в одиночестве, больше подвержен суицидальному поведению. Эгоистические суициды возникают у разведенных, стариков и больных людей с чувством утраты своего «Я» как части общества.
Альтруистические суициды возникают в случаях, когда социальная интеграция является излишней и индивид в соответствии с общественными нормами, правилами, регламентом исполняет суицидальный акт. Это ритуал «сати» среди вдов в Индии, «харакири» среди потерпевших поражение мужчин в Японии, героические поступки с самопожертвованием.
Э. Дюркгейм впервые показал, что рейтинг самоубийств напрямую связан с социальной интеграцией человека – то есть степенью, в которой индивид чувствует себя частью большой группы. Самоубийство наиболее вероятно в том случае, когда человек испытывает недостаток социальных отношений, переживает одиночество, особенно когда такая проблема встает перед ним внезапно, например, при потере работы. Исследования современных авторов [19, 29, 31, 41, 46, 77, 80, 81] также указывают на роль социальных факторов в генезе самоубийств. Резкое изменение привычного стереотипа жизни нередко приводит к затруднениям к адаптации к новым социальным условиям и выработке адекватных ситуации поведенческих стереотипов, что обусловливает социальную дезадаптацию, повышает уровень невротизации, увеличивая число дезадаптив-ных реакций, в том числе и суицидальное поведение [2, 15, 20]. Количество суицидов отражает экономический статус социума, уровень культуры, возможность цивилизованного развития общества, степень адаптации индивидуумов к социально-культурной среде обитания [2, 8, 14, 24, 25].
-
II. Психологические концепции суицидального поведения.
Психологические концепции самоубийств включает психодинамическую, экзистенциально-гуманистическую и бихевиоральную модели.
Основоположник психодинамического направления в современной психологии З. Фрейд [52] создал первую психологическую теорию суицидального поведения. Полагая, что ненависть к самому себе, наблюдаемая при депрессиях, возникает как гнев по отношению к любимому человеку, который субъекты направляют назад, против самих себя, он рассматривал суициды как крайнюю форму этого явления и высказал сомнение в существовании суицидов без наличия более раннего подавленного желания убить кого-либо еще. В работе «Печаль и меланхолия» он указывал, что у человека есть два вида влечений: инстинкт жизни - Эрос и влечение к смерти, разрушению и агрессии - Танатос. Существуют постоянные колебания между силой этих двух противоположных инстинктов. Эрос со временем стареет, вечный же Танатос остается в высшей степени напористым до самого конца, на всем протяжении жизни человека, достигая своей цели лишь приводя его к смерти. Другие представители психодинамического направления [66], описывая механизм суицидального поведения, обозначали его как «отставление», «ретро-флексивное убийство» - повернутое на себя в результате действия психологического защитного механизма - ретрофлексии (в терминологии гештальтпсихологии), а также - «само-наказание».
К.Г. Юнг [57, 58], основатель аналитической психологии, касаясь вопроса о самоубийстве, указывал на бессознательное стремление человека к духовному перерождению. Оно может стать важной причиной смерти от собственных рук. Люди не только желают уйти от невыносимых условий настоящей жизни, совершая самоубийство, они торопятся со своим метафорическим возвращением в чрево матери. Только после этого они превратятся в детей, вновь рожденных в безопасности. В образном языке символической мудрости веков («архетипах») есть знаменитое Распятие: после смерти человека ожидает награда в виде новой жизни вследствие воскрешения.
Дж. Хиллман [53], последователь К.Г. Юнга, считал, что суицид является важным и законным способом обретения смерти, которая «освобождает наиболее глубокие фантазии человеческой души». Он цитировал английского философа Д. Юма: «Когда я падаю на свой меч, то этим я принимаю смерть от руки божества настолько же, как если бы она была следствием нападения льва, падения в пропасть или лихорадки».
Представитель неопсихоанализа К. Хорни [54] считала, что культура, религия, политика и другие общественные силы вступают в сговор с целью искажения развития личности ребенка. Чувствуя себя в опасном окружении, дети рас- сматривают мир как враждебную среду для жизни. Это вызывает у них появление «основной тревоги». Суицид может возникнуть как следствие детской зависимости, глубоко укоренившихся чувств неполноценности. Самоубийство может быть также «суицидом исполнения», из-за возникновения у человека чувства несоответствия стандартам, ожидаемым обществом. В соответствии со взглядами К. Хорни, суицид является результатом сочетания внутренних характеристик личности и факторов окружающей среды.
Основатель индивидуальной психологии А. Адлер [1] рассматривает суицид как результат кризиса, который возникает в связи с поиском человеком пути преодоления комплекса неполноценности. В итоге человек оказывается в состоянии застоя, который не позволяет ему приблизиться к реальности, что приводит к регрессии. Крайней стадией регрессии является суицидальная попытка.
-
К . Меннингер [32], разделяя точку зрения З. Фрейда в том, что в жизни человека существует напряженная борьба между инстинктами самосохранения и саморазрушения, выделил три взаимосвязанных бессознательных механизма: месть/ненависть (желание убить), депрессия / безнадежность (желание умереть) и чувство вины (желание быть убитым).
Во-первых, для того чтобы совершить самоубийство, необходимо иметь желание убить. Оно, например, проявляется в ярости младенцев, если их желания фрустрируются. «Подобно грудным детям, противящимся отнятию от груди и чувствующим, что у них забирают нечто, на что они имеют право, суициденты, будучи в большинстве своем инфантильными, могут не выдержать помех на пути исполнения их желаний». Желание убить в этом случае, посредством механизма психологической защиты (ретрофлексии), обращается против «желающего» и реализуется путем самоубийства.
Во-вторых, необходимо испытывать желание быть убитым. Подобно тому, как убийство является крайней формой агрессии, желание быть убитым представляет собой крайнюю форму подчинения. Требования совести зачастую оказываются столь непоколебимыми, что лишают человека внутреннего покоя. Чтобы быть наказанным из-за нарушения моральных норм, люди часто ставят себя в ситуацию, в которой они вынуждены страдать. В конце концов, они искупают свою вину только тем, что должны быть убиты.
В-третьих, важным составным побуждением самоубийства является желание умереть. Иллюстрацией является рисковое поведение водителей или альпинистов, которые буквально нуждаются в том, чтобы подвергать себя постоянной опасности.
Точка зрения основателя трансактного анализа – Э. Берна [10, 11], заключается в трактовке суицидального поведения как результата формирования и развития жизненного сценария, основные черты которого закладываются еще в раннем детском возрасте, под влиянием «родительских предписаний».
Автор теории личностных конструктов G. Kelly [68, 69], возражая против психоаналитической концепции самоубийства, истолковывал его как акт, совершаемый с целью доказать достоверность своей жизни, либо как акт ухода от действительности. В последнем случае самоубийство совершается из-за фатализма или тотальной тревоги: ход событий так очевиден, что нет смысла дожидаться результата (фатализм), либо все так непредсказуемо, что единственный определенный поступок, который можно совершить – уйти со сцены.
Представители экзистенциально - гуманистического направления полагают, что основная причина самоубийств – «экзистенциальный вакуум», утрата смысла жизни [51, 59].
Рассматривая генез суицидального поведения, представители бихевиорального направления исходят из понятия «рефлекса цели» [34]. Рефлекс цели является основной формой жизненной энергии человека; жизнь перестает призывать к себе, как только исчезает цель. Причины попыток покушения на жизнь и самоубийств заключается в кратковременном, реже – продолжительном торможении рефлекса цели.
С точки зрения Г.С. Салливана [44], представителя бихевиоризма, автора теории межличностного общения, так же как электроны приводятся в движение магнитным притяжением, так и человек реагирует на других значимых ему людей. Каждый человек имеет три олицетворения «Я»: когда он человек чувствует себя в безопасности, он является «хорошим Я», в состоянии тревоги он становится «плохим Я», а в психотических кошмарах индивид превращается в «не-Я». Если возникнет угроза безопасности из-за неразрешенного кризиса, то конфликт и тревога могут стать для человека невыносимыми. В этих обстоятельствах у него может возникнуть желание перевести свое «плохое Я» в «не-Я», и таким образом совершить суицид. В состоянии депрессии саморазрушение является привлекательной альтернативой для индивида. Суицид отражает, по мнению автора, переориентированное на себя враждебное отношение индивида к другим людям и внешнему миру (тот же защитный психологический механизм «ретрофлексия»).
А.T. Beck [67], представитель когнитивнобихевиорального направления, в причинах самоубийства видит роль негибкого мышления («Жизнь ужасна, альтернатива ей только смерть...»), которое ведет к невозможности выработки оптимальных решений своих проблем.
Американский психолог E.S. Shneidman [78] описал несколько серьезных характеристик суицида. Сюда включается чувство невыносимой душевной боли, чувство изолированности от общества, ощущение безнадежности и беспомощности, а также мнение, что только смерть является единственным способом решить все проблемы. Он разработал типологию индивидов, играющую непосредственную роль в приближении своей смерти.
-
• Искатели смерти расстаются с жизнью преднамеренно, причем таким образом, что спасение является невозможным или крайне невероятным.
-
• Инициаторы смерти (к ним относятся неизлечимо больные), лишающие себя систем обеспечения, отсоединяя иглы или канюли.
-
• Игроки со смертью – это те, кто делает свою жизнь ставкой в ситуации относительно низкой вероятностью выживания, как например, в русской рулетке, где шансы погибнуть составляют 1 из 6.
-
• Существует еще тип людей одобряющих смерть, хотя и не играющих активной роли в ее приближении, но честно заявляющих, что желали бы своего конца. Этот тип часто встречается среди тревожной молодежи и одиноких стариков.
-
III. Анатомо-антропологическая теория самоубийств.
Основоположником анатомо - антропологической точки зрения на самоубийство является Ч. Ломброзо [30], считающий причиной покушения на жизнь различные аномалии в строении и развитии организма. Биологические предпосылки к самоубийству автором объяснялись аномалиями строения черепа, которые производят механическое действие на головной мозг, препятствуют нормальной психической деятельности. При патанатомическом вскрытии лиц, покончивших жизнь самоубийством, нередко обнаруживались анатомические изменения (уродства, опухоли, кровоизлияния в мозг, гиперостозы черепа). Это давало основание полагать, что в момент самоубийства психическое равновесие субъекта было нарушено. Сходной точки зрения придерживается и А.Н. Корнетов [24, 25], выявивший у лиц, совершивших попытки покушения на жизнь, типичные признаки соматопсихического дизон-тогенеза в виде морфологических дисплазий и дисфункциональных нарушений, являющихся результатом повреждений в раннем периоде развития.
Составной частью антропологической теории, являются кросс-культуральные исследования этнических различий в уровне суицидальности [64]. Выдвигается гипотеза, согласно которой в каждом народе проявляется некая «коллективная сила», «определенная энергия», оказывающая деструктивное влияние на поведение его представителей. Эта теория близка к психологической (архетипы смерти в понимании К.Г. Юнга). На существенную роль в генезе суицидального поведения этнических факторов указывали и отечественные психиатры [22, 39-41].
-
IV. Генетические факторы в генезе самоубийств.
Ряд исследователей выявили высокую частоту суицидов у больных депрессией в случае, если среди их родственников были лица, совершившие самоубийство [75, 76, 79]. На самоубийства среди биологических родственников, как одним из важных факторов суицидального риска для психически больных, указывают и другие авторы [55]. В то же время существует и противоположная точка зрения [74], согласно которой семейный анамнез не может служить надежным предиктором суицида у пробанда. Высказывается точка зрения, что суициды среди родственников могут влиять как психологический фактор, снимающий подсознательный «запрет на убийство».
-
V. Биохимические концепции суицидального поведения.
В литературе имеют место предположения, что стремление к самоубийству может быть обусловлено изначальными (врожденными) дефектами той или иной системы организма [70, 71, 82], в частности дефицит серотонина. У тех суицидентов, которые совершали суицидальные попытки более насильственными способами (огнестрельные ранения, падения с высоты), обнаруживался более низкий уровень 5-HIAA (5-гидрокси-3-индолуксусной кислоты) в спинномозговой жидкости, по сравнению с теми, которые не совершали суицидальных попыток или совершали их с помощью менее насильственных методов (самоотравление медикаментами или средствами бытовой химии).
-
VI. Самоубийство – как душевная болезнь.
Психопатологическая концепция самоубийств, берущая начало в работах первой половины XIX в., рассматривала самоубийство как продукт болезненно измененной психики, квалифицируя суицидальные проявления как симптом психического заболевания. Так в своей работе «О помешательстве» французский психиатр J.E.D. Esquirol [62] пишет, что «... в самоубийстве проявляются все черты сумасшествия. Только в состоянии безумия человек способен покушаться на свою жизнь, и все самоубийцы – душевно больные люди». J-P . Falret [63] также отождествлял суицид с душевной болезнью. Такое понимание самоубийства нашло последователей и в России [43].
Психиатрическая концепция суицидального поведения значительно повлияла на гуманизацию общественного мнения в отношении самоубийц и лиц, совершивших суицидальные попытки, так как в большинстве Европейских стран самоубийство трактовалось как противоправное деяние вплоть до конца прошлого века, а самоубийцы зачастую приравнивались к уголовным преступникам, против которых предусматривались юридические санкции [3-6, 50].
Отечественный психиатр И.А. Сикорский в своих «Основах теоретической и клинической психиатрии» [45] относил феномен суицида к так называемой «психической неустойчивости», понимая под ней довольно широкую область, которая «одной своей стороной соприкасается со здравием души», а другой – с миром психозов. По мнению С.С. Корсакова [26], большинство самоубийц происходит из психопатических семей, и, нередко, они сами имеют резкие признаки психической неуравновешенности. Поэтому он расценивал самоубийство как акт душевного, нередко кратковременного, расстройства. На роль депрессии в генезе самоубийств указывал K. Achté [60].
Современная клиническая концепция суицидального поведения рассматривает психиче- скую патологию и ее удельный вес в генезе суицидального поведения противоречиво. Отечественные авторы [5] считают, что среди лиц с завершенными суицидами соотношение среди больных психическими заболеваниями, пограничными нервно-психическими расстройствами и практически здоровых в психическом отношении лиц пропорция составила 1,5 : 5 : 1, т.е. психически здоровые составляют 13,3%. В то же время, по мнению некоторых авторов [38, 42], у суицидентов, отнесенных к числу психически здоровых, в действительности имеют место патологические формы дезадаптации личности в виде предболезненных состояний, которые на высоте дезадаптации в течение короткого времени переходят на клинический уровень. Еще В.М. Бехтерев [12] в докладе «О причинах самоубийства и возможной борьбе с ним» на съезде психиатров и невропатологов возражал против отождествления самоубийств с душевной болезнью, равно как и против их отнесения исключительно к поступкам психически здоровой личности. Он подчеркивал, что самоубийство совершают люди, о наличии у которых психического заболевания нельзя сказать и за несколько часов до трагедии. Cуицид – это акт, выходящий из рамок обычных действий человека, и, в большинстве случаев, вряд ли совершается вполне обдуманно и спокойно, поэтому его невозможно однозначно отграничить от психического расстройства.
-
VII. Эклектические теории самоубийства.
Современные исследователи рассматривают суицидальное поведение как многофакторное явление, в генезе которого играют роль клинические, социально-психологические и индивидуально-личностные факторы [16, 17, 36, 47, 48, 65, 72, 73, 79], а сам суицид – явление неоднородное: в одних случаях – это обдуманные, заранее запланированные действия, в других – импульсивные [49].
Суицидальное поведение определяют: раса, пол, возраст, психологические особенности личности, образование, социальное и семейное положения, социальная изоляция личности, урбанизация, экономический спад, алкоголизм и наркомания, нарушения здоровья, сезонность, потеря родителей в детстве, попытка самоубийства в анамнезе, время года и дня, местность, вероисповедание, профессия и другие [7, 18, 33, 35].
В концепции суицидального поведения А.Г. Амбрумовой [3, 5], используется интегративный подход к генезу суицидального поведения. Суицидальное поведение рассматривается как следствие социально-психологической дезадаптации личности в условиях переживаемого субъективно неразрешимого микросоциально-го конфликта. Самоубийство – результирующая различных социальных, культурологических, психологических и патопсихологических воздействий на индивида [6].
Таким образом, генез суицидального поведения определяется сложным соотношением социально-средовых, генетических, индивидуально-личностных и (при наличии психического расстройства) психопатологических факторов, удельный вес которых и вклад в формирование суицидального поведения в каждом отдельном случае различен, что важно учитывать при разработке дифференцированных программ превенции суицидального поведения.