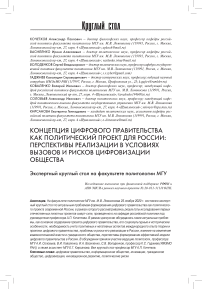Концепция цифрового правительства как политический проект для России: перспективы реализации в условиях вызовов и рисков цифровизации общества
Автор: Кочетков Александр Павлович, Василенко Ирина Алексеевна, Коваленко Валерий Иванович, Соловьев Александр Иванович, Кирсанова Екатерина Геннадьевна, Гаджиев Камалудин Серажудинович, Володенков Сергей Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Круглый стол
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
На факультете политологии МГУ им. М.В. Ломоносова 25 ноября 2020 г. состоялся экспертный круглый стол по актуальным проблемам формирования цифрового правительства как политического проекта современной России, в рамках которого рассматривались результаты исследования первых отечественных пилотных проектов смарт-сити, проведенного на кафедре российской политики под руководством профессора А.П. Кочеткова. В рамках дискуссии обсуждались такие актуальные проблемы, как основное содержание проекта цифрового правительства, его социокультурные и исторические особенности, необходимость учета позитивных и негативных аспектов международного опыта теории и практики цифрового правительства, проблемы и риски его реализации в России, влияние на изменение взаимоотношений власти и гражданского общества, перспективы формирования эффективной модели цифрового правительства» в России. В обсуждении приняли участие ведущие политологи, профессора МГУ А.И. Соловьев, В.И. Коваленко, И.А. Василенко, С.В. Володенков, профессор К.С. Гаджиев (ИМЭМО РАН), а также ассистент МГУ Е.Г. Кирсанова. Вел круглый стол профессор МГУ А.П. Кочетков.
Цифровое правительство», информационное общество, инновации, гражданское общество, цифровизация, инновационное развитие, политические риски
Короткий адрес: https://sciup.org/170174569
IDR: 170174569 | DOI: 10.31171/vlast.v29i1.7963
Текст научной статьи Концепция цифрового правительства как политический проект для России: перспективы реализации в условиях вызовов и рисков цифровизации общества
Кочетков А.П. Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы собрались, чтобы обсудить очень интересную и важную для развития нашей страны проблему: концепцию цифрового правительства как политического проекта современной России. Переход к инновационному типу экономического развития является приоритетным направлением государственной политики не только в России, но и во многих странах мира, что подтверждается принятием широкого перечня законодательных документов на всех уровнях власти. На кафедре российской политики факультета политологии было проведено исследование, посвященное формированию концепции цифрового правительства в политической науке и перспективам ее реализации в российской практике в условиях цифровизации общества. Научная новизна проекта связана с концептуальным осмыслением перехода от уже утратившей эвристическое значение концепции э-правительства к более прогрессивной модели цифрового правительства, способной вывести систему политического управления на более высокий уровень, адекватный новым вызовам времени.
В частности, были поставлены и решены следующие основные задачи. Так, профессор И.А. Василенко:
– рассмотрела концептуальный переход от модели электронного правительства к модели цифрового правительства в современной политической науке;
– выявила эвристический потенциал новой модели, ее основные черты и принципы;
– показала влияние социокультурных традиций на процесс ее реализации;
– исследовала перспективы внедрения концепции цифрового правительства в российскую политическую практику в контексте решения актуальных социально-политических задач развития российского общества в условиях цифровизации.
Кандидат политических наук Е.Г. Кирсанова:
– проанализировала особенности использования концепции цифрового правительства в процессе формирования национальной инновационной системы;
– изучила влияние цифровизации на политический процесс в экономике знаний;
– сформулировала предложения по корректировке государственной политики в контексте реализации концепции цифрового правительства.
Профессор А.П. Кочетков на основе использования опыта Москвы и Санкт-Петербурга:
– рассмотрел теорию и практику деятельности цифрового правительства в контексте развития инновационных форм взаимодействия власти и гражданского общества, где практика данного взаимодействия получила наибольшее развитие;
– проанализировал позитивный опыт организации коммуникаций между формирующимся цифровым правительством и гражданами;
– показал имеющиеся проблемы и трудности в практике совместной деятельности российских граждан с цифровым правительством;
– дал практические рекомендации по дальнейшему совершенствованию взаимодействия власти и гражданского общества в современной России в контексте развития цифрового правительства.
Наш исследовательский коллектив пришел к выводу, что формирование инновационного уклада сопровождается новыми явлениями в политической и экономической сферах. Подобные процессы связаны с современными вызовами научно-технического прогресса, кардинальными инновационными преобразованиями и, конечно же, с цифровизацией управления и экономики. Их воздействие на общественную жизнь очень велико и требует глубокого концептуального осмысления, оценки развития, последствий и перспектив, учета социокультурных и исторических особенностей развития России. От этого зависит эффективность управления не только экономическими процессами, но и всеми сферами жизни общества.
В этой связи на повестку дня встает вопрос о современной модели управления, а именно о функционировании модели цифрового правительства в условиях построения национальной инновационной системы, ее возможностях и пределах, преимуществах и недостатках. Здесь возникает целый ряд вопросов как теоретического порядка, так и практического воплощения в жизнь данной концепции, которые мы сегодня должны обсудить. И начать хотелось бы с того, какую концепцию развития цифрового правительства можно предложить России сегодня. По этому вопросу хочу предоставить слово профессору И.А. Василенко.
Василенко И.А. Проект цифрового правительства для России сегодня только начинает формироваться, поэтому очень важно заострить внимание на наиболее значимых для нашего общества идеях и перспективах этого проекта. Прежде всего, следует подчеркнуть, что пока в отечественном политическом дискурсе не произошло дифференциации между концепцией электронного правительства, где основное внимание уделяется необходимости предоставления государственных услуг в электронном виде, и концепцией цифрового правительства, которая предполагает значительно более высокий уровень организации цифрового управления.
Необходимо подчеркнуть, что цифровое правительство и электронное правительство – две качественно разные модели цифрового управления, отличающиеся технологически, структурно и концептуально. Они решают разные задачи и ориентированы на разные критерии эффективности управления, при этом модель электронного правительства является подготовительным этапом на пути формирования цифрового правительства. Если основная задача электронного правительства – предоставление государственных услуг в электронной форме и более эффективное использование потоков информации в системе управления, то важнейшим направлением деятельности цифрового правительства становится управление развитием национальной инновационной системы, человеческим капиталом и современными формами электронной демократии.
Главная задача ЦП – ориентация на стимулирование инновационной деятельности во всех сферах производства и общественной жизни. Правительство должно работать по принципу инновационной лаборатории, аккумулируя все наиболее важные инициативы со стороны общества – от школ и университетов до производства. Оно должно сформировать новую культуру в сфере инновационной деятельности и предоставления государственных услуг для ее развития – национальную экосистему стартапов.
В российском проекте ЦП очень важно заострить внимание на магистральном направлении деятельности – формировании правительства по модели инновационной лаборатории, которая аккумулирует все наиболее важные инициативы со стороны общества – от школ и университетов до производства. Основной целью нашей модели ЦП должно стать формирование высокоэффективной национальной инновационной системы.
Кочетков А.П. Но при формировании концепции цифрового правительства нельзя игнорировать социокультурные традиции России.
Василенко И.А. По поводу социокультурных традиций. Среди отечественных и зарубежных политологов существует мнение, что при формировании цифро- вого правительства на первом месте стоят проблемы цифровизации власти, это процесс универсальный, технологический, поэтому социокультурная специфика здесь второстепенна. Это опасное заблуждение, которое сегодня подвергается критике, исходя из опыта внедрения технологий цифрового правительства в крупных национальных государствах (США, Китай). Игнорирование социокультурных традиций в процессе цифровизации власти привело здесь не к усилению, а к падению эффективности политического управления с использованием новой модели. Критический анализ как достижений, так и негативных сторон опыта таких стран, как США, Япония, Сингапур, Южная Корея, очень важен для развития отечественной концепции ЦП. Мы должны разрабатывать свой оригинальный национальный проект ЦП в России, используя все самое лучшее из мирового опыта, формируя наш оригинальный национальный проект с учетом отечественных социокультурных традиций.
Гаджиев К.С. Я хочу поддержать этот тезис профессора Василенко о роли мирового опыта в формировании отечественной концепции ЦП. Нам важен именно критический сравнительный анализ мирового опыта, своевременное выявление ошибок, заблуждений, негативных сторон и рисков этой новой модели власти и управления в разных странах мира. Мне также хочется подчеркнуть высокую актуальность обсуждаемого научного проекта кафедры российской политики по исследованию формирования концепции ЭП в политической науке для отечественной политической элиты, которая сегодня только начинает задумываться о возможностях и рисках цифровизации политической власти в стране. Именно сейчас важно привлечь внимание отечественных ученых к всестороннему обсуждению формирующейся отечественной модели ЦП.
Василенко И.А. Мне хочется обратить ваше внимание на опыт Сингапура. Сингапур сегодня по праву считается одним из мировых лидеров в продвижении концепции умного правительства в умном городе. Цель цифрового правительства в этой стране – формирование умной нации: это означает, что речь идет не только о новом типе управления, но и о формировании умного сообщества, использующего цифровые технологии для развития всего общества.
Основное направление деятельности умного правительства – использование в общественной жизни креативных решений для каждого гражданина. При этом правительство Сингапура стремится объединить усилия всех общественных институтов – университетов, предприятий, правительственных организаций – для совместной разработки инновационных решений в общественной жизни.
Важным направлением деятельности умного правительства является поддержка больших идей, особенно национальной экосистемы стартапов. Помимо этого, правительство Сингапура поддерживает внедрение цифровых технологий в повседневную жизнь и систему городских коммуникаций по 4 основным показателям: умное планирование, умная окружающая среда, умная недвижимость и умное проживание.
Несмотря на успехи цифровизации власти в Сингапуре, не следует оставлять без внимания и негативные аспекты сингапурской модели умного цифрового правительства. Не только ученые, но и общественные деятели, представители творческой интеллигенции справедливо критикуют «мягкий авторитаризм» правительства этой страны, которое осуществляет цифровизацию власти и управления, по существу, без всякого контроля со стороны гражданского общества. Это серьезный демократический изъян в сингапурской модели умного правительства – она не предусматривает диалог с гражданским обществом, обязательные общественные слушания и электронное голосование по ключевым решениям развития общества и государства.
Гаджиев К.С. Я хочу обратить ваше внимание на уроки американского опыта ЦП, которые также важно иметь в виду отечественным политологам, чтобы и здесь не повторять чужие заблуждения. Как известно, в США Комплексная стратегия цифрового правительства была запущена 23 мая 2012 г. В Стратегии была поставлена задача создать цифровое правительство XXI в., которое будет предоставлять более качественные цифровые услуги американскому народу. В качестве главной цели стратегии заявлено объединение в единое целое, в единую команду всех министерств и ведомств правительства, где ключевая роль отводится созданию каналов сотрудничества гражданского общества и государства. Предполагалось постепенное приобретение цифровой зрелости для получения широкого спектра выгод от всей системы государственной службы, экономики и общества.
Таким образом, сегодня в США речь идет о трансформации электронного правительства ( e-government ) в цифровое правительство ( d-government ). Результаты цифровизации государственного управления отождествляются с повышением его качества, эффективности и снижением затратности. В качестве одной из целей создания цифрового правительства рассматривается вовлечение как можно большего круга граждан в процессы государственного управления для повышения продуктивности государственного управления, конкурентоспособности национальной экономики на мировой арене, защиты жизненно важных национальных интересов и обеспечения национальной безопасности.
Особое внимание обратим на то, что сила и слабость американской стратегии – в идеализации формирующейся модели ЦП в стране. Очевидно, что все перечисленные цели и задачи призваны сформировать некую идеальную модель цифровизации власти в США. Однако многие цели чересчур декларативны, а пути их реализации не прописаны четко. Именно поэтому спустя почти 10 лет после принятия данной Стратегии в США успехи страны на пути цифровизации управления довольно скромны. Критики справедливо отмечают недостаточную открытость процесса принятия решений в стране, далеко не полную и недостаточно эффективную координацию работы госаппарата, все еще недостаточную цифровизацию процессов управления, а также подчеркивают уязвимость цифровых данных и всей цифровой инфраструктуры правительства перед лицом хакерских атак.
В целом, основной урок американского опыта заключается в том, чтобы избегать декларативности и общих фраз, формируя концепцию ЦП. Надо уделять больше внимания конкретным механизмам и технологиям работы такого правительства с гражданским обществом, с бизнесом, с общественными и политическим организациями. Иначе концепция не будет эффективно работать на практике.
Кочетков А.П. С общими подходами к формированию концепции цифрового правительства, международным опытом и социокультурными особенностями ее реализации в целом все понятно. Но что надо сделать, чтобы данная концепция заработала в нашей стране?
Василенко И.А. Можно выделить несколько ключевых проблем на пути эффективной цифровизации власти в нашей стране:
– тормозом на пути перехода к государству-платформе является бюрократическое мышление; поэтому для формирования цифрового правительства важно создать систему координирования сверху, ввести особую должность – например, министра по цифровизации, который бы инициировал и контролировал введение цифровых инноваций;
– серьезным препятствием является отсутствие правового регулирования:
пока не разработаны специальные законы, которые бы регламентировали деятельность цифрового правительства и все отношения в данной сфере (по примеру законодательства ведущих стран мира);
– государственное финансирование проектов по цифровизации страны в целом и по внедрению технологий цифрового правительства в частности недостаточно; для перехода к новой модели необходимо создать как высокотехнологичную инфраструктуру, так и пул высококвалифицированных специалистов в сфере цифровых технологий;
– не состоялся массовый переход граждан и организаций на цифровые каналы из-за недостаточной привлекательности и удобства функционирования систем электронного правительства, поэтому сокращение издержек на оказание госуслуг не произошло, сохраняется необходимость поддержания традиционных каналов (телефон, очный прием);
– достаточно остро стоит проблема ликвидации цифрового неравенства при доступе к цифровым услугам как в социальном, так и в географическом планах, поскольку в настоящее время значительная часть населения, особенно в отдаленных регионах страны, имеет доходы ниже прожиточного минимума;
– цифровизация власти и управления по регионам страны происходит неравномерно: до сих пор не решена проблема ликвидации цифровой неграмотности граждан, особенно в отдаленных регионах страны, существует настоятельная необходимость государственного финансирования специальных программ в этой области;
– пока не удалось активно вовлечь граждан в процесс принятия решений на интерактивных платформах, усилить запрос на инновационные проекты со стороны гражданского общества и бизнеса. И хотя в последние годы власти стараются расширить применение краудсорсинговых платформ, они используются преимущественно для решения жилищно-коммунальных вопросов, а не для модернизационных и инновационных решений.
Важно также обратить внимание на неравномерность экономического и демографического развития регионов в масштабах нашей огромной страны: разный уровень цифровизации на местах значительно затрудняет переход к новой модели цифрового правительства, повышает политические риски.
Сегодня весьма остро встала проблема открытости региональной власти к диалогу с общественностью. И пока мы не решим эту проблему, мы не дадим цифровому правительству в нашей стране эффективно работать.
Кочетков А.П. Мне кажется, настало время поставить вопрос об универсализме феномена цифрового правительства и возможности успешной его деятельности в современной России.
Володенков С.В. С трудом верится в универсализм феномена цифровизации как такового. Национальные особенности оказывают существенное влияние на цифровой ландшафт политического управления в каждом государстве. Возьмите, например, даже распространенность тех или иных цифровых платформ для массовых коммуникаций: в мире нет однородности по данному параметру. Представляется необходимым учитывать социокультурные особенности при разработке национальных моделей цифрового управления.
Содержательные особенности влияния процессов цифрового управления во многом определяются и будут определяться теми целями, которые будут заложены в соответствующие модели управления. Чьи интересы представляют инструменты и технологии цифрового управления? Каковы ключевые задачи – устранение дистанции между властью и обществом или попытка поставить гражданское общество под контроль со стороны государства? Очевидно, что влияние должно быть, но эффект от цифровизации сферы управления на сегодняшний день представляется нам не очевидным в силу отсутствия четких и прозрачных ценностно-смысловых и целевых ориентиров в данной сфере.
Любая технология, любой инструмент имеет обратную сторону и может применяться не только для демократизации политических процессов, но и для установления режимов цифровой диктатуры, цифрового тоталитаризма. Многие специалисты сегодня говорят о формировании моделей капитализма слежения: это слежение за гражданами, за обществом в целом; анализ пользовательской активности на основе индивидуальных цифровых следов; обработка результатов анализа цифровых следов и выработка моделей эффективного воздействия на сознание и поведение человека. Основная цель в рамках подобной парадигмы – изменить поведение человека, а точнее, продать модель поведения конкретной целевой группы заказчику, а самих людей превратить в продукт. Но таким заказчиком может выступать и государство. Формирование цифрового паноптикума – отнюдь не невыполнимая задача в современных технологических условиях.
Кроме того, если мы говорим о применении в процессах цифрового управления самообучаемых нейросетей, например при обращении граждан в исполнительные органы власти различного уровня, возникает вопрос: а кто является субъектом управления в данном случае? Институт власти? Разработчик алгоритма самообучения? Сама нейросеть? Кто принимает решения в такой чувствительной сфере, как общественно-политические отношения? Ведь, как признаются сами разработчики самообучающихся нейросетевых технологий, во многих случаях вообще неизвестно, каким образом происходит выработка решения нейросетью, как она обучилась в процессе анализа больших данных.
Насколько этичными и социально приемлемыми, а также легитимными для граждан будут принятые с помощью цифровых алгоритмов решения? Ведь не всегда оптимизация целевых функций в политическом управлении является сугубо формальной задачей.
Наконец, следует отметить и угрозы для самого государства. Становится критичным фактор цифрового суверенитета государства. При внешнем внесении искажений (либо, в экстремальном случае, полном разрушении) национальных массивов больших данных государство рискует погрузиться в полный хаос, связанный с невозможностью сколь-либо эффективного управления в интересах самого государства и общества. Насколько сегодня в условиях цифрового геополитического противоборства и кибервойн между ведущими технологически развитыми державами цифровые институты управления могут быть надежно защищены от внешнего технологического вторжения?
В заключение хочу подчеркнуть, что вдумчивый, взвешенный и человекоориентированный подход к созданию цифровых институтов власти и управления является необходимым условием формирования эффективной национальной модели цифрового управления.
Кочетков А.П. А какое значение имеет деятельность цифрового правительства для становления и развития инновационной экономики России? Для ответа на этот вопрос слово предоставляется кандидату политических наук ассистенту кафедры российской политики Е.Г. Кирсановой.
Кирсанова Е.Г. Сегодня инновационное развитие является стратегической задачей государственной политики России. От эффективности реализации данного направления зависит конкурентоспособность государства, ее экономический и социальный уровень развития, качество человеческого капитала, если хотите, то и национальная безопасность страны в принципе. Каково влияние цифрового правительства на развитие национальной инновационной системы в нашей стране, а также как новая управленческая модель влияет на инновационные процессы и управление ими?
Во-первых, развитие «умных технологий» становится аксиомой управленческих решений. И если еще не так давно необходимость скорейшего развития цифрового управления подвергалась сомнению, то сегодня это становится приоритетом каждого экономически развитого государства. Цифровое правительство становится важной составляющей национальной инновационной системы, от эффективности работы которого зависит успешность инновационного развития.
Во-вторых, существенное влияние на инновационное развитие оказывает фактор использования и анализа больших данных, получаемых в результате внедрения «умных технологий» в производимую продукцию. При этом необходимо понимать, что создание «умных технологий» связано с проведением целенаправленной научно-технической политики государства. В-третьих, как следствие предыдущего вывода, уровень финансирования научной сферы должен быть высоким и составлять большой процент ВВП. Сфера науки становится стратегическим звеном в цепочке создания новейших технологий, причем такой подход должен разделяться как государством, так и предпринимательским сектором.
В-четвертых, скорость модернизации технологий увеличивается в разы, что связанно с оперативной обработкой больших данных, получаемых через «умные технологии». В этой связи быстрота принимаемых решений, отвечающих запросам реальности, также должна осуществляться со стороны управленческих структур государств. По сути, цифровое правительство становится, с одной стороны, центром принятия решения, а с другой –двигателем инновационных процессов.
В-пятых, создавая новую платформу – цифровую, – цифровое правительство формирует особую среду для выращивания инноваций.
Цифровое правительство связано с развитием новейших технологий, т.к. базируется на достижениях науки в сфере цифровой среды. Однако важно понимать, что, кроме технической составляющей, не менее важным аспектом является социокультурный фактор. Дело в том, что можно внедрять самые сложные разработки, но они все равно будут управляться людьми, которые живут в определенном государстве, у которого существуют своя история, культура и, как следствие, свой социокультурный код. И здесь я хотела бы не согласиться с теми исследователями, которые рассматривают существующие успешные практики цифрового правительства как универсальную модель, имеющую исключительно положительные характеристики.
Если для многих стран проект создания цифровой среды рассматривается в основном как экономический вопрос, то в России этот проект имеет в первую очередь идеологическую составляющую. Реализация проекта цифрового правительства должна не только вовлечь бизнес в цифровую систему, но и заставить его осознать необходимость развивать собственные инновации, диверсифицировать производственный сектор, создавая, таким образом, собственные наукоемкие технологии. На сегодняшний день низкий уровень инновационно активных предприятий является центральной проблемой развития национальной инновационной системы России. По официальным данным Федеральной службы государственной статистики, число таких предприятий уже много лет, по сути, не поднимается выше 10%, что является очень низким показателем. Одновременно с этим встает вопрос и об объеме инновационной продукции, производимой в нашей стране частным сектором: этот показатель также существенно не влияет на инновационный потенциал государства.
При этом важно отметить, что инновационная деятельность является, во-первых, высокорисковым занятием, во-вторых, требует больших финансовых вложений, а в-третьих, это долгоиграющие проекты, направленные на получение прибыли в виде «длинных денег», которые рассматриваются как ключевое условие устойчивого развития российской экономики наравне с институциональным инвестированием. Поэтому если для частного сектора не будут созданы эффективные механизмы стимулирования инновационной деятельности, то, даже развив цифровое пространство, целевые показатели в сфере инновационной политики не будут достигнуты в полной мере. Это серьезный риск, с которым государство также должно считаться.
Кочетков А.П. Коллеги! А если взглянуть на проблему цифровизации более широко, рассмотреть ее общефилософский контекст? Прошу по данному вопросу сказать несколько слов профессора В.И. Коваленко.
Коваленко В.И. Поставленные на сегодняшнем круглом столе вопросы в большей степени носят философский характер. Но во многом именно в этом качестве они имеют серьезный политический и человеческий смысл.
Все более утверждающаяся в научном сообществе идея о России как об особом цивилизационном пространстве с неизбежностью ставит вопрос о природе и значении универсалий в современном глобализирующемся мире. Нет смысла отрицать очевидное. Сдвиги в науке и технике задают мощные и единые алгоритмы развития, требуют своих апробированных технологических решений, вытекающих из общей логики научно-технического прогресса. Вспоминаю, однако, размышления советских ученых – специалистов в теории управления, которые обстоятельно обосновывали положение, что при анализе управленческой сферы необходимо выделять ее технико-технологические, организационно-технические и производственно-экономические аспекты и стороны. И если первые из них выражают взаимосвязь между людьми по поводу их непосредственной деятельности в области управления, представляя собой управленческий механизм данного общества – совокупность приемов, форм и методов организации производства, всей общественной жизни, то отношения другого рода детерминируются иными обстоятельствами.
В самом деле, принятие исходных установок цивилизационного прочтения истории требует повышенного внимания к выработке принципов и механизмов взаимодействия непреложной логики общеисторических императивов и всего того, что определяется историческими традициями, в т.ч. ценностными установками того или иного общества. С моей точки зрения, значимы обе эти составляющие. Но мы говорим о России с ее тысячелетней историей с особенностями ее жизненного уклада и мироощущения.
При всех будущих успехах робототехники, искусственного интеллекта и пр. важно помнить все же, что все необходимое программное обеспечение осуществляется человеком. И для цифрового правительства, конечно же, крайне важно максимально учитывать общественные экспектации населения, ориентироваться на удовлетворение его запросов, самого ценностного строя российской цивилизации.
И последнее. Нужно очень хорошо осознавать, что переход к новому технологическому укладу таит огромную опасность того, о чем ранее многократно предупреждали фантасты и футурологи, – опасность расчеловечивания, все большей утраты гуманистических измерений человеческого бытия. Эти опасности вполне зримы. Но есть и надежды. Хочу в этой связи вспомнить о раз- работках нашего выдающегося политического философа А.С. Панарина, который много писал о тупиках наличного техно-потребительского общества, позитивных возможностях российской цивилизации, ее способности обретения стратегической инициативы в XXI в.
Кочетков А.П. Коллеги! Мне хотелось бы затронуть и некоторые проблемы практической реализации концепции цифрового правительства в нашей стране. Одним из важных направлений деятельности по созданию в России цифрового правительства является формирование у российских граждан отношения к государственным учреждениям как к поставщикам различных услуг населению. Процесс их электронного взаимодействия является взаимосвязанным, требует активной деятельности не только государственных организаций, формирующих основу этого взаимодействия, но и граждан. Взаимодействие органов государственной власти и граждан наиболее интенсивно осуществляется на государственных информационных порталах или сайтах с расширенными функциями и является главным инструментом реализации концепции цифрового правительства. Обратимся к опыту Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге в проведенном в 2020 г. экспресс-исследовании были протестированы интернет-ресурсы органов исполнительной власти 40 отраслевых комитетов и управлений администрации Санкт-Петербурга, результаты которого, в целом, показали высокую оценку обеспеченности электронного доступа граждан ко всем органам исполнительной власти независимо от их уровня, содержания и структуры многих сайтов.
Санкт-Петербург занимает сегодня второе место по уровню ИКТ-расходов среди российских регионов. В ближайшие годы, кроме уже существующих ИТ-проектов, в городе будут развиваться различные мобильные приложения для граждан. Уже сейчас на портале госуслуг Санкт-Петербурга пользователям доступно более 250 электронных услуг и сервисов, а число посещений превысило 102 млн. К концу 2020 г. будут разработаны 23 новые электронные услуги.
В Петербурге уже налажена прямая коммуникация власти и граждан. В марте 2019 г. губернатор Санкт-Петербурга А. Беглов открыл свою личную страницу в социальной сети ВКонтакте. Только за первый месяц на нее поступило более 21 000 сообщений.
Сегодня в диалоге с жителями города принимают участие официальные группы правительства и 32 органа власти Петербурга. Охват аудитории – более 290 000 пользователей. Всего в 2019 г. поступило более 51 000 сообщений. Анализ удовлетворенности ответами показывает, что только в 3% случаев жители остались недовольными полученным решением.
Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр разработал инфопанель «Выборы» и тем самым обеспечил аналитическую поддержку проведения всех выборных кампаний и референдумов. В течение дня голосования обеспечивается онлайн-наблюдение на избирательных участках, регулярно обновляется информация о ходе голосования. Ход и итоги выборов представляются на цифровой панели в виде онлайн-презентации.
Негативным фактором как в Российской Федерации в целом, так и в Санкт-Петербурге остается высокий уровень различий в использовании информационных технологий организациями и учреждениями Санкт-Петербурга, а также домашними хозяйствами. Есть проблемы с финансированием и организационно-правовым обеспечением развития взаимоотношений власти и граждан на платформе цифрового правительства в Санкт-Петербурге.
Доля организаций в Санкт-Петербурге, использующих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, по состоянию на начало 2018 г. составляла 93,5%, что ниже уровня Москвы на 1,4 про- центных пункта. Доля домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, в общем числе домашних хозяйств составила 86%, что на 1,4 процентных пункта выше уровня Москвы.
В Санкт-Петербурге по-прежнему актуальна проблема популяризации взаимодействия граждан с органами государственной власти через сеть Интернет. Доля населения Санкт-Петербурга (в возрасте 15–72 лет), взаимодействующего с органами государственной власти и органами местного самоуправления, по состоянию на начало 2019 г. составила 58,5% (в Москве – 89,1%), из них через сеть Интернет – 40,9% (в Москве – 73,5%), через многофункциональные центры предоставления государственных услуг – 15,7% (в Москве – 32,4%).
Анализ пользовательской активности в социальных сетях говорит о том, что в большинстве случаев интернет-пользователи предпочитают продукты таких гигантов, как Google , Facebook , YouTube , что указывает на доминирование монополистов на рынке информационных услуг. А гегемония крупных компаний – прямое свидетельство авторитаризма, царящего в поле информационной политики. Кроме того, в информационном пространстве сегодня очень значительно влияние блогеров.
Все это поднимает серьезную проблему формирования элитной цифровой демократии, в которой элита будет иметь особый характер. Ее высокий статус станет определяться не прежними критериями – достатком, образованностью, близостью к власти, а доступом к технологиям и наличием опыта пользования ими. Само выделение определенной группы интернет-пользователей, более других готовых к участию в политической жизни, станет проблемой для реальной демократии. Эта нетократическая элита выходит из-под контроля граждан, т.к. ей никто не делегирует полномочия управлять на основе признаваемых в обществе процедур. Поэтому возникает вопрос: такой ли демократичной вообще будет digital democracy , базирующаяся на волеизъявлении и деятельности самых активных интернет-пользователей?
Качество государственного управления напрямую зависит от уровня компетентности сотрудников органов государственной власти в сфере информационно-коммуникационных технологий. Согласно данным мониторинга использования технологий цифрового правительства, большинство сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (61%) продолжают испытывать потребность в повышении своей квалификации в данной сфере.
Особое внимание хотелось бы обратить на важность и необходимость гражданского контроля за деятельностью цифрового правительства. Массовое применение цифровых технологий и электронных методов слежки и контроля не только приведет к росту преступности, связанной с кражей данных и различными видами мошенничества, но и может быть использовано в политических целях. Чтобы этого не произошло, важно создать общественные комиссии из IT-специалистов, юристов, представителей общественности на федеральном и региональном уровнях для усиления контроля за действиями органов государственной власти. Для того чтобы деятельность общественных комиссий была эффективной, необходимо внести поправки в ФЗ № 212 (ред. 03.07.2016) «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от 21 июля 2014 г., которые наделят их соответствующими правами и создадут механизмы совместной деятельности общественных комиссий как с органами государственной власти, так и с гражданами. Важно также внести изменения в Административный и Уголовный кодексы РФ, которые предусматривали бы соответствующие наказания за использование технологий цифрового правительства в антигражданских целях, что дало бы возмож- ность правоохранительным органам пресекать противоправную деятельность в этой сфере.
Для повышения гражданского контроля и доверия граждан ко всем мероприятиям органов государственной власти России в области цифрового правительства необходимо, чтобы этот контроль начинался уже с уровня пилотных проектов, предлагаемых правительством и региональными администрациями, с активного участия граждан в этих пилотных проектах.
Коллеги! Попробуем сделать некоторые обобщения теории и практики реализации концепции цифрового правительства в современной России. Прошу изложить свои суждения по этому вопросу профессора А.И. Соловьева.
Соловьев А.И. Проект цифрового правительства имеет значение для всех трех субстанциональных процессов в российском государстве. Так, для правительства речь прежде всего идет о качественном снижении издержек государственного управления (хотя это и по-разному отражается на федеральном, региональном и местном уровнях), о современных коммуникациях с населением (касающихся предоставления базовых товаров и услуг), а также об усилении контроля за различными формами деловой активности граждан. Бизнес-корпорации и другие предпринимательские структуры также способны повысить свои возможности в части поддержания деловых коммуникаций, в т.ч. и оперативного характера, с органами государственной власти и управления (хотя при этом корпоративные акторы также попадают в зону рисков от злонамеренных действий хакеров и их группировок). Общество также выиграет от предлагаемых новаций, сохранив, однако, и существенные ограничения в контактах с властью.
Понятно, что цифровое правительство предлагает лишь ряд пусть и вполне инновационных, но сугубо технических решений в области управления государством. Иначе говоря, новые технологии проецируются на ту политикоадминистративную реальность, которая сложилась к настоящему времени, и не предполагают ни изменения роли правящих кругов в более широкой социально-политической конфигурации государственной власти, ни усиления прав граждан в части контроля за принимаемыми правящими кругами решениями.
Учитывая основные параметры сложившейся системы правления, можно отметить целый ряд рисков, которые будут неизбежно возникать при сопряжении новых и традиционных методов макрорегулирования. Так, для государства это, прежде всего, проблема разработки соответствующих нормативных документов, которые, как известно, редко способны с первого раза найти необходимую форму для цифрового регулирования. С учетом традиций новейшей политической истории думается, что в рамках этого процесса сохраняющиеся институциональные пустоты между старыми и новыми порядками будут скорее всего заполняться теневыми инвесторами.
Нельзя не видеть и то, что государственным институтам будет наноситься ущерб от массовых сбоев нового оборудования, дополнительных угроз в результате атак хакеров, а также акций со стороны политических противников, пытающихся (при наличии соответствующих ресурсов) нанести ущерб и добиться частичного обрушения тех или иных сегментов государственного управления. Это особенно важно отметить, т.к. на фоне расширения пространства цифровых технологий российским властям пока еще не удалось ни добиться качественного снижения зависимости от зарубежных поставок программного обеспечения, ни опередить отдельные корпорации и страны по уровню технического прогресса в этой сфере.
Говоря об обществе в целом, надо подчеркнуть, что его отношения с государством не ограничиваются спросом на предоставление качественных и опера- тивных услуг, а одновременно предполагают и развитие политических и гражданских прав населения. Однако (даже не принимая во внимание включение структур местного управления в единую вертикаль государственной власти) можно увидеть, что власти старательно обходят вопрос об использовании цифровых инструментов для развития механизмов совместного принятия решений, поощрения участия граждан в урегулировании общественных проблем. Другим словами, цифровые технологии сохраняют ту форму «ложного соучастия» (М. Гефтер) власти и населения, которая на сегодняшний день является доминирующей в политических коммуникациях.
Что же касается общегражданских процессов, то можно видеть, что наши граждане уже сейчас сталкиваются с угрозами распространения цифровых технологий. В частности, сегодня уже известны далеко не единичные факты, когда контроль за чистотой результатов и обработкой итогов выборов переходит от избиркомов к техническим структурам, работающим с большими данными; государственные базы персональных данных попадают в руки криминальных структур (которые используют их для шантажа и вымогательства); активизируется опасность использования данных системы распознавания лиц как в криминальных, так и в политических целях – для отслеживания несогласных и оппозиционеров. Власти получают практически неограниченные (и даже охраняемые законом) возможности распространения собственных, в т.ч. и вполне фантазийных, версий о различных событиях отечественной истории (в частности, касающихся изучения ее «темных пятен») и т.д. Иначе говоря, многие цифровые технологии уже сейчас используются для усиления контроллинга, регламентации и дисциплинирования общества.
Отметим еще и то, что опыт внедрения механизмов оценки регулирующего воздействия показывает, что у граждан нет ни должного уровня компетенции, ни времени для ознакомления с новыми цифровыми формами знаний. Такие возможности у людей формально появляются, но фактически не обнаруживаются. И если в мегаполисах и крупных городах привлечь людей к новым способам деловых коммуникаций с властями много проще, чем в других агломерациях, то остальная часть страны столкнется с массовыми издержками освоения новых коммуникаций. Конечно, это проблема времени, которое нужно потратить на обкатку системы. Но никто не гарантирует, что корыстные чиновники не используют это время для поиска новых «честных» схем отъема ресурсов у населения.
Следует также учитывать, что внедрение цифровых технологий не должно лишать людей инструментов офлайн-коммуникации с представителями власти (по крайней мере, хотя бы потому, что решение вопросов face of face всегда является эффективным способом заставить чиновника посмотреть на проблему человека его глазами).
Так что, несмотря на официальный оптимизм по поводу внедрения цифрового правительства, все же сохраняется большой вопрос: приведет ли взаимодополнение активности государственных институтов и технических структур к тому органическому единству, которое повысит качество управления и выведет на новый уровень отношения государства и общества?
Кочетков А.П. Уважаемые коллеги! Подведем итоги. В результате прошедшего обсуждения все выступающие сошлись во мнении, что развитие системы цифрового правительства в России происходит в русле общемировых тенденций, может оказывать действенную помощь в решении ряда социальных проблем. Как и в развитых странах мира, для его деятельности характерны такие признаки, как открытость, доступность, прозрачность, удобство и простота использования. Роль цифрового правительства в развитии национальной инновационной системы России можно рассматривать как фактор создания особого пространства, способного повлиять на ускорение развития технологий, подтолкнув предпринимательский сектор к активному включению в процессы инновационного развития в рамках функционирования цифровой среды.
Однако при осуществлении концепции цифрового правительства возникают существенные проблемы и трудности, о чем говорили участники сегодняшней дискуссии. Особенно важно не допустить реализации перспективы превращения человечества в управляемое каким-то властным субъектом автоматизированное сообщество. Эта проблема может быть решена путем укрепления и развития демократических институтов и инструментов их функционирования и, прежде всего, при наличии в обществе эффективного гражданского контроля и высокого уровня гражданской культуры.
Особое внимание, как отмечали участники дискуссии, необходимо обратить на социокультурные последствия тотальной цифровизации в России, которая внесет кардинальные перемены в жизнь всего общества, затронет не только технологические, но и социальные отношения в целом. Цифровые инновации и технологии существенно меняют объективные условия жизнедеятельности наших граждан и могут стать источником формирования их новых жизненных ценностей. Это приведет к замене традиционных социокультурных, нравственных ценностей российского общества так называемыми цифровыми ценностями, в основе которых будут лежать инстинкты, а не разум людей. И здесь мы сталкиваемся с серьезной проблемой: готово ли российское общество к принятию подобных инноваций? И будут ли эти инновации общественно полезными?
При практическом внедрении концепции цифрового правительства особенно важно усилить роль человеческого фактора в принятии государственных решений. Для этого важно создать механизмы обратной связи, с помощью которых граждане могут высказывать свои опасения по поводу тех или иных действий цифрового правительства и передавать свои предложения в органы государственной власти через общественные комиссии.
Надлежащий надзор за деятельностью цифрового правительства будет иметь решающее значение для того, чтобы граждане были уверены в позитивных результатах использования властью цифрового управления. Возможно, потребуется разработать кодекс поведения или правила этического использования цифрового управления для чиновников государственного аппарата.
Гражданский контроль за работой цифрового правительства должен быть тщательно продуман: он должен не только ограничивать использование властью персональных данных физических лиц и искусственного интеллекта, но и позволять органам государственной власти внедрять инновации в повседневную жизнь общества.
Если взаимодействие людей будет построено на максимальной прозрачности, уважении к культурным и социальным различиям, информационные системы превратятся в децентрализованные объекты, доступ к которым будет обеспечен участием многих в процессах распространения сведений, а поведение пользователей станет реализацией норм цифровой грамотности, то граждане смогут повлиять на системы цифрового управления социальными процессами.
Данный идеал труднодостижим. Однако иного пути сделать цифровое правительство эффективным инструментом демократического взаимодействия власти и граждан нет.
THE CONCEPT OF DIGITAL GOVERNMENT
AS A POLITICAL PROJECT FOR RUSSIA: PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION IN THE CONTEXT
OF CHALLENGES AND RISKS OF DIGITALIZATION
OF SOCIETY
Expert Round Table at the Faculty of Political Science, Lomonosov Moscow State University