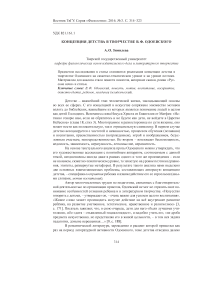Концепция детства в творчестве В. Ф. Одоевского
Автор: Зимилева Анастасия Олеговна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
Предметом исследования в статье становится реализация концепции детства в творчестве Одоевского на сюжетно-тематическом уровне и на уровне поэтики. Материалом для анализа стали повести писателя, авторские сказки, роман «Русские ночи» и статьи.
В. ф. одоевский, повесть, мотив, воспитание, восприятие, детство (дети), ребенок, младенец (младенческий)
Короткий адрес: https://sciup.org/146121910
IDR: 146121910 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Концепция детства в творчестве В. Ф. Одоевского
Детство – важнейший этап человеческой жизни, закладывающий основы во всех ее сферах. С его концепцией в искусстве сопряжено множество мотивов вплоть до библейских, важнейшим из которых является понимание людей в целом как детей Господних. Вспомним слова Иисуса Христа из Евангелия от Матфея: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (глава 18, стих 3). Многогранное и разностороннее по сути явление, оно может нести как положительную, так и отрицательную символику. В первом случае детство ассоциируется с чистотой и невинностью, процессом обучения (познания) и воспитания, преемственностью (возрождением), игрой и воображением, безусловным счастьем, непосредственностью. Во втором – воплощает беспомощность, ведомость, зависимость, неразумность, легкомыслие, неразвитость.
На основе текстуального анализа прозы Одоевского можно утверждать, что его художественные ассоциации с понятийным аппаратом, соотносимым с данной темой, неоднозначны иногда даже в рамках одного и того же произведения – если не на явном, сюжетно-тематическом уровне, то зачастую на уровне поэтики (сравнения, эпитеты, развернутые метафоры). В результате такого анализа нами выделено две основных взаимозависимых проблемы, составляющих авторскую концепцию детства, – специфика восприятия ребенка и взаимодействие его со взрослыми (иными словами, мотив воспитания ).
Автор многочисленных трудов по педагогике, связанных с благотворительной деятельностью по организации приютов, Одоевский не мог не отразить свое понимание особенностей сознания ребенка и в литературном творчестве. «Искусство говорить с детьми, – утверждает он, – очень важно для успехов целого воспитания». «Живое слово может производить могучее действие на всё внутреннее развитие ребёнка, на развитие умственное, эстетическое, нравственное и религиозное» [3, с. 171]. Писатель заявляет, что, в свою очередь, дети для него «были лучшими учителями», ибо «дитя – отъявленный энциклопедист», и надобно учить его, «не дробя предмета искусственно, но представляя его в живой цельности, – в том вся задача педагогии, доныне нерешенная…» [9, с. 188].
В романтической литературе, зарождение и расцвет которой пришелся как раз на период литературной активности Одоевского, теме детства отведена далеко не последняя роль. Справедливо замечание Ю. Манна, что «художественное направление, провозгласившее всемогущество поэтического духа, придавало фантастике чрезвычайное значение, избрав <…> господина Фантазуса своим соавтором» [2, c. 54]. Таким образом, воображение (фантазия) в романтической эстетике признавалось «всемогущим», а оно, как упоминалось выше, наряду с игрой является неотъемлемым атрибутом детства. В отличие от мировоззрения взрослого цивилизованного человека, сознание ребенка, не перегруженное еще теорией и житейским опытом, вне зависимости от социальных условий оказывается намного более гибким, принимая проявления романтического двоемирия без конфликта с уже имеющимися представлениями и не требуя его разъяснений. Это делает гармоничным сосуществование героя-ребенка и мира воображения и, соответственно, в разной степени поэтизируется. Подобные взгляды были Одоевскому очень близки, однако даже в его романтических произведениях изображение мира детства лишено избыточной идеализации, а под существование «двойных мотивировок» сверхъестественного подогнана теоретическая база в виде сплава психологии и мистики. Чтобы проиллюстрировать этот тезис, обратимся к произведениям, в которых наиболее ярко показаны особенности детского (и близкого к нему) восприятия и его роль в жизни героев: рассказу «Игоша» и повести «Косморама».
Сюжет рассказа незамысловат: ребенок удивляется открывшейся двери, в которую никто не вошел, и слышит от няни объяснение, что это «безрукий, безногий дверь отворил». Затем и приехавший отец рассказывает о неприятностях в дороге, в шутку допуская вмешательство Игоши. Далее к герою приходит само загадочное существо, шалит, требует себе подарки, отец сперва соглашается на «игру», а после сердится и за провинности, совершенные невидимым проказником, наказывает сына. Мальчик ругается на Игошу, в итоге дух обижается и уходит, и больше герой не встречает его. Первоначальная, опубликованная в 1833 г. редакция «Игоши» является частью сборника «Пестрые сказки». Отметим, что уже первое произведение цикла – «Реторта» – содержит (хоть и в гротескном ключе) аллегорию мира и людей как детской игрушки, поля для опыта (здесь и далее курсив в цитатах мой. – А. З.): «Нет, милостивые государи, над почтеннейшею публикою <…> потешалось дитя; по-нашему говоря, лет пяти; в маленькой курточке, без галстука, с кислою миною, с крошечными рожками и с маленьким, только что показавшимся хвостиком!..» [7, с. 14]. Здесь, однако, этот весьма распространенный в романтизме мотив управления носит исключительно сатирическую функцию. Однако, в отличие от «Реторы» и остальных «сказок» цикла, наполненных гротескной аллегорией, «Игоша» во многом близок романтической прозе. Во-первых, подается источник в виде народные преданий: до явления ребенку таинственного существа он слышит о нем сначала из приговорки няни, потом от отца, пересказывающего поверья встреченных мужиков. Во-вторых, здесь впервые появляется излюбленный Одоевским прием «двойных мотивировок»: как пишет М. Турьян, быличка об умершем некрещенным младенце начинает «играть» на трех уровнях сознания: народном, на уровне взрослого цивилизованного человека и детском, при этом первое с последним «смыкаются в своей безусловной вере в реальное существование» духа [12, с. 133].
Редакция, напечатанная в собрании сочинений Одоевского 1844 г., отличается некоторыми стилистически правками и добавленным окончанием, где показано отношение уже взрослого персонажа к давно прошедшим «младенческим»
видениям: «Мало-помалу ученье, служба, житейские происшествия отдалили от меня даже воспоминание о том полусонном состоянии моей младенческой души, где игра воображения так чудно сливалась с действительностию … но иногда, в минуту пробуждения, когда душа возвращается из какого-то иного мира, в котором она жила и действовала по законам, нам здесь неизвестным <…> странное существо, являвшееся мне в младенчестве, возобновляется в моей памяти и его явление кажется мне понятным и естественным» [7, с. 72]. Развенчание потустороннего, характерное для фантастических повестей той эпохи, здесь весьма условно: напротив, герой утверждает, что и во взрослой его жизни есть минуты, когда паранормальное явление из детства «кажется ему понятным и естественным». Детские годы становятся своеобразной точкой отсчета особого мировидения героя, «чудного состояния», которое он – пусть и неосознанно, в скрытом виде – проносит с собой через всю жизнь. Эта мысль звучит и в одном из набросков предисловия к «Детским сказкам дедушки Иринея», где Одоевский говорит, что в голове ребенка постоянно носятся «неопределенные грезы, в коих он не отдает себе отчета, как мы во время сна подчинены нашим грезам» [13, с. 15]. Параллель между спецификой детской психики и состояниями взрослого человека особенно важна, так как в чисто фантастических повестях Одоевский будет часто опираться на формулу, впервые психологически обоснованную им в «Игоше». В числе этих повестей «Сильфида» (где, кстати, тоже упоминается, что женщина-дух «с самого младенчества соприсутствовала» герою), «Саламандра», «Орлахская крестьянка», но наибольшее развитие эта формула получила в «самой загадочной», по мнению исследователей, повести писателя – «Косморама».
В начале повести пятилетний Володя получает в подарок редкий (для описываемого времени) предмет – космораму. Мы считаем уместным привести развернутое определение данного слова. «В период классицизма возникла косморама, одна из самых интересных “игрушек”, позволяющая рассматривать видовые панорамные изображения в движении. Она представляет собой ящик с двумя валиками-катушками, на которые наматывается длинная, склеенная из разных частей бумажная лента с гравированным изображением <…> В верхнем застекленном “окне” появляется и фиксируется нужный фрагмент композиции, а можно и “проезжать” вдоль всей панорамы последовательно. Этот прибор, предвосхищающий мультипликацию, оживлял перспективные виды, но делал их восприятие поверхностным» [11].
Итак, маленький герой, заглянув в такое «окно» в другой мир, внезапно вместо абстрактных картинок видит реально существующих людей из своего окружения или же себя с еще не знакомыми, но теми, что встретятся ему в будущем. Тетушка Володи по-доброму смеется над «открытием» племянника, однако своим «предзнанием» он невольно спасает ее от уличения в измене. Повзрослев и поведя много лет вне дома, Владимир забывает о странных видениях, но по возвращении домой вновь обнаруживает космораму, и таинственный мир инобытия вторгается в его жизнь, приводя на этот раз уже к необратимым последствиям. Так, конфликтным узлом «Косморамы» становится дар «двойного зрения», ясновидения, который Одоевский объясняет здесь уже обстоятельней, нежели в «Игоше» или других повестях. Об этом, в частности, он говорит устами главного героя Владимира: «Может быть, в детстве мы больше мыслим и чувствуем, нежели сколько обыкновенно полагают; только этих мыслей, этих чувств мы не в состоянии обозначать словами и оттого забываем их» [4, часть 1]. Связь первичных ощущений и их осознания опосредована, но не через слова, а, например, через вещи: «И когда, после долгих лет, мы встречаемся с этими предметами, тогда старый, забытый мир нашей девственной души восстает пред нами, и безмолвные его свидетели рассказывают нам такие тайны нашего внутреннего бытия, которые без того были бы для нас совершенно потеряны» [Там же].
Подобное восприятие, по Одоевскому, порождает особое знание, которое в других произведениях названо «невольными побуждениями», «инстинктуаль-ными знаниями», «предзнаниями». В «Психологических заметках» об этом говорится напрямую: «В человеческом организме осталось как бы воспоминание о его инстинктуальной жизни < …> мы имеем сны, предчувствия, симпатию и антипатию; мы совершаем разные действия невольно, по причинам, нам не известным» [9, с. 209]; «В младенце нынешнем не может развиться инстинктуальное знание до совершенства, ибо мы живем в век изысканий <...> Но все заметна инстинктуаль-ная сила в младенце, и это доказывается тем, ч то дети скорее взрослых <…> подвергаются магнетическому состоянию. Ребенок редко ошибается. Его ум и сердце еще не испорчены» [Там же, с. 210], – по сути, переложение известного афоризма «Устами младенца глаголет истина». В романе «Русские ночи», ставшем своеобразной квинтэссенцией взглядов Одоевского, тема такого знания получит особое развитие, о чем пойдет речь ниже.
Итак, мы установили, что мировоззрению и поэтике Одоевского свойственно утверждение детского восприятия как наиболее близкого к истине. Но, несмотря на это, ни в одном из его произведений нет избыточной идеализации детства, нет распространенной для романтической прозы представления зрелости как бездуховного мира, лишенного былой радости и гармонии. В отмеченных выше произведениях чудесные события не закончились вместе с детством – они начались в детстве, пройдя через всю жизнь персонажей. Мир ребенка самобытен, но не замкнут в себе и не самодостаточен: дети беззащитны не перед окружающей действительностью в целом, а перед собственными родителями, учителями, если обобщить – системой воспитания. В значительной массе текстов жизненные трудности героев объясняются тем, как их «растили» или «учили». Само слово «воспитание» и его производные переходят из текста в текст, как нить, на которую «нанизывается» конкретная проблематика. Так, в рассказе «Отрывки из журнала Маши» мама девочки, приучающая ее к ведению дома, говорит о вызванных недальновидностью и ханжеством ее родни проблемах жизни в браке, от которых хочет предостеречь свою дочь: « Меня не так воспитывали: меня учили музыке, языкам, шить по канве и особенно танцам; но о порядке в доме, о доходах, о расходах, вообще о хозяйстве мне не давали никакого понятия; в моё время считалось даже неприличным девушке вмешиваться в хозяйство» [6]. Герой рассказа «Живой мертвец» сетует на равнодушие к своей участи: «Ах, дети, дети! <…> Если б вы были другие, если бы другое вам внушено было , вы, может быть, поняли бы мои страдания, вы постарались бы истребить следы зла, мною сделанного…» [8]. Тема сочувствия к умершему человеку, впустую прожившему свою жизнь, всплывет потом еще в новелле «Бригадир», которую мы рассмотрим ниже.
Слово «воспитание» не всегда используется в прямом значении: иногда под ним подразумевается влияние (в том числе и дурное), сопровождавшее героя с малых лет. В рассказе «Мартингал» герой, игрок, задолжавший огромную сумму и стоящий перед выбором – отдать долг или застрелиться, в ответ на упрек о мнении родителей отчаянно восклицает: «Родители! <…> Если бы вы знали, что я взрос на картах, что едва ли не с молоком я сосал их, проклятых! <…> Мы обнимали друг друга, целовались и радостно шептали промеж себя: “Папенька выиграл! Папенька выиграл!” Вот мое первое воспитание» [10, с. 336–337]. В «Космораме» фантастическая сцена с видением главного героя о жизни графа, «ожившего» мужа его возлюбленной Элизы, и вовсе похожа на описание договора с темными силами: «Вот его воспитание: гнусное чудовище между им и его наставником – одному нашептывает, другому толкует мысли себялюбия, безверия, жестокосердия, гордости…» [4, часть 5]. Роковое, кармическое (как вытекает из дальнейшего текста) сходство детей Элизы с ее мужем Владимир объясняет влиянием родителей: «Они походили более на отца, нежели на мать, были серьезны не по возрасту, что я приписывал строгому воспитанию…» [4, часть 7].
В новелле «Бригадир», входящей в состав «Русских ночей», герой, будучи во власти взволнованных чувств, видит «образ покойника», человека, о смерти которого он ничуть не пожалел. Мертвец осуждает его за равнодушие и повествует о своей жизни; значительную часть рассказа опять составляет тема преемственности: «Отец мой занят службою, картами и псовою охотой. Он меня кормит, поит, одевает, бранит, сечет и думает, что меня воспитывает »; матушка хоть и «нежит, лелеет, лакомит потихоньку от отца», однако для «приличия заставляет притворяться» [9, с. 40]. Тем не менее, и судьбу собственных отпрысков этот человек решил, полагаясь на «батюшкины советы» и общественное мнение. « Вся родня мне сказала », « вся родня моя за то мною не нахвалится », «мне сказали, что я буду дурным отцом, если не воспользуюсь этим местом» – руководствуясь такими принципами, герой создает множество проблем для своей семьи, искренне недоумевая, откуда им взяться. «В чем состоит воспитание – мне некогда было подумать» , – ценой этого признания героя стала собственная загубленная жизнь и судьба детей – из-за повторения родительских ошибок.
Неоднозначную картину дает разбор повести «Черная перчатка». Начинается она с повествования о паре молодых людей и их попечителе Акинфии Васильевиче Езерском, раскрываются подробности его биографии и мировоззрения. По словам автора, его «странное воспитание », в свою очередь, заключалось в обучении в детстве «по-старинному» (то есть бездумном заучивании фактов) и нескольких годах проживания в Англии, где он был «поражен, как дикарь», и дурным и хорошим. Вернувшись на родину, Акинфий Васильевич переносит усвоенную школу жизни и на свое хозяйство, и на подопечных: « Их воспитание было, как видите, самое практическое, самое близкое к делу, основанное не на идеях, а на пользе» [10, с. 60]. Этот «принцип полезности» получит откровенное осуждение Одоевского в «Психологических заметках»: «Какого добра ожидать от нашей нравственности, когда с младенчества в сказках, баснях, прописях учат нас во всем держаться средины, рассчитывая каждый свой шаг <…> не предпринимать ничего без положительной, так называемой полезной цели» [9, с. 214].
Изначально аналогия с детьми по отношению к Владимиру и Марии показывала их чистоту и неиспорченность: «В них обоих было нечто неизъяснимо невинное, неизъяснимо ребяческое: это были две детские головки, нарисованные искусным лондонским гравером…» [10, с. 60]. Молодые избежали даже привычных для света сплетен и зависти, потому что «своим детским видом умели волновать только чистую, ясную поверхность души, оставляя на дне ее черные, тяжелые капли: их свадьба казалась веселым детским праздником, которым все любуются и которому никто не завидует»; наконец, в спальне новобрачные «с детской невинностью любовались убранством комнаты» [Там же, с. 61]. Далее персонажи сами сравнивают себя с детьми, имея в виду легковерность и впечатлительность: «О, мы, право, дети! – сказал Владимир, рассмеявшись, – глупый проказник подшутил над нами, а мы, как будто в угодность ему, провели целый час в тревоге»; «Мы, право, дети, – повторил еще раз Владимир, – кто видал, чтоб первую ночь брака провести над глупою запискою?» [Там же, с. 62, 63].
В дальнейшем отсутствие нравственных ориентиров обернулось для молодой четы душевной пустотой – герой сделался чинолюбцем, героиня, не умея различать подлинные чувства, стала заложницей страстей: «…настала минута, и то, чего недоставало в воспитании дядюшки, дополнилось само собой. Кто виноват, если это новое воспитание было навыворот обыкновенному»?» [Там же, с. 75]. На примере этой повести хорошо видна многогранность понятия «детство», о которой шла речь в начале статьи: детская невинность и непосредственность перерастают в праздность, ребячливое самолюбование. Итогом служит распад семьи, которая казалась по-настоящему счастливым союзом, и полное непонимание и бессилие их покровителя, свято верившего в непогрешимость своей педагогической системы.
Однако далеко не всегда у Одоевского «воспитанники» показаны как жертвы недальновидности или равнодушия опекунов. Часто встречается и описание счастливого детства, хотя заметно, что это описание исходит от человека зрелого, который наставляет детей ценить то, что они имеют. Таких наставлений много в «Сказках дедушки Иринея» – например, ими открывается рассказ «Шарманщик», повествующий о сложной судьбе ребенка Вани: «Как вы счастливы, любезные дети! У вас есть маменьки, которые о вас заботятся: чего бы вы ни захотели, что бы вы ни задумали, – всё готово для вас». В этом, на наш взгляд, кроется существенное отличие от многих романтических произведений, подростковых повестей и авторских сказок. У Одоевского ребенок счастлив не вопреки взрослым – в своем замкнутом игровом мире, а лишь благодаря взрослым, их заботе и любви. Очень нестандартно решается эта художественная задача в трогательной сказке «Червячок», где насекомое почти в каждом абзаце называется «малюткой», а его обиталище – «колыбелькой», и даже упоминается «маменька». Несмотря на мягкую иронию, сама сказка поднимает, наверное, самую серьезную тему цикла: отношение к смерти как к «перемене одежды», веру в вечную жизнь души.
Тема любви к ребенку, как самой сильной и самоотверженной в принципе, возникает и в реалистической прозе Одоевского. В известной светской повести Одоевского «Княжна Зизи» героиня, великодушная и чувствительная девушка Зинаида, пишет подруге: «Я бы утешала его каждую минуту жизни, я бы не спала над ним ночью, я бы ухаживала за ним целый день, я бы смешила его, когда ему скучно, я бы лелеяла его, как ребенка…» [Там же, с. 267].
В связи с последней цитатой уместно упомянуть, что, когда речь идет не о детях как таковых, а о взрослых персонажах, с ними сравниваемых, детство как символ нередко получает отрицательную коннотацию. В той же «Черной перчатке» читаем: «…в доказательство своего несчастия она [графиня] не велела себе подавать обедать, бросилась в кресла своего кабинета и принялась любоваться своим несчастием, как ребенок новою игрушкою…» [Там же, с. 74]. В «Княжне Зизи» по- добные сравнения в отношении ее старшей Лидии, женщины поверхностной и не склонной к сильным чувствам, рассыпаны по всему тексту: «…я ее должна удерживать, ибо она, как ребенок, готова купить все, что ей на глаза ни попадется» [Там же, с. 269]; «Тебе поручаю мое дело, Зинаида: смотри за ней, как за ребенком…» [Там же, с. 268]; «...но нельзя Лидию оставлять одну; она, как я тебе писала, настоящий ребенок, любит моды, но не может понять, которые пристали к ней и которые нет…» [Там же, с. 271]; «…она любовалась, играла ими, как ребенок; потом начинала плакать и приказывала уносить все свои уборы» [Там же, с. 290]. О людях, не понимающих, как «мало надобно для счастия жизни», говорится в тексте, что они «гоняются за невозможным, как дети за тенью, и потом жалуются, что не могут поймать ее» [Там же, с. 275].
Во многих произведениях всплывают сравнения персонажей с ведомым ребенком: «Но колпак ничего не слыхал, он лишь вслушивался в шушуканье туфли и следовал за ней, как младенец за нянькою [7, с. 43]; «Я отнял руку от стекла: все в нем исчезло, доктор вывел меня из комнаты, я в раздумьи следовал за ним, как ребенок» [4]. «Ужасный дядя поглядел на меня искоса, холодно отвечал на мой поклон, взял племянника под руку и повел его в другую сторону, как ребенка [10, с. 338]. «Он взглянул на девушку, понял ее и, не говоря ни слова, побрел за нею, как ребенок » [9, с. 80].
Очень сложный комплекс мотивов, связанных с детством, представлен в романе «Русские ночи». С одной стороны, повествование ведется в более высоком регистре и по форме во многом напоминает притчу – хотя бы одной уже структурой текста: инверсии, архаичная лексика, пафос. Взгляд автора на ребенка перемещается, теперь он смотрит не на одном уровне, а как бы свысока: на детей в целом, на отдельного ребенка – обобщенно и, наконец, на людей как детей. Воображению, игре, иронии здесь нет места. Зато обширным пластом лексики всплывает примыкающая к детству тема младенчества, упомянутая выше в цитатах . Она, в свою очередь, тоже дробится на традиционные мотивы.
Во-первых, это мотив инстинктуального знания, который мы называли в начале статьи. Например, в новелле «Себастиан Бах» сложные чувства композитора обозначены следующими эпитетами: «младенствующего сердца»; «младенческое сновидение», «неясные мечты младенчества». В уста другого персонажа той же «Ночи восьмой», Албрехта, вложен целый монолог, состоящий из реализованной метафоры человечества-младенца, в которую попутно еще и включен образ души-мотылька с его стадиями развития (как и в детской сказке «Червячок», несмотря на разницу в масштабе произведений):
«Было время <…> от которого не осталось ни слова, ни звука, ни очерка: тогда выражение было не нужно человечеству; сладко покоилось оно в невинной, младенческой колыбели и в беспечных снах понимало и бога и природу, настоящее и будущее. Но… всколыхалась колыбель младенца ; нежному, неоперенному, как мотыльку в едва раздавшейся личинке, предстала природа грозная, вопрошающая: тщетно юный алкид хотел в свой младенческий лепет заковать ее огромные, разнообразные формы; она <…> вызвала человека сравниться с собою. Тогда родились два постоянные, вечные, но опасные, вероломные союзника души человека: мысль и выражение» [Там же, с. 120].
Во-вторых, в романе присутствует неотрывный от темы младенчества мотив беззащитности и беспомощности: «Мать не умела завести песни над колыбелью младенца»; «Не песни, а болезненный стон матери убаюкивали младенческий сон его» [Там же, с. 87]; «…малейший ушиб в младенчестве, бездельное уколотье руки, незначащая простуда - обращались в болезнь смертельную». [Там же, с. 91]. Встречается развернутая метафора жизни (в значении судьбы) как матери дитя-человека: «Нет! коварная жизнь является ему сперва в виде теплой материнской груди … она дарит младенца мягкими членами, чтоб случайное падение не сделало человека менее способным к терзанию...» [Там же, с. 56].
И, наконец, рассматриваемая номинация становится символом одного из ключевых периодов человеческой жизни: «Зачем плачет младенец, терзается юноша, унывает старец?» [Там же, с. 10].
Теперь о другой стороне, когда притчевое «младенец» сменяется более широким концептом «ребенок». При стилистическом разборе «Русских ночей» в тексте романа так же, как в повестях и сатирических сказках, обнаруживается множество лексики по теме с негативной окраской, используемой в значении «незрелый», «неразумный» . Так, Одоевский заявляет, что «господа эмпирики, господа фактисты <…> спрятали слово ложь под словом приличие, как ребенок голову в подушки… » [Там же, с. 153]. Говоря о ложных представлениях в науке и искусстве, Одоевский утверждает, что «они похожи на повязку, которой ленивая нянька обвила голову ребенка , чтоб он, падая, не проломил себе черепа…», то есть символически спасают от вреда, но не несут никакой пользы, не способствуют развитию [Там же, с. 23]. В «Психологических заметках» вновь всплывает метафора детской вещицы: «Едва ли и XIX веку суждено освободиться от оков прошедшего, от его детского платья , в котором связаны все его движения» [Там же, с. 207]. Рядом с метонимией «век» стоит более прямая аналогия «дети – общество» (в данном контексте – русское); так, в статье «Записки для моего праправнука о русской литературе» Одоевский дает характеристику современного человека – надо заметить, не отчуждая при этом себя: «Мы новые люди посреди старого века; мы вчера родились, хотя и знаем все, что было до нашего рождения; мы дети с опытностию старца , но все дети: явление небывалое в летописях мира…» [5].
Таким образом, проанализировав наиболее известные произведения Одоевского, где прямо или косвенно задействован концепт детства, можно сделать вывод, что в его понимании этого концепта ключевой является гармония инстинктуаль-ного знания и воспитания . У Одоевского нет идеализации детства как некоей «чудесной страны», в которую нет возврата, нет и признания исключительности мировоззрения ребенка: взрослый человек также способен на познание тонкого мира, причем на качественно ином уровне, поскольку обладает развитой рефлексией. На примере жизненных драм своих персонажей Одоевский показывает важность идейно-нравственного начала, которое из «младенческого» «нравственного инстинкта» должно стать твердыми убеждениями, сложившейся системой ценностей, реализуемых на деле. В противном случае зрелый человек, лишенный первичной чистоты восприятия, но не выросший морально, выглядит «ребенком» совсем в ином смысле – не способным к принятию решений и критической самооценке, контролю над эмоциями и дурными порывами.
Такой серьезный и продуманный подход к проблеме принес свои плоды. Это и значимый вклад в развитие отечественной педагогики, и замечательные познавательно-дидактические произведения для детей, не теряющие актуальность и в наши дни. С точки зрения истории литературы, Одоевский был одним из первых писателей-романтиков, кто соотнес рецепцию «тонкого мира» с особым психологическим состоянием, приближенным к сознанию ребенка. Неудивительно, что творческое наследие писателя в последние годы все больше актуализируется, вызывая интерес у исследователей не только в отечественном, но и в зарубежном литературоведении.
Список литературы Концепция детства в творчестве В. Ф. Одоевского
- Вацуро В. Э. София: Заметки на полях «Косморамы» В. Ф. Одоевского //Журнальный зал. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2000/42/vacuro2.html. (Дата обращения: 13.08.2016.)
- Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. М.: Coda, 1996. 474 с.
- Одоевский В. Ф. Избранные педагогические сочинения. М.: Учпедгиз, 1955. 368 с.
- Одоевский В. Ф. Косморама //Русская фантастика: книжная полка. URL: http://books.rusf.ru/unzip/add-on/xussr-xx/odo001.htm. (Дата обращения: 13.08.2016.)
- Одоевский В. Ф. О литературе и искусстве. //Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». URL: http://imwerden.de/pdf/odoevsky_o_literature.pdf. (Дата обращения: 15.08. 2016.)
- Одоевский В. Ф. Отрывки из журнала Маши //Электронная библиотека Ридли. URL: http://readli.net/chitat-online/?b=444594&pg=4. (Дата обращения: 13.08.2016.)
- Одоевский В. Ф. Пестрые сказки. СПб.: Наука, 1996. 206 с.
- Одоевский В. Ф. Повести и рассказы. //Некоммерческая электронная библиотека «ImWerden». URL: http://imwerden.de/pdf/odoevsky_ povesti_i_rasskazy_tom2.pdf. (Дата обращения: 15.08.2016.)
- Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л.: Наука, 1975. 320 с.
- Одоевский В. Ф. Сочинения: в 2 т. Т. 2: Повести. М.: Худож. лит., 1981. 368 с.
- Седова И. Косморама с «Екатерингофским гуляньем» //Проект классика. URL: http://www.projectclassica.ru/school/12_2004/school2004_12_03a.htm. (Дата обращения: 13.08.2016.)
- Турьян М. А. «Игоша» В. Ф. Одоевского (К проблеме фольклоризма)//Русская литература. 1977. № 1. С. 132-136.
- Турьян М. А. У истоков русской «психологической фантастики». Владимир Одоевский//Памяти Григория Абрамовича Бялого: К 90-летию со дня рождения. СПб.: Издательство СПбГУ, 1996. С. 11-24.