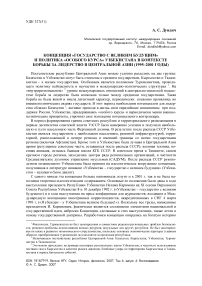Концепция «государство с великим будущим» и политика «особого курса» Узбекистана в контексте борьбы за лидерство в Центральной Азии (1995-2001 годы)
Автор: Дундич А.С.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.6, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14736910
IDR: 14736910 | УДК: 327(51)
Текст статьи Концепция «государство с великим будущим» и политика «особого курса» Узбекистана в контексте борьбы за лидерство в Центральной Азии (1995-2001 годы)
И ПОЛИТИКА «ОСОБОГО КУРСА» УЗБЕКИСТАНА В КОНТЕКСТЕ БОРЬБЫ ЗА ЛИДЕРСТВО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (1995–2001 ГОДЫ)
Постсоветские республики Центральной Азии можно условно разделить на две группы: Казахстан и Узбекистан могут быть отнесены к средним государствам, Кыргызстан и Таджикистан – к малым государствам. Особенным является положение Туркменистана, проводящего политику нейтралитета и неучастия в международно-политических структурах 1 . На «внутрирегиональном» 2 уровне международных отношений в центрально-азиатской подсистеме борьба за лидерство была возможна только между средними государствами. Такая борьба не была явной и имела латентный характер, периодически косвенно проявляясь во внешнеполитических акциях государств. В этот период наибольшим потенциалом для лидерства обладал Казахстан 3 , активно проводя в жизнь свои евразийские инициативы при поддержке России. Узбекистан, придерживаясь «особого курса» и периодически меняя внешнеполитические приоритеты, упрочнял свое положение потенциального контрлидера.
В период формирования границ советских республик и территориального размежевания в первые десятилетия советской власти УзССР была намеренно усилена и получила наибольшую и густо населенную часть Ферганской долины. В результате после распада СССР Узбекистан являлся государством с наибольшим населением, развитой инфраструктурой, территорией, расположенной в центре региона и имевшей границы со всеми государствами региона (включая Афганистан). Кроме того в Узбекистане была лучшая в Центральной Азии армия (регулярные советские части, оставшиеся после распада СССР), военная техника, военная авиация, осталась бывшая школа КГБ СССР. В советское время в Ташкенте, самом крупном городе региона, находились центры ряда региональных организаций, в частности Среднеазиатское духовное управление мусульман (САДУМ). После распада СССР руководством независимого Узбекистана была принята на идеологическое вооружение концепция, получившая в литературе название «Узбекистан – государство с великим будущим» (Узбеки-стон – келажаги буюк давлат).
С самого начала эта концепция больше напоминала лозунг и к 2001 г. так и не была наполнена теоретико-идеологическим содержанием. Основные ее положения были даны в ходе выступления президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на XI сессии Верховного Совета Республики Узбекистан 8 и 10 декабря 1992 г. («Узбекистан – государство с великим будущим») и в ходе выступления на пресс-конференции для журналистов, входящих в Международную ассоциацию иностранных корреспондентов, аккредитованных в СНГ 4 марта 1993 г. («Я убежден – у Узбекистана великое будущее!»). Поскольку все труды, написанные президентом И. Каримовым, фактически являются составными элементами национальной и государственной идеи, наброски Концепции, сделанные в этих выступлениях, также легли в основу государственной доктрины. Разработчики концепции опирались на богатую историю узбекской государственности, обширную духовную сферу жизни узбекского общества, вобравшую в себя крупные пласты пришедшей вместе с исламом арабской и персидской культуры и наследия великих мыслителей, заложивших основы современного узбекского общества. Отмечали, что Узбекистан всегда являлся перекрестком цивилизаций и религий, имеет большой экономический потенциал, что узбекский народ – трудолюбив и инициативен. На основании совокупности этих факторов делался вывод о том, что Узбекистан, имея такой мощный фундамент, может и должен достичь великого будущего. Параллельно с идеей «великого будущего» провозглашалась идея «особого курса», т. е. собственной узбекской модели государственного строительства [7. C. 5].
На внутрирегиональном уровне международных отношений такая доктрина означала во внутритаджикском конфликте стремление к его скорейшему урегулированию и недопущению его эскалации на территорию Узбекистана, а также уничтожению узбекской исламистской оппозиции, находящейся на его территории, в Афганистане – устранение перманентного очага нестебильности и связанная с этим поддержка Северного Альянса против движения Талибан. Развитие Узбекистана должно было быть обеспечено также влиянием на соседние государства, их политику. Важным инструментом такого влияния становились узбекские ир-реденты (в первую очередь Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан) 4 . В Казахстане к 2000 г. проживало 2,3 % узбеков от общей массы населения (в основном, в его южной части), в Кыргызстане – 12,9 % (преимущественно в Джалал-Абадской, Ошской областях), в Таджикистане – 25 % (Согдийская, Хатлонская область), в Афганистане – 9 % (север), в Туркменистане – 9,2 % (приграничные районы) [10]. Кроме того, важным инструментом влияния на соседние малые государства были поставки узбекского газа, регулируя которые, Узбекистан мог оказывать давление на соседние государства. Наиболее ярко вмешательство во внутренние дела соседей проявилось в период вторжения вооруженных исламистов в Кыргызстан и Узбекистан в 1999–2000 гг. (Баткенские и Сурхандарьинские события), когда Узбекистан проводил военные акции на территории малых государств, не считаясь с их мнением 5 [1. C. 61–69].
Такая политика Узбекистана вызывала естественные опасения и протест малых государств. Сотрудники Министерства обороны Кыргызской Республики сообщали в соответствующей аналитической справке: «Основой современной политико-идеологической работы РУз (Республики Узбекистан. – А. Д. ) является националистическая идея «Буюк давлетизма» (великое государство. – А. Д. ), согласно которой ведется систематическое укоренение и культивирование в сознании узбеков представления об Узбекистане как о локомотиве, флагмане региональной цивилизации» 6 .
В своем стремлении построить «государство с великим будущим» Узбекистан придерживался альтернативной России внешнеполитической ориентации. Поворотным моментом стал 1999 г., когда Узбекистан, не удовлетворенный развитием сотрудничества в рамках ДКБ в условиях приближения отрядов движения Талибан к своим границам, отказался пролонгировать договор [6]. На надрегиональном уровне это выразилось в расширении взаимодействия и сотрудничества с США, НАТО и с придерживавшимися такого же внешнеполитического вектора государствами СНГ. Наиболее важным партнером в реализации узбекской доктрины с 1995 г. выступили США.
В апреле 1999 г. после отказа от пролонгации Договора коллективной безопасности Узбекистан вступил в альтернативную организацию ГУАМ (включала Грузию, Украину, Азербайджан, Молдову. В период вхождения Узбекистана в 1999–2005 гг. называлась ГУУАМ. – Ред.). Целями этого союза, образованного в 1997 г., являлись развитие транспортноэнергетической системы без участия России, продвижение американского варианта демокра- тии и развитие США – НАТО ориентированного сотрудничества в области безопасности. О вступлении Узбекистана в ГУУАМ было официально объявлено на встрече в посольстве Узбекистана в Вашингтоне, посвященной 50-летнему юбилею НАТО, на которую прибыли пять глав государств-участников организации. ГУУАМ поспешил заявить, что «не нацелен против любой третьей страны или группы стран» [4]. И действительно, ГУУАМ был больше озабочен внутренними проблемами безопасности и стабильности (наличием таких горячих точек, как Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Афганистан), чем «сколачиванием контрроссийского заговора». Несмотря на это, создание организации постсоветских республик без участия России приветствовалось западными странами, а ее тесное сотрудничество с Вашингтоном вызвало обеспокоенную реакцию Москвы.
Однако к июню 2000 г. Узбекистан остался неудовлетворен развитием сотрудничества и институционализации в рамках данного союза, промедлением в создании постоянных органов – исполнительного комитета и секретариата. ГУУАМ еще в меньшей степени, чем ДКБ оказался способен предоставить действенный механизм общего ответа на вторжение исламистов, угроза которого к тому времени была уже реализована на практике во время Баткенских событий лета 1999 г.
Нестабильные отношения существовали у Узбекистана и с Турцией. Турция к концу 1998 г. занимала второе место по объему инвестиций в Узбекистан после Великобритании. Однако в политических отношениях двух государств во второй половине 1990-х гг. наступило охлаждение. В Турции нашли прибежище активисты оппозиционных партий «Бирлик» (Единство) и «Эрк» (Свобода). В ответ Узбекистаном было отозвано большинство обучавшихся в Турции студентов, закрыты турецкие лицеи – учебные заведения, готовившие лучших абитуриентов для вузов [5. C. 278–279].
В 1995–2000 гг. узбекские ученые пытались детализировать концепцию «Узбекистан – государство с великим будущим», однако она так и осталась аморфной. Уже к 2000 г. стало видно, что реализация концепции если не явно провалилась, то испытывала серьезные внутренние трудности, прежде всего социально-экономического характера.
МИД Кыргызской Республики так характеризовал ситуацию в Узбекистане:
-
« - избыток рабочей силы в Ферганской долине ( справочно : В Ферганской долине плотность населения достигает 500–600 человек на 1 кв. км);
-
- ... кризисные проявления в экономике, в условиях переходного периода. Повышается потенциальная опасность социальной нестабильности, обусловленная развитием безработицы, дифференциацией социальных слоев населения, ростом преступности, появлением взрывоопасной обстановки, недовольством простых граждан. Как известно, в Ферганской группе областей Узбекистана, в частности, в Фергане в июле 1989 г. и в Намангане в 1990 г., уже имели место открытые выступления населения и в первую очередь молодежи;
-
- использование силовых методов подавления в случае выступлений местного населения;
-
- возможное давление на несговорчивость кыргызской стороны по принципиальным моментам;
-
- районы Ферганской долины относятся к регионам традиционного распространения ислама с высоким уровнем религиозности населения, по этой причине наметилась негативная тенденция укрепления позиций приверженцев религиозного экстремизма» 7 .
Многие положения концепции «государства с великим будущим» в Узбекистане перекликались со стратегией развития «Казахстан – 2030» [3. C. 169]. Однако существенное отличие состояло в том, что казахстанская внешнеполитическая доктрина изначально формировалась в рамках Евразийства. Согласно особому пониманию Казахстаном концепции Еразийства учитывалось положение Казахстана на перекрестке мировых цивилизаций и в основу внешней политики изначально закладывались «всеевразийский охват» и многовекторная политика. Основным евразийским партнером провозглашалась Россия, которую некоторые западные исследователи называют «региональным гегемоном» [9. Р. 469], однако это не являлось препятствием для развития сотрудничества с другими державами. Это проявилось во внешнеполитических инициативах Казахстана в 1990-е гг., таких как созыв Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и создание Евразийского экономического сообщества. В этих организациях Казахстан является лидером либо одним из лидеров. Внешнеполитические устремления Казахстана с конца 1990-х гг. получили свое развитие благодаря бурному росту ресурсной экономики и активизации деятельности казахстанских предприятий на региональной арене.
В современной литературе сложилось мнение, что Узбекистан являлся основным конкурентом Казахстана в борьбе за лидерство в Центральной Азии на протяжении 1990-х гг. [2. C. 159; 8]. Однако такое понимание лидерства и контрлидерства в регионе представляется не вполне корректным. Приоритетом внешней политики и международных отношений Узбекистана, как это видно из его внешнеполитических акций в течение 1990-х гг., изначально являлось скорее обеспечение собственных «жизненно важных» интересов в регионе, чем стремление «вести за собой» (от английского to lead ) другие государства. Вопросы обеспечения национальной безопасности и экономического развития и борьба за лидерство чаще не совпадали. Не вписывается в гипотезу узбекского лидерства поворот Узбекистана от ОДКБ к ГУУАМ, последующая приостановка членства в этой организации, поддержка США в Афганистане в 2001 г. и поворот к России в 2005 г. Противоречит этому непостоянство внешнеполитических партнеров, стремление к обеспечению безопасности на территории соседних государств (в том числе силовым путем, через визовый режим с соседями, «минный занавес»). В течение всего периода независимости внешнеполитические действия Узбекистана определялись вопросами безопасности и экономики и были направлены на развитие собственной модели государства (в отличие от интеграционной модели Казахстана, развивавшейся в рамках лидерства в региональных / надрегиональных интеграционных образованиях). Участие Узбекистана в организации Центрально-Азиатского экономического сотрудничества также не стало претензией на лидерство. Так, Таджикистан и Россия стали членами этой организации, несмотря на сопротивление Узбекистана.
К концу 1990-х гг. проблемы экономического развития объективно не позволили Узбекистану претендовать на лидерские позиции в региональной экономике. Таким образом, к концу 1990-х гг. Узбекистану не удалось построить собственную успешную модель государственного развития. Однако при оформившемся динамическом лидерстве Казахстана Узбекистан сохранил возможности потенциального контрлидерства.
Материал поступил в редколлегию 08.10.2007