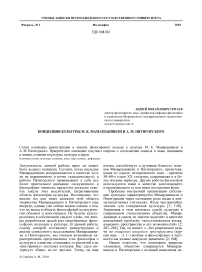Концепция культуры М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорского
Автор: Сергеев Андрей Михайлович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (106), 2010 года.
Бесплатный доступ
Культура, сознание, язык, знак, символ, рефлексия
Короткий адрес: https://sciup.org/14749668
IDR: 14749668
Текст статьи Концепция культуры М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорского
Актуальность данной работы вряд ли может быть всерьез оспорена. Сегодня, когда наследие Мамардашвили воспринимается в качестве чуть ли не нормативного и почти «классического», а работы Пятигорского приковывают к себе все более пристальное внимание «искушенного в философии» читателя, предстоит детально освоить тексты этих мыслителей, затрагивающие область философии культуры. Несомненно, что анализ тех или иных аспектов этой области творчества Мамардашвили и Пятигорского еще впереди, однако уже сейчас можно сказать о том, что их вклад в область философской культурологии объемен и многoгpaнен. Не будучи культурологами в собственном смысле слова, эти авторы разработали целый ряд своеобразных философских подходов к культуре. В данной работе, основу которой составляют реконструкция и анализ совместного исследования Мамардашвили и Пятигорского, мы считаем возможным характеризовать представления этих философов о культуре в единстве, отвлекаясь от различий в их «внутренних» системах взглядов. Нас здесь интересует общее, но не частное. Этому, на наш
взгляд, способствует и духовная близость поисков Мамардашвили и Пятигорского, проистекающая из одного исторического эона – времени 50–60-х годов ХХ столетия, сохраняемая и в более поздние периоды. Другие работы философов используются нами в качестве дополняющего и проясняющего те или иные построения фона.
Проблема внутренней организации субстанции культуры характеризуется Мамардашвили и Пятигорским через осознание роли языка в коммуникативных ситуациях. Язык чрезвычайно значим для совершения культуры [3; 140]. 3атрагивая в этом контексте судьбу культуры в современном отечественном обществе, Мамардашвили в одном из текстов выделяет в качестве важнейшей проблему «восстановления языка, языкового пространства и его возможностей» [2; 203–204]. Так, он пишет: «...Без разрешения задачи по очищению языкового пространства (курсив наш. – А. С. ) вообще и философского в частности мы дальше никуда не двинемся» [2; 168].
Важно отметить, что понимание природы «языковых объектов» совершается Мамардашвили и Пятигорским с позиций выявления не- коего предшествующего языку – онтологического – уровня, само наличие которого позволяет осуществиться связи типа «нечто – язык» и «язык – нечто». Этим «нечто», с их точки зрения, является «сознание». В культуре наряду с сигнальным аппаратом языка имеется и символический его аппарат, который является «интимным» механизмом культуры, характеристикой не знания, а понимания языка. «Символический аппарат» укоренен в сознание и раскрывается в процессе создания метафизической теории сознания. По Мамардашвили и Пятигорскому, рассматривать функционирование «языка» и «языковых объектов» можно как в перспективе сознания, так и в перспективе «культурных нормативов». Среда «естественного» языка, существование которого представимо, но не натурно, раскрывается одновременно и посредством символического аппарата культуры, и через сигнальный ее аппарат [3; 147–148]. Сигнальная система успешно действует, только если помнит о том, что «она есть не более чем частный случай узкоспециализированного использования естественного языка» [3; 161–162], понимаемого, в свою очередь, через эстетический образ сферы (области) пространства, границы которой определены напряжением антиномии «сознание – символ(-ы)». В этом отношении показательно разграничение Пятигорским смысловых объемов понятий «символ» и «знак»: символ всегда исходит от Сущего, а знак – всегда из не-сущего к не-сущему же [4; 124]. Вторит ему и Мамардашвили: «Символ (не знак!) всегда есть то, что мы не до конца понимаем, но что есть мы сами как понимающие, как существующие» [2; 59]. Понятно в связи с этим намерение философов укрепить символический аппарат культуры, стремление обособить его от знаковых «употреблений» культуры. Мамардашвили и Пятигорский подчеркивают, что содержание символического аппарата не должно реализовываться в «коммуникативных ситуациях» полностью и без остатка [3; 149–150]. Данное требование сродни «избытку видения» М. М. Бахтина. В целом же движение мысли двух философов во многом исходит из интенции «символического» понимания бытия культурных событий и в этом напоминает усилия П. А. Флоренского и А. Ф. Лосева 20-х годов прошлого века, хотя и в русле новых задач, например, посредством обращения к теории сознания.
Итак, фактором, определяющим характер культуры, является, по Мамардашвили и Пятигорскому, соотношение символических и естественно-языковых систем. В данном контексте любопытно уточнение о том, что само соотношение «символизма» и «языковости» в рамках одной культуры связано с характером религии в данной культуре [3; 241]. «Очевидно, что культурные явления раскрываются по мере масштаба использования символов» [3; 239]. Мамардашвили и Пятигорский допускают существование таких ситуаций в культуре, когда ряд культурных объектов предполагает использование исключительно «символических значений» без использования «языка» [3; 240]. В этой связи говорится о «табу» на процесс включения в группу объектов, по отношению к которым мог быть использован «естественный» язык, ряда объектов «символического» рода.
По аналогии с вышеописанным пониманием природы «символического» раскрывается идея Мамардашвили, согласно которой постулируется возможность существования неких «образований», принципиально не выводимых «из» человека. Так, он замечает, что в мышлении есть такие архетипические образования, которые нельзя понять как продолжение собственных сил рассуждения, умозаключения, наблюдения. «...Ведь есть и некоторые первичные, первоначальные отношения, которые не нами созданы, но есть именно в нас и вечны в том смысле, что они вечно совершаются, и мы как бы находимся внутри пространства, охваченного их вечным свершением, – замечает Мамардашвили. – Они никогда не позади нас и никогда не впереди нас как некое состояние, которое будет когда-то нами достигнуто (вроде идеального общества). Они всегда – сейчас» [2; 38]. Осознаваемые в призме этих идей символы, по Мамардашвили, отражают факт существования в мире некоего нечто, которое «есть и без нашего на то соизволения», оно бытийствует и как бы воссоздает себя в некоторых состояниях человека, в которых он – уже не тот, что был перед этим.
Проблема соотношения «символа» и «знака» в языке культуры, а шире – проблема взаимосвязанности «символического» и «сигнального» аппаратов культуры раскрывает подступы к другой важной идее. Речь идет о понимании культуры внутри ее самой. С одной стороны, понимание есть объективно включенное в культуру, имманентное условие ее существования, однако, с другой стороны, фактором бытия культуры служит некая «неполнота понимания». «Полное понимание» культуры, осуществляемое внутри ее пределов, уничтожает механизм воспроизведения субстанции культуры, разрушает связь фундаментальных ее элементов [3; 152–154]. Поэтому, по мнению Мамардашвили и Пятигорского, должны существовать механизмы культуры, не позволяющие «понять» культуру совсем, но сохраняющие в то же время возможность такого рода протекания событий. В этой связи значима роль «текстов сознания», то есть священных, мистических, метафизических текстов, делающих «текст культуры» двусмысленным [3; 153]. Иначе говоря, в культуре есть то, что способно быть коммуницируемым и адаптированным, и то, что таким быть не может. Касаясь вопроса о практике сообщения текстов внутри культуры, Мамардашвили и Пятигорский отмечают, что «“идеальное сообщение” представляет собой текст без начала и конца (курсив наш. - А. С.), как бы случайно выплеснувшийся из спонтанного континуума передаваемого содержания» [3; 163].
Ответа на вполне резонный вопрос, напрашивающийся из логики рассуждений Мамардашвили и Пятигорского, но не выявляемый ими самими, – «В самом языке или нет содержится механизм интерпретации языка»? – удается избежать следующим образом. Рассмотрение языка в диапазоне «символ – сознание» позволяет философам не обозначать и не маркировать отдельные фазы размышления теми или иными «определениями». Скорее, возможно говорить об общем направлении понимания, когда «язык» воспринимается в качестве «языковой манифестации сознания», в результате чего он рассматривается по аналогии с «символическим аппаратом» и теряет право быть связанным с натуралистическими представлениями о «языковой материи».
Вопрос о наличии или отсутствии понимания культурой самой себя рассматривается Мамардашвили и Пятигорским через метафору «надкультурного рефлекса», которая отчасти выполняет функции понятия. Так, философы пишут: «По-видимому, всякая конкретная культура постоянно функционирует в двух ипостасях – “внутренней” и “внешней”» [3; 143]. Соответственно, учесть инварианты ориентации культуры можно по типу культивирования одного из этих оснований. Мамардашвили и Пятигорский говорят о внешних и внутренних культурах, различающихся значением «надкультурного рефлекса». В первом случае он фигурирует как «содержание знания», которое предназначено как для передачи внутри культуры, так и для экспорта в качестве «культурной ценности». Во втором случае «надкультурный рефлекс» является инструментом знания об употреблении языка, в результате чего происходит переориентация с понимания на знание. И если во «внешних» культурах «понимание» препятствует «познанию», то, напротив, во «внутренних» культурах «знание» мешает «пониманию», а производные от языка «сигнальные системы» – вторичные в своей основе – используются во внутренних коммуникациях [3; 140–147]. Важно понять, что Мамардашвили и Пятигорский утверждают возможность возникновения в культуре таких ситуаций, когда язык понятен, но не может быть познан ввиду беспредельного разнообразия «языковой материи». Но может быть и обратное, то есть ситуации, когда язык познан, а понятность выводится из познания, в результате чего «языковая материя» конечна.
В соответствии с вышеописанным пониманием, европейская культура является культурой «внешнего» образца, где «надкультурный рефлекс» действует как содержание (то есть совместное «держание») знания. Характеризуя сущность европейской культуры, Мамардашвили подчеркивает, что «культурная ценность» собственно никогда не может здесь раскрыть определяющее ядро культуры. Культура, по его мнению, это не совокупность «готовых ценностей и продуктов, лишь ждущих потребления или осознания», а «способность и усилие человека быть, владение живыми различиями, непременно, снова и снова, возобновляемое и расширяемое» [2; 189]. «…Вся европейская культура построена на жизненном усилии, – пишет Мамардашвили. – Принцип культуры, в отличие от нигилизма, есть принцип “я могу”» [2; 37]. В этом отношении Мамардашвили характеризует современное состояние европейской культуры как «антропологическую катастрофу», связанную с утратой «человека исторического» – «человека пути» [2; 146– 147, 189]. Таким образом, значимым моментом понимания культуры является фактор принципиальной «невместимости» и «нерастворимости» человека в своем действии, мысли, поступке. Символ оказывается как раз тем устройством, которое способно изменить ситуацию, когда «знание того, что мы видим, несомненно, мешает нам видеть другое» [2; 44]. Символ, как подчеркивают авторы, связывает нас с культурой не в плоскости знания, а на уровне понимания.
Мамардашвили и Пятигорский выделяют особый класс первичных символов культуры, где фактором человекообразования является возможность отношения (отнесения) человека к идее человека, где «отложена» первичная жизнь сознания, от которой «датируется понимание или развитие того, что мы называем пониманием» [3; 260]. Эти «первичные символы» Мамардашвили и Пятигорский находят в системах мифологии и характеризуют в качестве «символов, говорящих ни о чем». Этим подчеркивается их «содержательная пустота». Оговаривается, что мы можем раскрывать только соответствующее некоему «первичному» символу «сознательное» содержание, но не содержание вне сознания. Философы замечают, что символическая жизнь включает в себя как понимание, так и непонимание. Здесь речь идет и о принципиальном «непонимании» символа; непонимании, которое не может быть устранено в ходе эволюционного процесса [3; 265–266].
Говоря о количестве «первичных символов», Мамардашвили и Пятигорский подчеркивают, что их очень немного, а также выделяют в качестве важнейших символы смерти и бессмертия , которые ставят человека в ситуацию, когда он может «охватить» свою сознательную жизнь целиком, теряя при этом ее саму как им «сознаваемую» жизнь, ибо она уже отделена от нашего психического функционирования [3; 269–270]. Иметь жизнь в качестве полностью «сознательной жизни», будучи в жизни же, невозможно. Это осуществимо только при вхождении человека в сознание (но это уже другая проблема, которая чрезвычайно интересно решается А. М. Пятигорским в «Философии одного переулка»). Как говорит об этом Мамардашвили, «если мы не готовы при расшифровке или освоении символа смерти расстаться с собой, то не увидим иное» [2; 43].
Мамардашвили и Пятигорский подчеркивают, что в «первичных символах» никаких культурных спецификаций не происходит. «Сознание наше живет в напряженном поле, очерченном предельными границами смыслов», – добавляет Мамардашвили и далее поясняет: «В том числе и в поле символов – “человек”, “смерть”, “смысл жизни”, “свобода” и т. д. Это ведь вещи, производящие сами себя» [2; 63]. Посредством символических конструкций, находясь уже в культуре, мы можем, по Мамардашвили, «испытать то, чего без них никогда не могли бы испытать как эмпирические человеческие существа в своем опыте» [2; 105]. Символы как раз «производят» в нас «человеческие (потенциально возможные, любые вообще. – А. С. ) состояния» [2; 106].
Возвращаясь к идее о невозможности каких-либо «культурных» определений и ограничений «первичных символов» без остатка, выделим замечание Мамардашвили и Пятигорского о том, что любая из религий в своем эзотерическом виде обязательно постулирует такие психические состояния, где религиозных спецификаций быть просто не может [3; 272].
По Мамардашвили и Пятигорскому, в любой культуре имеются в наличии содержания, в которых она как бы уже отрефлектировала саму себя. Эти «содержания» – особого рода и связаны с описанным ранее «надкультурным рефлексом». Само наличие в культуре неких «содержаний» понимания ею самой себя связано с существованием рефлексивных процедур , которые «содержательно необъектны» и есть описания любого содержания как состояния того, кто его описывает. Это – «пустые» содержания, позволяющие «внешнему наблюдателю» войти в культуру и быть в ней. Практика рефлексивных процедур предполагает дифференциальное осознание культуры и языка: культуры – в ее различных языковых использованиях, а языка – в его уровнях и функциях [3; 168–173]. «Символический аппарат» потому и становится «универсальным ключом» культуры, что он одновременно входит и в рефлексивную процедуру как способ сознания, и в содержание рефлексии как то, чем культура обозначает саму себя для себя самой.
Говоря о «пустоте» рефлексивных процедур, значимо выделить еще, по крайней мере, два момента, важных для понимания культуры. Первый связан с характеристикой публичности и открытости культуры. Как пишет Мамардашвили, «культура всегда публична (курсив наш. – А. С.), ее всепространственность и повсевременность, по определению, всегда открыто представлена на том, что греки называли “агорой” (“рыночной площадью”)» [2; 176]. «Культура же, т. е. вечность в настоящем, в существующем, нуждается в открытом пространстве и свободном слове, – утверждает Мамардашвили. – Это, очевидно, “врожденное” свойство культуры: она не может органично и жизненно полноценно расти в подполье, в глухой, не связанной словом (или, если угодно, “все-словом”) жизни. Живые токи коммуникации должны быть!» [2; 176]. В другом месте Мамардашвили говорит о том, что «культура, по определению, публична», что она, «по определению, создана для открытого существования и существует только на открытом пространстве. На обзоре» [2; 70]. Характеризуя «поле любой культуры» как бесконечное, он отмечает, что «реальная культура находится вовсе не в музеях и не сводится к их посещению, а состоит в… чувстве бытия или небытия…» [2; 147].
Итак, именно «пустота» культурной формы предопределяет и, если так можно выразиться, «задает» открытость культурного содержания, но, с другой стороны, она же оборачивается незаменимым ничем напряжением мысли, то есть требует от человека исключительно «живой» мысли, а не ее имитации. «…Сама культурная форма существования наших мыслей предполагает в себе незнание, – указывает Мамардашвили. – То есть некую пустоту, оставленную онтологическим устройством и мира, и мысли для того, чтобы заполниться живым актом, живым, напряженным, волевым состоянием» [2; 144]. Чуть позже Мамардашвили пишет: «…дополнительным, все время восполняющим условием культуры является свершение – всегда случайное – именно такого рода живых состояний или живых актов, которые сами по себе не являются ценностными, полезными, а являются тем, что Кант называл “бесконечными ценностями” или “бесцельными целями”» [2; 145]. Эти идеи проясняют суть многих «промахов» и «ошибок» современных исследователей культуры, связанных в основе своей с ее определениями. Почему любая дефиниция оказывается неспособна раскрыть «загадку» культуры? Да потому, что состояние мысли всегда есть некоторый дополнительный живой акт, случившийся вместе со значением понятий, в том числе и высоких. «Случившись, такое состояние неотличимо от понятия, в котором оно – увы – не содержится, – объясняет Мамардашвили. – Живое лишь дает о себе знать своим присутствием, а ухватить различение живого и мертвого в понятии мы не можем» [2; 145–146].
В соотношении культуры и сознания Мамардашвили и Пятигорский выделяют свойство активно прогрессирующей «несовместимости»: оба элемента исключают друг друга по некоторым признакам отношения. В культуре с компонентами сознания происходит «культурная формализация», то есть редуцирование в них условий жизни сознания [3; 243–244]. Мамардашвили и Пятигорской подчеркивают роль факторов, противостоящих культуре. Так выявляется необходимость антиредукционных и антиформалистских явлений, иначе говоря – «механика антикультуры» в рамках самой культуры. С этой точки зрения Мамардашвили и Пятигорский ставят вопрос об утрате культурой своего языка в результате разрушения практики «символической жизни», когда кардинально меняются условия существования и функционирования естественного языка. Собственно, оставленность культуры символизмом обостряет значимую для Мамардашвили и Пятигорского проблему сохранения в культуре спонтанности мышления. «Делать что-то без понимания и есть культура, – пишут философы. – Делать что-то механически и есть культура… Культура есть то, что культивирует объективно направленный механизм мышления» [3; 249]. Человек, по мнению Мамардашвили и Пятигорского, намеревается и стремится «жить в сознании» как бы без символов, но это ему не удается. Он просто не может обойтись без символов, а сознание способно вырабатывать и вырабатывает такие активности, где человек может быть внутри символа. Однако это, как подчеркивают Мамардашвили и Пятигорский, должно идти от сознания, а не от человека. Говоря по-другому, человек есть существо, у которого есть сознание о присутствии в мире таких структур, которые соразмерны со структурами мира и которые только позволяют человеку понять этот мир. Таким образом, в культуре должна совершаться тенденция ее архаизации, что происходит благодаря философскому умозрению. При этом значимы рассуждения Пятигорского. «Философское мышление, как я его понимаю, само в себе абсолютно акультурно», – говорит он и поясняет: «Но не антикультурно. Оно в принципе, я подчеркиваю, не должно нуждаться в переводе» [1; 94]. «Философичность» текста при его вхождении в культуру просто пропадает, исчезает, умирает и, соответственно, ждет – «в этой оставленности» – понимания [1; 94]. Рассуждая далее, Пятигорский подчеркивает, что «для философского мышления очень важно... забвение каких-то вещей, а не отрицание их» [1; 97]. Также и Мамардашвили, размышляя о соотношении философии и культуры, говорит следующее: «...сама философия отлична от своих собственных культурных эквивалентов, посредством которых она получает хождение и распространение в том или ином обществе или в той или иной культуре» [2; 102–103]. Философия для Мамардашвили – это термин, предназначенный «для обозначения того элемента или остановки, который присущ устройству жизни нашего сознания, присущ актам человеческим» [2; 33].
Парадоксально выглядит в этой связи рассуждение Пятигорского о феномене «культурного засилия в России», где, по его мнению, культура стала всепоглощающим фактором, который делает индивидуальное и любое сознательное индивидуальное усилие деиндивидуализирован-ным. «…Были страны, где жить было не легче, но где философия была, – говорит Пятигорский. – Не было штампа культурной реакции. Я настаиваю, что это штамп именно культурный, определяющий любое восприятие своей жизни только через культуру. Когда культура выступает как опосредующий механизм, через который никакой акт философского мышления не пройдет узнаваемым и не изуродованным» [1; 95–96].
Акцентируя внимание на том, что самостоятельность мышления не свидетельствует об отказе от культуры, пытаясь укрепить свою аргументацию, Пятигорский отмечает: «…во всех культурах реальный философ объективно отделен – по режиму и содержанию своего мышления» [1; 98]. Более того, Пятигорский пишет о том, что культура релятивна не только лежащим вне ее духовным целям ее носителей, но также их интенциональным состояниям, например – созерцательности.
Одним из глубоко разработанных аспектов понимания культуры в концепции Мамардашвили стала идея ее соотношения с наукой. Философ считает, что возможность постановки вопроса о культуре и науке как о различных вещах связана «с различением между содержанием тех интеллектуальных или концептуальных образований, которые мы называем наукой, и существованием этих же концептуальных образований или их содержаний» [2; 338], что отождествляется им с культурой. Мамардашвили, таким образом, выявляет разницу между «порядком содержания» и «порядком существования этого содержания». Знание характеризуется, по его мнению, и информационным объемом, и «некоей культурной плотностью». Автор пишет: «Наука – продуктивна, культура – репродуктивна» [2; 351].
Мамардашвили вводит образ «особого рода устройств экстатического характера». С этой точки зрения культура есть такое «экстатическое устройство», благодаря которому человек оказывается переведенным в более интенсивный регистр жизни, где он овладевает своими собственными способностями и тем самым впервые их развивает. В этом контексте, вслед за Марксом, Мамардашвили определяет культуру как «орган воспроизводства человеческой жизни», который продуцирует именно то, что не происходит в причинно-следственном сцеплении и последовательном действии природных механизмов. Соответственно, культура понимается Мамардашвили органом производства человеческих состояний; сферой и механизмом по введению человека в область его возможностей. Культура усиливает состояния человеческого психического аппарата и переводит его «в другое измерение, в другой способ бытия, лежащий вне отдельного человека и к тому же являющийся более осмысленным и упорядоченным, чем сам эмпирический человек» [2; 345].
Мамардашвили делает вывод о необходимости существования в культуре «областей экспериментирования с возможным образом человека», с «возможным местом его в космосе», ибо культура принципиально должна допускать вероятность изменения человека. «Можем ли мы быть только такими, какие мы есть, или в мире возможны изменения, в частности возвышение человека над самим собой? – так формулирует основной вопрос Мамардашвили. – Ведь, в сущности, к этому и сводится призвание европей- ской культуры» [2; 148–149]. Наука и является местом экспериментирования с образом человека. Характеризуя в этом аспекте культурообразующую функцию науки, Мамардашвили говорит об особых формах соприсутствия человека, где на деле срабатывает именно полнота акта, собранность всех его частей и условий в «вечно настоящем», в «вечно новом»», в ходе чего «я» понимается не в качестве идеальной точки, а как «об- ласть длительности и тождества “я”». «Это возможное Я всегда никакое, не это, не это и т. д. – пишет Мамардашвили. – И тем не менее без него… без такого “не это, не это” нельзя, очевидно, адекватно определить науку…» [2; 353]. Последняя, таким образом, является необходимым компонентом культуры, она единосущна с культурой, но в то же время есть ее ипостась, реализующая момент «нового» и «актуального».
Список литературы Концепция культуры М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорского
- Индивид и культура. Интервью с А. М. Пятигорским//Вопросы философии. 1990. № 5. С. 93-104.
- Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. М.: Прогресс, 1990. 368 с.
- Мамардашвили М. К., Пятигорский A. М. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. Иерусалим: Малер, 1982. 276 с.
- Пятигорский А. М. Философия одного переулка. М.: Прогресс, 1992. 160 с.