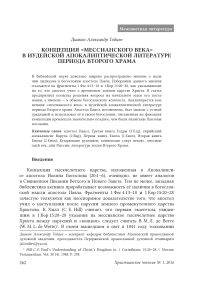Концепция «мессианского века» в иудейской апокалиптической литературе периода второго храма
Автор: Тодиев Александр
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Межзаветная литература
Статья в выпуске: 2 (67), 2016 года.
Бесплатный доступ
В библейской науке довольно широко распространено мнение о наличии хилиазма в богословии апостола Павла. Поборники данного мнения ссылаются на фрагменты 1 Фес 4:13-18 и 1 Кор 15:20-28, как указывающие на то, что апостол учил о временном земном царстве Христа. В статье предпринята попытка решения вопроса на начальном этапе его постановки, а именно - в объеме богословского контекста. Анализируется концепция «мессианского века» в иудейской апокалиптической литературе периода Второго храма. Апостол Павел, несомненно, был знаком с устной традицией и использовал её в своем богословии, письменная же фиксация концепции произошла значительно позднее, чем были написаны Павловы послания.
Апостол павел, третья книга ездры (3 езд), сирийский апокалипсис варуха (2 вар), первая книга еноха (1 енох), вторая книга еноха (2 енох), кумранские рукописи, концепция
Короткий адрес: https://sciup.org/140190323
IDR: 140190323
Текст статьи Концепция «мессианского века» в иудейской апокалиптической литературе периода второго храма
Концепция тысячелетнего царства, изложенная в Апокалипсисе апостола Иоанна Богослова (20:1–6), очевидно, не имеет аналогов в Священном Писании Ветхого и Нового Завета. Тем не менее, западная библеистика активно прорабатывает возможность её наличия в богословской мысли апостола Павла. Фрагменты 1 Фес 4:13–18 и 1 Кор 15:20–28 зачастую толкуются как неоспоримое доказательство того, что апостол учил о наступлении после парусии земного промежуточного царства Христова. К. Хилл (С. Е. Hill) считает, что первым экзегетом, увидевшим в 1 Кор 15:20–28 указание на мессианское тысячелетнее царство Христа между парусией и «концом» следует считать В. М. Л. де Ветте (W. M. L. de Wette)1. В своем вы шедшем в свет в 1841 году толковании
на Первое послание к коринфянам он излагает это мнение. К. Хилл называет далее до одиннадцати крупных западных библеистов, которые повторяли мнение де Ветте2. Например, А. Швейцер (A. Schweitzer) утверждает, что апостол Павел предполагал два блаженства (мессианское и вечное), два суда (суд Мессии в начале мессианского царства и суд Бога по его окончании) и два Царства (временное мессианское и вечное Царство Божье)3. Из более современных авторов этого мнения придерживаются Л. Дж. Крейцер (L. J. Kreitzer)4, Э. П. Сандерс (E. P. Sanders)5 и С. Тёрнер (S. Turner)6.
Доказывая наличие идеи ограниченного по времени мессианского царства в богословии ап. Павла, ученые-библеисты неизбежно приходят к выводу, что, по слову Н. Н. Глубоковского, «апостол определялся ими [апокалиптическими мотивами — д. А. Т. ] в своих творениях, откуда лишь один шаг до предположения, что у него все извлекалось из сокровищницы апокалиптических мечтаний»7. Такой вывод гипотетически допустим, поскольку концепция тысячелетнего царства достаточно широко представлена в иудейской апокалиптической литературе периода Второго Храма. Концепция облекается обычно в термины «мессианский век», или «дни Мессии». Представляется необходимым рассмотреть причины, контекст появления и возможные вариации концепции «мессианского века» в иудейской апокалиптике, чтобы поместить терминологический словарь апостола Павла в религиозно-идеологическую канву его появления.
«Новая эсхатология»
В современной западной библейской науке в отношении эпохи Второго Храма принято говорить о «новой эсхатологии»8. «Новая», или апокалиптическая эсхатология, противополагается так называемой «старой», или профетической. Ее сутью, по З. Мовинкелю (S. Mowinckel), являются: «дуализм, космическая масштабность, универсализм, трансцендентализм и индивидуализм»9. Ее фундаментальной идеей, согласно тому же автору, следует считать концепцию «двух эонов» (веков) или ми-ропорядков10. «Настоящий век» является злым, растленным (3 Езд 4:11), «исполненным неправдою и немощами» (3 Езд 4:27), «веком страданий» (2 Енох 66:5–6) и бедствий (3 Езд 7:12), преходящим, предопределенным к концу, наступление которого могут рассчитать лишь посвященные (см. 3 Езд 6:7–10). «Будущий» век будет «бесконечным» (2 Енох 65:8; 2 Вар 44:11), запредельным по характеру, «великим» (2 Енох 58:5; 61:2); там не будет «ни усталости, ни болезни, ни страданий, ни нужды, ни слабости, ни ночи, ни тьмы» (2 Енох 65:9; ср. 1 Енох 58:6). «Немногие» (3 Езд 8:1) достигшие его будут находиться в «мире» (1 Енох 58:4; 71:17; 2 Вар 51:3), «покое» (2 Вар 85:11), «радости и веселии» (2 Енох 20:4; 42:6), «великом неразрушаемом свете и в раю, великом и нетленном; и все тленное исчезнет» (2 Енох 65:10; см. также 3 Езд 7:113; 8:53; 2 Вар 44:12). Апелляция к двойственной (дуалистической) интерпретации истории возникла в ответ на проблему осуществления божественной справедливости в маккавейский период, когда концепция божественного воздаяния вступила в противоречие с загадочной реальностью, в которой праведник страдал именно вследствие своей праведности. Согласно некоторым исследователям, апокалиптическая доктрина «двух веков» возникла как прямая противоположность старой националистической иудейской мысли или как существенное продвижение по сравнению с ней. Например, В. Буссе (W. Bousset) различает два отдельных типа иудейского упования: в ранний период Второго Храма — мессианизм, и апокалиптизм — на поздних стадиях этой эпохи11. Подобным образом З. Мовинкель противополагает новую эсхатологию старой модели иудейской надежды. Главные характеристики последней суть: «политическое спасение, восстановление Израиля, которое произойдет как историческое событие в рамках настоящего миропорядка, хотя оно представлялось чудесным по своему характеру»12. Мы имеем две глубоко различные концепции будущего, одна из которых древнее и более иудейская, чем вторая13. Д. С. Рассел (D. S. Russell), продолжая ту же линию мысли, считает: «Что мы находим в пророческой письменности, так это будущая надежда на грядущее царство, связанное с династической линией Давида. Эта была картина земного царства, политического по своему характеру, национального по идеологии и военного в своем осуществлении. Несмотря на то, что оно выражало и надежду на всемирное спасение всех народностей, в существе своем это была надежда для Израиля одно-го»14. Однако исследователь далее подчеркивает, что было бы ошибочно резко разграничивать обозначенные два комплекса идей или считать их двумя последовательными фазами религиозных верований. Зачастую они представлены в комбинированном виде, так что основной акцент делается то на один комплекс, то на второй15.
На самом деле, строгое различение двух типологий иудейской эсхатологической надежды и, соответственно, узкое толкование концепции «двух веков», как служащей сугубо интересам «новой эсхатологии», не может объяснить появление в апокалиптической письменности такого компромиссного феномена, как мессианский век. Например, после почти дословного согласия с четким определением двух парадигм Мовинкеля, Рассел находит необходимым сделать существенную поправку в собственном описании «новой эсхатологии», так чтобы можно было принять во внимание свидетельства некоторых апокалиптических текстов. Он считает нужным допустить, что понятие «будущий век» (olam habba) в литературных памятниках II в. до Р. Х. фактически синонимично земному политическому царству, но принадлежит другой эсхатологической парадигме. Рассел отмечает: «На ранних стадиях апокалиптической литературы господствовало мнение, что мессианский век, или золотой век, наступит как завершающий этап мировой истории. <...>. Это царство предполагалось вечным. На данном этапе письменности ее авторы не были заинтересованы чем-либо, что могло лежать за пределами самого царства. Оно самое и было концом. Оно виделось кульминацией истории, когда все благословения Божии, как материальные, так и духовные, становились их достоянием. Оно представлялось религиозным и политическим завершением их национальной истории. Картина этого грядущего царства была идеализирована, тем не менее, оно существенно принадлежало этому миру. Так как царство было вечным, или неизмеримой продолжительности, оно на данной стадии фактически было равнозначным «будущему веку», хотя сам термин появляется в более поздних литературных памятниках»16.
Таким образом, не представляется возможным говорить о резком различии между двумя парадигмами иудейской эсхатологической надежды в содержательном и хронологическом аспекте. Попытка строгой систематизации религиозного мышления была бы также ошибочна. Как отмечал протоиерей Александр Смирнов, не следует представлять себе воззрения апокалиптиков совершенно законченными и сформировавшимися в определенную систему во всех подробностях. «Но вернее, — продолжает автор, — представлять себе дело так, что авторы апокалипсисов часто только намечали себе вопросы, но в решении их шли ощупью, допуская некоторые противоречия и несообразности. Таким тяжелым вопросом был для них и вопрос о том, в каком отношении стоит мессианское Царство к жизни будущего века»17.
Мессианский век в рамках доктрины «двух веков»
Как подчеркивает Э. М. Кодилл (E. M. Caudill), феномен апокалиптики целиком связан с надеждой на установление Царства Божия, когда Бог спасет Свой мир18. В некоторых литературных памятниках это царство понимается как реставрация израильского государства со всеми вытекающими отсюда последствиями; в других текстах, вдобавок к установлению промежуточного национального царства, предусматривается последнее и окончательное Царство Божие. Однако это не означает, что национальное царство (ограниченная по времени мессианская эра) входит в антиномию с финальным царством, или не принадлежит в существе своем будущему веку. Как далее отмечает Э. М. Кодилл: «Во втором случае ожидаемое эсхатологическое будущее само разделено на две самостоятельные части»19. Апокалиптическая письменность периода Второго Храма предоставляет достаточно примеров, подтверждающих обе точки зрения. Обратимся к примерам, дабы сказанное стало очевидным20.
Предварительно следует отметить, что будущая надежда Израиля выражалась в мессианизме, как личностном, когда присутствует Мессия как Божий посланник, так и безличностном — вера в блаженное царство Израиля, где Сам Бог управляет Своим народом. Тем не менее, будет неверно говорить о резком разграничении двух форм мессианизма, так как в период Второго Храма наблюдается поочередное преобладание одной либо другой формы. Для удобства изложения термин «мессианское царство» сохраняется в обоих случаях.
Мессианский век тождествен будущему веку
В текстах, в которых установление царства Божия приравнивается к восстановлению израильского политического царства, «будущий век» считается равным земному «мессианскому веку».
В Книге Стражей (1 Енох 6–36)21, по мысли Р. Г. Чарльза (R. H. Charles), нет упоминания Мессии, но есть мессианское царство, в котором Бог будет непосредственно рядом с людьми22. Наступление этого царства предваряется «днем великого суда» (22:10–11; 27:2–4), когда не только грешники, но и Азазел с падшими ангелами будут наказаны (10:6; 16:1; 19:1). После суда на земле наступит золотой век, и праведные «будут пребывать в жизни, пока не родят тысячу детей, и все дни своей юности и свои субботы они окончат в мире. В те дни вся земля будет обработана п справедливости, и будет вся обсажена деревьями, и исполнится благословения. Всякие деревья веселия насадят на ней, и виноградники насадят на ней; виноградник, который будет насажден на ней, принесет плод в изобилии, и от всякого семени, которое будет на ней посеяно, одна мера принесет десять тысяч, и мера маслин даст десять прессов елея» (10:17–19; 25:6), «и земля будет очищена от всякого развращения, и от всякого греха, и от всякого наказания, и от всякого мучения» (10:22). «Святое место» [Иерусалим?] с храмом вечного Царя будет центром этого царства (25:5); здесь будет посажено дерево жизни, и, «когда все будет искуплено и окончено для вечности, оно будет отдано праведным и смиренным; от его плода будет дана жизнь избранным» (25:4–5).
Автор Книги Снов, или «Апокалипсиса животных», (1 Енох 83–90)23 менее чувственно описывает блаженное царство, чем автор раздела 1 Енох 6–36. Излагая историю израильского народа, он ссылается на наказание Израиля подчинением его различным народностям в разные времена, что символически представлено образом овец, поедаемых волками, прочими дикими зверями (89:14–57) и птицами небесными — орлами, коршунами, ястребами и воронами (90:2–4). Енох передает, что Господь никак не беспокоится по поводу того, что овцы пожираются хищниками (89:58). Он вверяет их попечению семидесяти пастырей (89:59–64), но те превысили свои полномочия и умертвили гораздо большее количество овец, чем Хозяин им дозволил (89:65–69). Но затем последовал суд, и пришел «Господь овец и взял в свою руку посох гнева, и ударил в землю, так что она расторглась» (90:18) и пожрала притеснителей Израиля. «Овцам дан был великий меч» (90:19), чтобы смогли отомстить за себя. Новый земной Иерусалим станет центром обновленного государства: Господь овец «принес новый дом больше и выше того первого и поставил его на месте первого» (90:29). В него вошли живой остаток овец, все звери полевые, которые «пали ниц и воздавали честь тем овцам, и умоляли их, и слушались их в каждом слове» (90:30), рассеянные и ожившие погибшие прежде овцы (90:33). В заключении описывается появление эсхатологической мессианской фигуры: «родился белый телец с большими рогами, и все звери полевые и все птицы небесные устрашились его и умоляли его все время» (90:37). Все народы земли, достойные мессианского века, изменились и стали белыми тельцами, «и Господь овец радовался» (90:38). В целом, вся описанная картина основывается на национальных чаяниях и идеалах. Роль Мессии незначительна, он лишь первый между равными. По мысли Дж. Клаузнера (J. Klausner), под описанным мессианским царством следует понимать «будущий век»24, то есть финальное время спасения. Таким образом, национальное царство в парадигме «двух веков» является вторым и заключительным.
Если в предыдущем разделе роль Мессии не существенна, то в Притчах Еноха (1 Енох 37–71)25 Мессия занимает центральное место в мессианском веке. «Притчи являются по преимуществу мессианским документальным источником. <...> Эта уникальная книга является par excellence мессианской книгой иудаизма периода Второго Храма»26, — считает Дж. Клаузнер. Здесь явно описывается мессианское царство на преображенных земле и небе, которое будет вечным по продолжительности (45:4–5). Личность Мессии описывается в сверхъестественном колорите27
и вводится посредством шести титулов: Помазанник (48:10; 52:4), Сын Человеческий (46:3–4; 48:2; 49:1; 62:7, 9, 14; 63:11; 69:26–27; 70:1; 71:17), Избранный (40:5; 45:3–4; 51:5; 52:6; 62:1), Праведный (38:2; 53:6), Сын мужа (69:22), Сын жены (62:5).
Отличительным свойством учрежденного мессианского царства будет его двойственный характер: оно будет как земным, так и небесным (45:4–6). Членами царства Мессии будут как воскресшие праведники и святые, которые станут «ангелами на небе» (51:4), так и, надо полагать, праведники, заставшие пришествие Мессии в живых, ибо «и земля возрадуется, и на ней будут жить праведные, и избранные будут ходить и шествовать по ней» (51:5). Далее, с одной стороны, Помазанник должен быть «сильным и могущественным на земле» (52:4), а с другой стороны, место пребывания Мессии рядом с Господом духов, «и Его слава от века и до века» (49:2), «и Он был избран и сокрыт пред Ним, прежде даже чем создан мир; и Он будет пред Ним до вечности» (48:6).
В «Книге Притчей» можно усмотреть множество завуалированных аллюзий на политические и гражданские надежды Израиля. Деятельность Мессии как земного политического деятеля прослеживается довольно четко28. Важной задачей Мессии является осуществление суда над сильными мира сего: «И этот Сын Человеческий, <...> поднимет царей и могущественных с их лож и сильных с их престолов, и развяжет узды сильных и зубы грешных сокрушит. И Он изгонит царей с их престолов и из их царств, ибо они <...> не признают с благодарностью, откуда досталось им царство» (46:4–5). В 52-ой главе земные империи, с аллюзией на образы Книги пророка Даниила, сравниваются с горами из железа, меди, серебра, золота, жидкого металла и свинца. Все они будут перед Мессией, как «сотовый мед пред огнем и как та гора, которая стекает сверху на эти горы, и они окажутся слабыми под Его ногами; <...> и исчезнут и уничтожатся с лица земли, когда появится Избранный пред лицем Господа духов» (52:6, 9). Сам же Сын Человеческий будет владычествовать над всем (62:6).
Земное измерение грядущего царства подчеркивается тем, что в стихах 46:8 и 53:6 упоминаются «дома общественных собраний», которые были притесняемы, но будут вновь открыты Мессией. Э. М. Кодилл видит в этом указание на стеснения израильских синагог со стороны отечественных нечестивых правителей (саддукеев) или языческой администрации29.
Непосредственно важным для наших изысканий является тот факт, что автор «Притчей» не ожидает другого спасительного времени помимо начатого пришествием Сына Человеческого. Стихи 71:15, 17 приравнивают время Сына Человеческого к «будущему миру» (см. также: 62:14–16).
Таким образом, Притчи Еноха описывают мессианское царство вечным по продолжительности и, как объемлющее небо и землю (см. 45:4–5), космическое по своей масштабности, в котором Сын Человеческий (Мессия) играет существенную роль. Мессианский век следует непосредственно после «этого мира» (48:7) и равен «будущему веку». Автор Притчей не отказался от национальной эсхатологии в пользу новой, трансцендентной, но, как отмечает Э. М. Кодилл: «Притчи накладывают универсальные трансцендентные элементы сверх национальной надежды и возвышают национальную эсхатологию до новых степеней, одновременно обогащая ее вопросом о личной надежде»30.
Псалмы Соломона31 рисуют похожую картину мессианского царства, вечного по продолжительности, под управлением Божьего помазанника-Мессии, которому будут служить язычники. В псалме 17 грядущее мессианское царство будет установлено сильным воинственным царем из потомков Давида (17:23), который «поразит правителей неправедных», «очистит Иерусалим от язычников, топчущих город на погибель», «изгонит грешников от наследия» Божия и «соберет он народ святой, и возглавит его в справедливости, и будет судить колена народа, освященного Господом Богом его» (17:24–28). Он вновь разделит землю между коленами Израиля и языческие народы будут под его игом (17:30–32). Оружием Мессии будут нематериальные вещи: «Не понадеется он на коня, всадника и лук, не станет собирать себе в изобилии золота и серебра для войны, не станет оружием стяжать надежд на день войны» (17:37), но «уничтожит грешников властью слова своего» (17:41). Сам Мессия будет безукоризненной добродетели и «чист от согрешения, дабы править народом великим» (17:41). В псалме 18 представлена похожая модель царства, где будущий царь прямо отождествляется с Божьим помазанником, то есть Мессией (18:6). Царство Мессии будет временем исключительных благ от Господа для Израиля. Автор называет блаженными тех, кто доживет до этих времен (18:7).
Р. Г. Чарльз считает, однако, что «мессианское царство в Псалмах, по всей видимости, следует понимать, как временное, так как в них нет малейшего намека на воскресение праведников для участия в нем. Только живые праведники будут удостоены его. <...> Далее, мы можем предположить промежуточный характер мессианского царства, исходя из того, что Мессия здесь — это единственное лицо, а не ряд царей. Следовательно, продолжительность его царства совпадает по времени со временем его правления»32.
Д. С. Рассел не соглашается с Р. Г. Чарльзом, считая, что его точка зрения о временности мессианского века не подтверждается. Соглашаясь, что воскресение не упоминается в псалмах 17–18, он указывает на свидетельства из предыдущих шестнадцати псалмов, где ясным образом утверждается воскресение праведных «для жизни вечной» (3:16; см. также: 9:9; 14:2, 6)33. Таким образом, вслед за Д. Расселом можно утверждать, что в Псалмах Соломона мы имеем дело с уже известной нам картиной земного мессианского царства, вечного по продолжительности, что является проявлением старого материалистического израильского мессианизма.
Мессианский век не равнозначен будущему веку
В предыдущих текстах мессианская эра была тождественна будущему веку. Как отдельная ступень эсхатологического ожидания, она не имела самостоятельного значения, поэтому о мотиве промежуточного тысячелетнего царства не приходилось говорить. Теперь должен быть принят во внимание второй подход к означенному вопросу, согласно которому дни Мессии, как промежуточный и ограниченный по времени отрезок времени, не равнозначны будущему веку, а предваряют его и составляют самостоятельную эсхатологическую единицу.
Раввинистические источники. Использование раввинистических материалов связано с большими затруднениями в том, что касается датировки; зачастую сложно определить период, к которому относится то или иное высказывание. Другая сложность заключается в очевидной терминологической противоречивости и недостаточной разработанности концептов, относящихся к будущему времени. В иудаизме периода Второго Храма разные ступени будущего времени, в виду их абстрактности, не были четко определены, в той именно мере, в которой бы научное сознание этого желало. Отсутствие единой идеологии является прямым следствием того, что в рассматриваемый период исследователи рекомендуют говорить не об иудаизме, но об иудаизмах34. Раввинистические источники позволяют заключить, что в определенные времена мессианский век идентифицировался с будущим веком35, что, однако, не является нормой для таннайской традиции. Дж. Мур36 и Дж. Клаузнер37 пытаются проследить последовательность эволюции взглядов на данный предмет. Их соображения дают следующую общую картину: р. Акиба (ок. 135 г. по Р. Х.) объединил прежде раздельные концепты «olam habba» и «дни Мессии» в одну общую идею, по причине того, что к этому времени духовные предпосылки стали актуальнее политических; однако, два концепта окончательно слились в один только в век амораев (с III в. по Р. Х.). Дж. Мур отмечает, что в век таннаев (I–II вв. по Р. X.) идея о разделении и последовательном наступлении промежуточного золотого века и будущего века после воскресения и последнего суда стала стандартной концепцией иудаизма38, то есть нормативной для первого христианско- го века можно считать концепцию, разграничивающую «дни Мессии» и «будущий век». Показателен в этом плане трактат Санхедрин 99а, где приводится дискуссия раввинов-таннаев о продолжительности мессианского века. В общем, наблюдается следующая логика суждений: сколько Израиль был угнетаем, столько же будет блаженствовать с Мессией39. Каждая гипотеза в устах таннаев находит свое подтверждение в Писании: 40 лет (ср. Пс 89:15; 94:10), 70 лет (ср. Ис 23:15), три поколения (ср. Пс 71:5), 400 лет (ср. Быт 15:13; Пс 89:15), 365 лет (ср. Ис 63:4). Дж. Мур отмечает, что в этой экзегетической изобретательности не существовало строгой ортодоксальности, или консенсуса. Но в одном, однако, все были согласны: дни Мессии ограничены по продолжительности40.
Дж. Клаузнер утверждает, что для раввинистической литературы есть один основной критерий, безошибочно разграничивающий два концепта: «дни Мессии» и «будущий век»: «Если о «будущем веке» высказываются материалистические и политические надежды, <...>, то в этом случае «будущий век» равнозначен мессианскому веку. Наоборот, следует исключить из сферы мессианской идеи все высказывания, касающиеся воскресения мертвых, рая, геенны и нового мира, ибо все это наступает после мессианского века и относится не к мессианской идее, но к эсхатологии»41.
Таким образом, в противоположность модели, описанной в 1 Енох 6–36; 37–71; 83–90 существенная часть таннаев придерживалась мнения, согласно которому судьбы нации и отдельной личности будут решены в двух разных временных промежутках, которые вместе принадлежат эсхатологическому будущему. Представление о мессианском веке стало кульминацией иудейской национальной идеи, а поздняя иудейская эсхатология — последним шагом к индивидуализации ветхозаветной религии.
Апокалиптическая литература . Мы находим обозначенное деление и в апокалиптических литературных памятниках, в особенности же в текстах, передающих традицию позднего I в. по Р. Х., — Третья книга Ездры (3 Езд) и Вторая книга Варуха (2 Вар).
В 3 Езд временный мессианский век является первым этапом будущего эсхатологического времени; вторым этапом будет olam habba . Ключевым текстом является 3 Езд 7:28–34, 43: «Ибо откроется Сын Мой Иисус с теми, которые с Ним, и оставшиеся будут наслаждаться четыреста лет. А после этих лет умрет Сын Мой Христос и все люди, имеющие дыхание. И обратится век в древнее молчание на семь дней, подобно тому, как было прежде, так что не останется никого. После же семи дней восстанет век усыпленный, и умрет поврежденный. И отдаст земля тех, которые в ней спят, и прах тех, которые молчаливо в ней обитают, а хранилища отдадут вверенные им души. Тогда явится Всевышний на престоле суда, и пройдут беды, и окончится долготерпение. Суд будет один, истина утвердится, вера укрепится. <...> День же суда будет концом времени сего и началом времени будущего бессмертия, когда пройдет тление». Подобный сюжет описывается в отрывке 3 Езд 12:31–35. Таким образом, мы получаем следующие характеристики дней Мессии и будущего века: Мессия накажет врагов Божьих (12:33); его временное земное царство продлится 400 лет42 (7:28). Воскресение не названо условием для его начала, а умершие праведники не будут в нем участвовать, то есть оно предполагается для праведников, достигших его живыми на земле (7:28; см. также: Пс Сол 17:50). По истечении четырехсот лет Мессия и все, «которые с Ним» (7:28), умрут (7:29). Настоящий век обратится в первобытное молчание на семь дней (7:30); всеобщим воскресением и Страшным Судом откроется будущий век (7:31–34; 12:34).
Итак, в 3 Езд дни Мессии — конечная часть настоящего века; завершаясь, она дает место веку будущему. Мессианский век не время абсолютного спасения и, по выражению К. Г. Куна (K. G. Kuhn), он не есть Царство Небесное43. Тем не менее, не стоит принижать его значение для апокалиптиков, как делают В. Буссе и З. Мовинкель, отказывая ему в самостоятельном значении и называя просто отголоском предыдущих узко земных чаяний или пограничной областью44. Апокалиптики с нетерпением ждали наступления эсхатологического будущего, которое уже начиналось мессианским веком. В 3 Езд дни Мессии получают все признаки самостоятельного по значению века. Э. Кодилл считает, что в 3 Езд мы имеем дело с четкой тройной схемой: настоящий век, век Мессии, будущий век45. Более того, данный автор считает, что, так как 3 Езд начинается и заканчивается ссылками на политическое надругательство и желанное облегчение нелегкого положения дел, нельзя считать, что спасение, ожидаемое в мессианское время, не имело важного значения. Поэтому исследователь, в свете 3 Езд 6:59, 7:12–13, 14:16–17 и всей 13-ой главы, где Мессия-Сын Божий — даритель эсхатологического спасения, предполагает, что в этих отрывках сопоставление настоящего и будущего равнозначно сопоставлению настоящего века и мессианского. Автор 3 Езд, говоря о будущем веке, имеет в виду именно мессианскую политическую эру, как более актуальное и насущное чаяние в момент повторной национальной катастрофы46. В таком случае будущий век как таковой не теряется из виду, только пока постулируется лишь теоретически. Таким образом, в 3 Езд имеются два периода блаженства, а именно: мессианский и вечный.
Возникает, однако, затруднение с моментом разделения веков в общей картине событий. Например, фрагмент 3 Езд 6:7–10, по-види-мому, не предполагает какого-нибудь мессианского промежуточного времени помимо двух веков, и, следовательно, он идет вразрез с фрагментом 3 Езд 7:28–34, согласно которому будущий век наступает после временного периода дней Мессии. Отрывок 3 Езд 6:7–10 примечателен тем, что не столько сам факт разделения, сколько сроки наступления грядущего века более всего волнуют автора 3 Езд: «Тогда я отвечал: какое разделение времен, и когда будет конец первого и начало последнего?» (3 Езд 6:7). Ответ архангела Уриила на вопрос о времени наступления грядущего века имеет символический характер: «От Авраама даже до Исаака, когда родились от него Иаков и Исав, рука Иакова держала от начала пяту Исава. Конец сего века — Исав, а начала следующего — Иаков. Рука человека — начало его, а конец — пята его. О другом, Ездра, не спрашивай Меня» (3 Езд 6:8–10). Если понимать отрывок 3 Езд 6:7–10 в русле национальной эсхатологии, то он прекрасно толкуется. В таком случае, символом Исава автор изобразил современное ему политическое положение евреев. Можно видеть здесь намек на династию Ирода Великого, идумеянина, правившую Палестиной, но, кажется, гораздо справедливее толковать образ Исава или Едома как Римскую империю, которая на момент написания книги захватила весь мир, но, согласно еврейским ожиданиям, должна окончательно исчезнуть, дав место Иакову, то есть всемирной израильской империи. Еще блаженный Иероним Стридон-ский отмечал то увлечение, с каким евреи места Библии об Едоме относили к Риму. В своем комментарии на книгу пророка Малахии (1:2–5), где находится известное изречение: «Я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел» (см. типологическое толкование у ап. Павла в Рим 9:13) он говорит следующее: «Иудеи обольщают себя тщетной надеждой, что при конце мира Едом — будут римляне, а Израиль — они; что по низвержении Идумейской, то есть Римской власти, господство над миром перейдет к иудеям»47.
В раввинистической литературе фрагмент 3 Езд 6:7–10 получает эсхатологическое толкование в русле национальной модели. В Мidrash Haggadol на Быт 25:26 сказано: «Рука его [Иакова — д. А. Т.] держалась за пяту Исава», потому что не будет другого царства в мире после царства Исава, кроме одного Израиля. Потому что «за пяту» значит сразу за ним»48. В мидраше Bereshit Rabba (63:9) наблюдается похожий мотив: Исав уподобляется правящей силе (Риму), а Иаков — Израилю49. Несмотря на то, что раввинистические источники нельзя точно считать современными автору 3 Езд, они служат явным указанием на господствующие толковательные тенденции в раввинистических кругах того времени, потому что именно эта устная традиция была позже зафиксирована в талмудической литературе.
Список литературы Концепция «мессианского века» в иудейской апокалиптической литературе периода второго храма
- Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М., 2000.
- Иероним Стридонский, блаж. Творения. Кн. 15: Толкования на пророков Захарию и Малахию. Киев, 1900. 253 с.
- Ириней Лионский, сщмч. Против ересей. Доказательство апостольской проповеди. СПб., 2008. 671 с.
- Писания мужей апостольских. Рига, 1994. 442 с.
- Аржанов Ю. Н. Сирийские ветхозаветные псевдоэпиграфы: Апокрифические псалмы Давида, Апокалипсис Баруха, Сентенции Менандра/пер. с сир. Ю. Н. Аржанова. СПб., 2011. 239 с.
- Ветхозаветные апокрифы. М., 2001. 754 с.
- Смирнов А. В., прот. Книга Еноха: ист.-крит. исслед.//Православный собеседник. 1888. Ч. I-III. С. 120-140, 218-246, 397-412, 449-482.
- Смирнов А. В., прот. Псалмы Соломона//Православный собеседник. 1896. Ч. II: приложение. С. 9-73.
- Талмуд. Мишна и Тосефта/критич. пер. Н. Переферковича. Т. 1. Кн. 1-2. СПб., 1902. XIV, 415 c.
- Тексты Кумрана. Вып. 1. М., 1971. 495 с.
- Тексты Кумрана. Вып. 2. СПб., 1996. 440 с.
- Commento alla Genesi (Beresit Rabba). Torino, 1978. 929 p.
- English Babylonian Talmud [Soncino] // Сайт: Halakhah.com. URL: htp://www. halakhah.com/pd/ (дата обращения: 28.12.2014).
- Te Old Testament Pseudepigrapha/ed. J. H. Charlesworth. NY, 1983. Vol. 1: Apocalyptic Literature and Testaments. 995 p.
- Концепция «мессианского века» в иудейской апокалиптической литературе
- Sifre. A Tannaitic Commentary on the Book of Deuteronomy. New Haven, 1986.
- p
- Бабкина С. В. Сакральное и профанное время и пространство в Кумране: дис. на соиск. уч. степ. канд. ист. наук/РГГУ. М., 2003. 215 с.
- Глубоковский Н. Н. Благовестие Св. Апостола Павла по его происхождению и существу: библ.-богосл. исслед. Кн. 1. СПб., 1905. 890 с.
- Смирнов А. B., прот. Мессианские ожидания и верования иудеев около времен Иисуса Христа (от Маккавейских войн до разрушения Иерусалима римлянами). СПб., 2010. 536 с.
- Сомов А. Б., Ткаченко А. А. Еноха Вторая Книга//Православная энциклопедия. Т. 18. М., 2008. С. 475-480.
- Сомов А. Б., Ткаченко А. А. Еноха Первая Книга//Православная энциклопедия. Т. 18. М., 2008. С. 468-475.
- Швейцер А. Мистика апостола Павла//Христос или Закон? Апостол Павел глазами новозаветной науки. М., 2006. 608 с.
- Юревич Д., прот. Пророчества о Христе в рукописях Мертвого моря. СПб., 2004. 254 с.
- Юревич Д., прот. Эсхатология в кумранских рукописях//Эсхатологическое учение Церкви: материалы конференции РПЦ (Москва, 14-17 ноября 2005 г.). М., 2007. С. 126-137.
- Bailey J. W. Te Temporary Messianic Reign in the Literature of Early Judaism//Journal of Biblical Literature. Vol. 53 (2), 1934. P. 170-187.
- Black M. Te Apocalypse of Weeks in the Light of 4QEng//Vetus Testamentum. 1978. Vol. 28 (4). P. 464-469.
- Bousset W. Die Religion des Judentums im neutestamentlichen Zeitalter. Berlin, 1903. 512 s.
- Brin G. Te Concept of Time in the Bible & in the Dead Sea Scrolls. Leiden, 2001. p.
- Caudill E. M. Te Two-Age Doctrine in Paul: a Study of Pauline Apocalyptic: Ph.D. thesis. Vanderbilt University. Nashville, 1972. 376 p.
- Charles R. H. A Critical History of the Doctrine of a Future Life in Israel, in Judaism, and in Christianity or Hebrew, Jewish, and Christian Eschatology from Pre-prophetic Times till the Close of the New Testament Canon. London, 1913. 484 с.
- Collins J. J. Apocalyptic Imagination. An Introduction to the Jewish Matrix of Christianity. NY, 1984. 280 p.
- Collins J. J. Eschatology//Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls. Vol. 1-2. Oxford, 2000. Р. 256-261. Межзаветная литература
- Диакон Александр Тодиев
- Te Dead Sea Scrolls Afer Fify Years: a Comprehensive Assessment. Vol. II/ed. P. W. Flint, J. C. VanderKam. Leiden, 1999. 816 p.
- Dualism in Qmran/еd. G. G. Xeravits. London, 2010. 199 p.
- Glasson T. F. What is Apocalyptic?//New Testament Studies. 1980. Vol. 27. P. 98-105.
- Hill C. E. Paul's Understanding of Christ's Kingdom in 1 Corinthians 15:20-28//Novum Testamentum. 1988. Vol. 30 (4). P. 297-320.
- Hogeterp A. L. A. Expectations of the End. A Comparative Traditio-Historical Study of Eschatological, Apocalyptic and Messianic Ideas in the Dead Sea Scrolls and the New Testament. Leiden, 2009. 570 р.
- Judaisms and Teir Messiahs at the Turn of the Christian Era/ed. J. Neusner et al. Cambridge, 1996. 299 p.
- Klausner J. Te Messianic Idea in Israel, from its Beginning to the Completion of the Mishnah. NY, 1955. 543 p.
- Knibb M. A. Te Date of the Parables of Enoch: a Critical Review//New Testament Studies. Vol. 25. 1979. P. 345-359.
- Kreitzer L. J. Jesus and God in Paul's Eschatology. Sheffield, 1987. 293 p.
- Kuhn K. G. «Te Kingdom of Heaven» in Rabbinic Literature//TDNT. I. Logos Library Digital System. . Electronic data and program. Version 2.1 g. 2006.
- Lagrange M.-J. Le messianisme chez les juifs (150 av. J.-C. à 200 ap. J.-C.). Paris, 1909. 349 p.
- Licht J. Time and Eschatology in Apocalyptic Literature and in Qmran//Journal of Jewish Studies. 1965. Vol. 16. Р. 177-182.
- McNamara M. Intertestamental literature. Wilmington, 1983. 319 p.
- Moore G. F. Judaism in the First Centuries of the Christian Era: the Age of Tannaim. Vol. II. Peabody, 1997. 486 p.
- Mowinckel S. He Tat Cometh. Te Messiah Concept in the Old Testament and Later Judaism. Grand Rapids, 2005. 528 p.
- Russell D. S. Te Method and Message of Jewish Apocalyptic: 200 BC-AD 100. Philadelphia, 1964. 464 p.
- Sanders E. P. Paul: A Very Short Introduction. Oxford, 2001. 165 p.
- Sanders E. P., Davies M. Studying the Synoptic Gospels. London, 1992. 374 p.
- Stone M. E. Fourth Ezra: a Commentary on the Book of Fourth Ezra. Minneapolis, 1990. 496 p.
- Stone M. E. Features of the Eschatology of IV Ezra. Atlanta, 1989. 303 p.
- Turner S. Te Interim, Earthly Messianic Kingdom in Paul//Journal for the Study of the New Testament. Vol. 25 (3), 2003. P. 323-342.
- Volz P. Die Eschatologie der jüdischen Gemeinde im neutestamentlichen Zeitalter. Tübingen, 1934. 458 p.