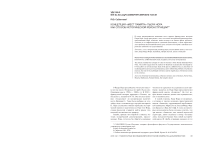Концепция "мест памяти" Пьера Нора как способ исторической реконструкции
Автор: Сабанчеев Рустам Юнусович
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: In memoriam
Статья в выпуске: 1 (43), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается концепция «мест памяти» французского историка Пьера Нора. Автор рассуждает о том, что способ исторической реконструкции, предложенный Нора, позволяет иначе взглянуть на многие факты прошлого, очистить их от мифологизации и излишней политизации, а также переосмыслить проблемы коллективной памяти, роль личности в истории и значение исторических событий в ее существовании.
Историческая реконструкция, коллективная память, места памяти, пьер нора, морис хальбвакс, патрик хаттон, школа "анналов"
Короткий адрес: https://sciup.org/170175752
IDR: 170175752 | УДК: 165.5
Текст научной статьи Концепция "мест памяти" Пьера Нора как способ исторической реконструкции
О Пьере Нора российскому читателю известно не так много. Несколько его работ были опубликованы еще в 1990-х - 2000-х гг. В 2010 г. французский историк приезжал в Россию, где выступил с лекцией в РГГУ. Она носила название: «Существует ли историческая идентичность Франции?». Тема была выбрана не случайно, ведь в основном круг научных интересов П. Нора составляют именно проблемы исторической памяти и идентичности. При этом Нора, словно философ, старается найти рамки этих понятий, исследовать их природу.
Однако, прежде чем перейти к анализу методов исторической реконструкции, предложенных Нора, хотелось бы обратить внимание читателя на серьезную исследовательскую проблему: является ли Пьер Нора представителем французской школы «Анналов»? На этот вопрос можно ответить двояко: как отрицательно, так и положительно.
С одной стороны, Пьер Нора не медиевист, в отличие от других основных представителей школы «Анналов»: средневековой проблематикой занимались Марк Блок и Люсьен Февр, Фернан Бродель и Жак Ле Гофф. К тому же некоторые исследователи были склонны считать, что эра школы «Анналов», как единой целостной структуры, давно подошла к концу. Осталась лишь методологическая база новой исторической науки. Ж. Дюби, к примеру, намекал на это в одном из своих выступлений, когда говорил, что под влиянием М. Фуко и волнений 1968 г. историческая наука во Франции вновь стала интересоваться исключительно политикой. И вместе с тем в конце 1980-х гг. Дюби выделил три перспективных направления исследований: вспомогательные исторические дисциплины, история исторической науки и археология.
С другой же стороны, Пьера Нора можно считать полноправным наследником традиции французских анналистов. Для обоснования этого тезиса есть ряд аргументов, связанных с историей течения. Как известно, третье поколение школы «Анналов» нарекло себя «новой историей», «не афишируя разрыва с поколением Броделя-Лабрусса, подчеркивая, что они по-прежнему заняты написанием «тотальной истории» [5, с. 48]. Именно с этим поколением школы современники связывают имя Пьера Нора. И дело не только в методологии исследования. Здесь необходимо коснуться биографии ученого, ведь его жизненный путь неразрывно связан с той интеллектуальной эпохой, когда французская историография переходит на новый уровень.
У Пьера Нора была серьезная издательская карьера. Еще 1965 г. он устроился работать в знаменитое издательство «Галлимар», которое тогда было представлено на рынке в основном художественной литературой. В последующие году Нора занимался развитием сектора социальных наук. Выполняя эту работу, он практически создал две важные коллекции: «Библиотеку гуманитарных наук» в 1966 г. и «Библиотеку историй» в 1970 г. Именно в «Библиотеке историй» публиковались представители третьего поколения школы «Анналов»: Эммануэль Ле Руа Ладюри, Жорж Дюби и Жак Ле Гофф. Помимо них в издательстве выходили работы и других видных мыслителей эпохи, к примеру, Мишеля Фуко. Пьер Нора участвует в издании ряда коллективных работ. Одна из них - «Эссе эгоисторий» (1987 г.), в которой он выступил в качестве редактора. На ее страницах представлены воспоминания о жизни и профессиональном пути представителей третьего поколения школы «Анналов» и других французских историков.
Практически параллельно этому проекту - с 1984 по 1992 гг. - осуществляется исследование, о котором как раз и пойдет речь в нашей статье. Оно носит название «Места памяти». Проект состоял из 7 томов и насчитывал около 6000 страниц текста. В его создании прини мали участие более сотни ученых. Однако этот монументальный труд характеризует не только Пора-издателя, но и Пора-мыслителя. Он стал идейным вдохновителем этого исследования, разработав весьма оригинальный подход к пониманию многих феноменов, в их числе - коллективная память, история и идентичность. Историк Патрик Хаттон очень точно называет этот альманах «руководством для зондирования глубинных структур национальной памяти Франции» [10, с. 348].
Что же такое «места памяти»? И почему проект «мест памяти» весьма актуален для современных отечественных гуманитарных дисциплин? Прежде чем ответить на эти вопросы, необходимо рассмотреть причины возникновения самой концепции, предшествовавшие вызовы, а также те интеллектуальные веяния, которые оказали влияние на Пьера Нора.
Французский ученый не всегда однозначно относился к своему ремеслу. По мнению Пьера Нора, историку во Франции всегда принадлежала роль руководителя национального сознания - точно также, как в Германии эту роль всегда играли философы. Однако в итоге это заявление оказалось весьма противоречивым, поскольку в одном из своих интервью Нора уверенно заявляет, что множество причин привело к тому, чтобы роль историка во Франции изменилась. Если еще полвека назад «быть историком» означало интересоваться событиями отдаленного прошлого, например, связанными с Новым временем, Средневековьем или античностью, то сегодня «совершенно очевидно, что общественный интерес, социальный заказ, да и сами историки все больше ориентируются на современный период» [8, с. 76]. Таким образом, историки утрачивают роль «хранителей прошлого» и уже больше не являются его монополизаторами. Напротив, сегодня само соотношение между историей и памятью меняется и поэтому прошлое «принадлежит многим людям, начиная с тех, кто пережил недавние события, и особенно тех, кто пострадал от них» [8, с. 76].
Изменяющееся соотношение между историей и памятью и побудило Нора создать свою концепцию «мест памяти». В одной из своих работ он проводит череду различий между этими понятиями, разделяя их. По словам Нора, память изначально представляет собой субъективную операцию: «В отличие от истории память - это эмоциональное переживание, связанное с реальным или воображаемым воспо- минанием и допускающее всевозможные манипуляции, изменения, вытеснения, забвения» [8, с. 75]. История, напротив, операция интеллектуальная. Прошлое здесь реконструируется на основе следов.
В рамках своей теории Нора определяет память как «жизнь», носителями которой выступают социальные группы, это всегда «актуальный феномен». История, напротив, представляет собой проблематичную и неполную реконструкцию или репрезентацию прошлого [7, с. 20]. На самом же деле, антагонизм истории и коллективной памяти возник намного раньше, а именно - в XIX в. с появлением профессиональной исторической науки. Об этом пишет культуролог Аллейда Ассман: «Для всех более ранних форм историописания характерно то, что они осознавали себя как разновидность воспоминания, как сохранение памяти» [1, с. 26]. Это было необходимо, например, для легитимизации генеалогии правящей династии.
В этой дихотомии памяти и истории, предложенной П. Нора, можно проследить еще одну линию преемственности, теперь уже не историческую, а скорее мировоззренческую. Впервые подобным образом историю и память разделил ученик Э. Дюркгейма, философ и социолог Морис Хальбвакс. Кстати, он был членом редакционного комитета журнала «Анналы» еще при первом поколении школы. Однако знаменит он далеко не своими связями с представителями новой исторической науки. Все дело в том, что Морис Хальбвакс скорее был объектом критики: «Марк Блок указывал Морису Хальбваксу, основоположнику исследований памяти, что понятие «Коллективной памяти» метафорично, а потому ложно. Подобная метафора порождает представление, будто коллектив «обладает» памятью точно так же, как памятью «обладает» индивид» [2, с. 15]. Между тем из-под его пера вышла целая серия работ, посвященных проблематике коллективной памяти. Автор интерпретирует ее как совокупность представлений о прошлом, которые разделяют члены социальной группы. При этом Хальбвакс тоже указывает как минимум на несколько причин того, почему коллективная память и история (словосочетание «историческая память» Хальбвакс вовсе считает неудачным) не совпадают друг с другом. Коллективную память отличают непрерывное развитие (отсутствуют строгие «разделительные черты» [9], которые характерны для истории) и множественность (историю Хальбвакс понимает как нечто «единое»).
Однако если для Хальбвакса изучение коллективной памяти и истории - вещи несопоставимые, то для Пьера Нора - напротив. Это замечает французский историк Франсуа Артог. По его мнению, Пьер Нора задумал примирить память и историю, решив при этом превратить исследование коллективной памяти в аналог истории ментальностей, но только для исследования Новейшего времени. Следует отметить, что «коллективная память» в данном случае понятие весьма широкое и размытое, наверняка именно поэтому Нора вводит другое, более конкретное, «предметное» - «места памяти». В его работах существует несколько дефиниций этого понятия, как прямых, так и косвенных.
Во-первых, места памяти - это «останки» прошлого и вместе с тем «места памяти - это «крайняя форма, в которой существует коммеморативное сознание в истории, игнорирующей его, но нуждающейся в нем» [7, с. 26]. Автор пытается сказать нам, что «места памяти» - это утрачиваемое нами прошлое, которое еще живо где-то в сознании социальной группы, но в скором времени может исчезнуть навсегда, а само «место памяти» превратиться в историю, которая больше не будет поддерживаться коллективной памятью. Далее автор уже прямо указывает на причину появления «мест памяти»: «Деритуализация нашего мира заставила появиться это понятие» [7, с. 26].
Нора пытается не только описать свойства «мест памяти», но и определить их ценностный аспект, и это толкование звучит в духе постмодерна. По его словам, места памяти - это то, что поддерживает сообщество разными способами, но в то же время это сообщество вовлечено в процесс трансформации и обновления: оно ценит больше новое, а не старое, будущее, а не прошлое: «Это ритуалы общества без ритуалов» [7, с. 27]. Места памяти не появляются сами собой. У них есть причина существования: они живут благодаря желанию помнить и чувству отсутствия спонтанной памяти. «Нужно создавать архивы, нужно отмечать годовщины, организовывать празднования, произносить надгробные речи, нотариально заверять акты, потому что такие операции не являются естественными» [7, с. 26]. В «местах памяти» находит убежище и «кристаллизуется» сама память.
Образность помогает Пьеру Нора выразить полноту понятия: он заключает «места памяти» в рамки метафор и пытается выразить этим утрачивающийся интерес к прошлому. «Останки», «ритуалы общества без ритуалов»,
«ценности в себе» - все это придает повествованию тревожный характер. «О памяти столько говорят, потому что ее больше нет». И все же сам проект «мест памяти» имеет определенную цель: «вернуть память под контроль историков». По мнению Патрика Хаттона, в работе Нора прослеживается почерк философа-современника: «Нора увлечен не столько исторической реконструкцией, как ее обычно понимают, сколько генеалогической деконструкцией в духе той, что популяризировал Фуко» [10, с. 351]. Нора интересны не события прошлого, а их репрезентации, то есть, по замыслу Нора, историческая реконструкция должна двигаться от настоящего в прошлое.
Под понятием «место памяти» не подразумеваются какие-либо исключительно материальны объекты. Напротив, этот термин связан с глубокой интеллектуальной традицией. Память часто изображалась и истолковывалась при помощи пространственной метафоры. К примеру, Августин Блаженный в десятой книге «Исповеди» сравнивает память с «дворцами». Возникает это представление в поздней античности. Куда сильнее пространственная метафора выражена в древних мнемотехниках, которые описала английская исследовательница Френсис Йейтс в книге «Искусство памяти». Смысл их достаточно прост: для запоминания определенного объема информации риторы и ученые мужи пользовались приемом запечатления образов в определенных пространственных объектах. Этот метод еще называют «методом локусов». Ассоциативная связь содержимого памяти с пространственными объектами, будь то географические локации, улицы, расположение комнат в здании, позволяла упорядочивать хранение знаний. В этом отношении «места памяти» Нора чем-то перекликаются с древними мнемотехниками. В них также запечатлены множественные образы, сконструированные социальными группами. Ведь главный их смысл не в том, что они отсылают к определенному моменту прошлого, а в их культурной конфигурации. Места памяти - это некий конгломерат, сложная разнородная структура представлений. Именно поэтому задача историка - деконструкция таких «мест».
Подобный подход, как нам кажется, может быть обусловлен как минимум двумя причинами: с одной стороны, необходимостью разрушения стереотипных (в плохом смысле) суждений, которые часто используются в отношении бесчисленного множества исторических событий, фигур и пространств, а с другой - борьбой с анахронизмами (которые, впрочем, могут уживаться со стереотипами).
К числу «мест памяти» Пьер Нора относит: революцию, католиков и неверующих, Марсельезу, Пантеон (в Париже), Столетие Вольтера и столетие Руссо, Похороны Виктора Гюго, Канцелярии и монастыри, «Картину географии Франции» Видаля де Ла Бланша и т.д. То есть «местами памяти» можно назвать памятники, коммеморации, территории, слова, религиозные меньшинства, пространственно-временные деления и многое другое.
«Места памяти» являются местами в трех смыслах - материальном, символическом и функциональном. Но эти модусы мест памяти весьма взаимосвязаны: «Даже место, внешне совершенно материальное, как, например, архивное хранилище, не является местом памяти, если воображение не наделит его символической аурой» [7, с. 40]. Точно так же и функциональные места, если они не наделены символической аурой, не становятся функциональными местами памяти, будь то школьный учебник или завещание. Эти три модуса всегда будто бы сосуществуют.
Этот подход хорошо проиллюстрировал в своем исследовании Мишель Винок. Его работа «Жанна д’Арк» связана с анализом памяти об Орлеанской деве. Историк приходит к выводу, что память о Жанне д’Арк представляет собой разорванную линии: «Впавшая в немилость и вырождавшаяся в период с XVI по XVIII в., она становится удивительно распространенной в XIX в.» [3, с. 239]. Более непрерывной память сохранилась в Орлеане, Домреми и Руане. В меньшей степени память о Жанне д’Арк сохранилась в Париже. В сердце Франции юная жительница Лотарингии превратилась в орудие политических битв: «Восторженная сторонница монархии, всегда приводимая в качестве примера и живого доказательства присутствия сверхъестественного в истории, априори не могла соответствовать республиканскому духу, возводящему свою генеалогию к эпохе Просвещения» [3, с. 257]. Она же стала и покровительницей ультраправых.
В каком-то смысле издание под редакцией Пьера Нора само стало «местом памяти» для Франции. К нему сегодня обращаются, скорее, как к справочнику. И тем не менее у этого проекта есть критики. Среди них - британский историк Тони Джадт, который писал: «Пьер Нора всегда твердо настаивал на том, что его проект не должен превратиться в «туристическую прогулку по садам прошлого» - однако это как раз то, во что рискует превратиться его многотомное издание» [4, с. 56]. Джадт подчеркивал, что в проекте есть важные упущения: нет статей о Наполеоне Бонапарте и его племяннике Луи Наполеоне. Само исследование носит неопределенный характер. Его можно понять только в контексте того времени и той страны, в котором оно появилось. При этом Джадт утверждал -для французских историков это было «смутное время», когда ряд течений утратили свое влияние. В их числе оказалась школа «Анналов»: она «распалась потому, что популярные в 1960-е гг. модели анализа исторического процесса, ставящие во главу угла глубокие, почти неизменные геоисторические структуры, потеряли свою притягательность в новом культурном климате следующего десятилетия» [4, с. 69].
Спустя почти 10 лет после завершения проекта «мест памяти», в 2002 г. в журнале «Transit» была опубликована статья Пьера Нора «Всемирное торжество памяти». В этой работе он дополняет свои взгляды на проблему актуальности памяти и истории, а также исторической реконструкции. Нора пишет о том, что в последние 20-25 лет наблюдаются процессы восстановления отнятого прошлого, растет число мемориальных мероприятий, музеев, и первой вступила в эпоху «воспоминания» Франция. Одной из причин этого стал кризис 1974 г. После экономического спада страна осознала утрату своих аграрных основ - крестьянства. «Это был подлинный конец “общности памяти”» [6]. На то, что память деревни жива, указывали лишь книги. К тому же на расцвет мемориальной культуры повлияли разрыв с голлистской традицией и идейный крах марксизма.
Движение памяти Нора назвал «мемориальной эпохой». Ее появление и актуальность связаны с двумя феноменами: временем и обществом. История ускоряется, из нее «выталкивается» удаляющееся прошлое, разрушается единство исторического времени. Прошлое перестает быть гарантией будущего, а настоящее сплочено с памятью. Причину начала «мемориальной эпохи» Нора видит еще и в демократизации истории. Помимо этого, смысловую инверсию претерпевает идентичность: из индивидуального это понятие становится коллективным. Теперь это слово стало категорией группы. Секрет одержимости национальной памятью заключается в переходе от исторического самосознания к социальному сознанию: «Вместо национальной идентичности - торжество социальных идентичностей» [6]. Следствием расцвета памяти стало все большее использование ее в политике, туризме и коммерческой сфере. При этом мемориальное изобилие доказывает, что «прошлое утратило единый смысл и что настоящее, наделенное историческим самосознанием, неизбежно узаконивает множественность возможных версий прошлого» [6].
Таким образом, в исследованиях Пьера Нора четко прослеживается синкретизм концепций, предложенных Морисом Хальбваксом, историками «Школы Анналов» и Мишелем Фуко. Вместе с тем Нора удается создать новую теорию и успешно реализовать проект «мест памяти». Способ исторической реконструкции, предложенный Нора, позволяет сегодня иначе взглянуть на многие факты прошлого, очистить их от мифологизации и излишней политизации. Вместе с тем изучение «места памяти» позволяет глубже понять природу коллективной памяти, роль личности и события в ней, и ее демаркацию с историей.
Список литературы Концепция "мест памяти" Пьера Нора как способ исторической реконструкции
- Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. М.: Новое литературное обозрение, 2014.
- Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. М.: Новое литературное обозрение, 2016.
- Винок М. Жанна д’Арк//Франция-память. СПб: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1999. С. 225-259
- Джадт Т. «Места памяти» Пьера Нора: Чьи места? Чья память?//Империя и нация в зеркале исторической памяти: сборник статей. М.: Новое издательство, 2011. С. 44-71.
- Дюби Ж. Развитие исторических исследований во Франции после 1950 года//Одиссей. Человек в Истории. 1991. М.: Наука, 1991. С. 48-59.
- Нора П. Всемирное торжество памяти//Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3 . -Режим доступа: http://magazines. russ.ru/nz/2005/2/nora22. html
- Нора П. Проблематика мест памяти//Франция-память. СПб: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1999. С. 17-50.
- Филиппова Е.И. История и память в эпоху господства идентичностей (беседа с действительным членом Французской Академии историком Пьером Нора)//Этнографическое обозрение. 2011. №4. С. 75-84.
- Хальбвакс М. Коллективная и историческая память//Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3 . -Режим доступа: http://magazines.mss.ni/nz/2005/2/ha2.html
- Хаттон П.Х. История как искусство памяти. СПб: Владимир Даль, 2004.