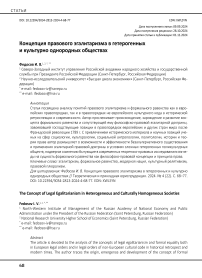Концепция правового эгалитаризма в гетерогенных и культурно однородных обществах
Автор: Федосов И.В.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 4 (22), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу понятий правового эгалитаризма и формального равенства как в европейских правопорядках, так и в правопорядках не европейского культурного кода в исторической ретроспекции и современности. Автор прослеживает происхождение, зарождение и развитие концепта формального равенства и сопутствующей ему философско-правовой эгалитарной доктрины, завоевавшей господствующие позиции в правопорядках европейских и других стран мира после Французской революции 1789 г. С привлечением исторического материала и научных позиций ученых из сфер социологии, культурологии, социальной антропологии, политологии, истории и теории права автор размышляет о возможности и эффективности безальтернативного существования и применения эгалитарной правовой доктрины в условиях сложных гетерогенных поликультурных обществ, подвергая сомнению бытующие в современных теоретико-правовых исследованиях взгляды на сущность формального равенства как философско-правовой концепции и принципа права.
Эгалитаризм, формальное равенство, модерная нация, культурный релятивизм, правовой плюрализм
Короткий адрес: https://sciup.org/14132361
IDR: 14132361 | DOI: 10.22394/3034-2813-2024-4-68-77
Текст научной статьи Концепция правового эгалитаризма в гетерогенных и культурно однородных обществах
Эгалитаризм (фр. égalitarisme, от égalité — равенство) — комплексная философско-политическая и правовая доктрина, согласно которой члены общества (граждане государства) должны быть равны между собой. В рамках настоящего исследования нас интересует в первую очередь юридическое ответвление эгалитарной теории — правовой эгалитаризм, настаивающий на полном равенстве граждан (а иногда и всех жителей, в том числе не граждан, то есть резидентов) государства в легальном поле.
Следует отметить, что в теории права то, что мы называем «правовым эгалитаризмом», как правило, именуется «формальным равенством» (во всяком случае, существует дискуссия о том, возможно ли полное отождествление двух этих понятий). В то же время важно сказать, что настоящее исследование сосредоточено не на проблемах догмы или философии права, а на идее правового эгалитаризма как понятия, относящегося к истории учений о праве и государстве и политико-правовых учений.
Стоит подчеркнуть, что мы исследуем правовой эгалитаризм не как необходимое условие действия права в формально-юридическом смысле, а как политико-правовой идеал, значение которого оценивается с точки зрения функционирования государства в определенных исторических условиях и в конкретном контексте политико-правовых идей. Нет сомнений в том, что внутри одного сообщества свободных и равных друг другу людей, реализующих по отношению друг к другу принцип взаимного правового признания, может действовать право в полном смысле этого слова, и принцип формального равенства в данном случае выступает в качестве необходимого условия его действия. В то же время сам факт существования историко-правовой науки предполагает, что «правом» мы называем не только тот порядок отношений, который претендует на соответствие некоему чаемому «идеалу» (в том числе идеалу универсального правового эгалитаризма), но и многие другие форматы общественных отношений. К примеру, наука истории права изучает многие домодерные и не европейские правопорядки, в которых концепт правового эгалитаризма отсутствует в принципе1, что, однако, не мешает исследователям называть эти модели правовыми. Чтобы правильно понять предмет исследования и осознать те особенности восприятия, которые продиктованы современными представлениями о значении правового эгалитаризма, нам необходимо изучить этот идеал с точки зрения истории и современности, уделив особенное внимание при этом реализации данного философско-правового идеала в сложных поликультурных гетерогенных обществах.
Идея эгалитаризма в социально-политическом, философском, а также правовом смысле имеет богатую историю и давние корни и берет свое начало, как считается, еще в античности, у Аристотеля (однако здесь следует подчеркнуть, что Аристотель никогда не писал о равенстве всех, кто относится к такому виду живых существ, как человек, а лишь о равенстве определенной части населения полиса). В понимании, наиболее приближенном к современному, эгалитаризм упоминается в трудах идеологов Французской революции, в частности у Ж.-Ж. Руссо2, который считал несомненным благом то, что закон (позитивное право государства) способен нивелировать «естественное неравенство», существующее между людьми, сделав их всех равными перед законом.
В современных условиях идея правового эгалитаризма стала одним из главенствующих столпов классической западной либеральной демократии3, базирующейся на господствующей идеологии прав человека, которая, в свою очередь, настаивает на универсальности этих прав вне зависимости от всех прочих, в том числе культурных, факторов. Данный тезис нашел отражение в действующей Всеобщей декларации прав человека 1948 г., в частности в ст. 7: «Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона…»4 Далее документ неоднократно утверждает тезис о «всеобщем равенстве людей без всякого различия».
Всеобщей декларации прав человека вторят национальные конституции в редакциях, принятых в периоды особенно сильного влияния западного мира, в том числе Конституция Российской Федерации 1993 г., в которой аналогичные положения провозглашены в ст. 9, пункты 1 и 2 которой последовательно утверждают принцип запрета дискриминации и правового эгалитаризма, а пункт 3 дополнительно акцентирует внимание на половом равенстве: «1. Все равны перед законом и судом. 2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации»5.
Как мы можем убедиться, правовой эгалитаризм неоспоримо господствует в актуальном политикоправовом дискурсе государств, воспринявших (или стремящихся воспринять) идеи и ценности западноевропейской либеральной демократии.
Правовой эгалитаризм говорит о равенстве людей перед законом, при этом не принимая во внимание объективные различия, существующие между представителями человеческого рода. Различия этнические, культурные, национальные, лингвистические, конфессиональные, экономические, мировоззренческие. Различия, которые сами люди, те самые носители «естественных прав и свобод», часто желают подчеркивать и культивировать, с ориентацией на которые они желают жить и о существовании которых не хотят забывать.
Доктрина правового эгалитаризма упорно отказывается замечать эти различия. С одной стороны, это объяснимо с точки зрения догмы права: действительно, в подлинном смысле слова право может функционировать только между признающими друг друга субъектами, наделенными свободой и ответственностью. Однако с точки зрения реалий истории права — нет противоречия в том, что такого рода «правовой эгалитаризм» существует в рамках определенных сообществ, но при этом в более крупном масштабе осмысливается в контексте характерного для исторических реалий правового плюрализма. Отсутствие должного внимания к данному аспекту влечет за собой массу нерешенных проблем и не меньшее количество дискуссий в научном сообществе. Существует ли альтернатива правовому эгалитаризму — по крайней мере, некая теоретическая модель, которая позволяла бы сохранить в историко-правовых и теоретико-правовых исследованиях те исторические факты, которые подчас отрицают универсальность ценности правового эгалитаризма?
Для ответа на поставленный вопрос нам в первую очередь необходимо обратить внимание на само общество в разрезе как его политической истории, так и истории политико-правовых идей. В рамках какого общества правовой эгалитаризм функционирует наиболее эффективно? Ведь именно для него, в сущности, правовой эгалитаризм и разрабатывался мыслителями эпохи Просвещения.
Концепция всеобщего равенства граждан перед законом6, игнорирующего объективные различия между этими гражданами как членами единой политии, есть порождение идей французских ученых-просветителей, которые были отражены в таких документах, как Декларация независимости США 1776 г. и французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г., с помощью которых эгалитарные идеи сравнительно быстро завоевали доминирующее положение в политико-правовом дискурсе подавляющего большинства стран мира и занимают его по сей день. Однако для того чтобы жители локальных территорий и подданные правителей превратились в граждан7, необходимо было создать гражданскую нацию. Это стало первой и самой важной целью французских революционеров, поскольку после революции Ancien Régime сменялся принципиально новым, республиканским строем, который предполагал не только изменение типа легитимации публичной власти с традиционно-монархического (божественного) на плебисцитарно-демократический8, но и перенесение суверенитета с фигуры монарха, чья власть проистекает свыше (от Бога), на коллективную фигуру «французского народа», то есть гражданской нации, хотя она на тот момент находилась еще в процессе формирования.
Таким образом, как принято считать, произошел переход суверенитета от монарха к «народу», а территориальные династические государства позднего Средневековья и раннего Нового времени начали уступать звание «классического государственного устройства» так называемым национальным государствам, постепенно оформлявшимся в поствестфальской Европе9 с середины XVII в. Эти изменения послужили началом тектонических сдвигов не только и не столько на политической карте Европы, сколько на символической карте сознания людей того времени. Это стало началом «модерного» мышления.
Модерное национальное государство, идея суверенной нации и правовой эгалитаризм как всеобщее равенство членов нации перед законом10 — эти понятия связаны между собою теснейшим образом и дополняют друг друга.
Западноевропейская либеральная демократия с ее идеями гражданского национализма, народного представительства и равенства граждан перед законом исторически базировалась на сравнительно однородном в культурном отношении социуме. В. А. Ачкасов справедливо замечает, что демократическая логика придает огромное значение этнокультурной однородности и требует ее достижения, отрицая законность многонациональной государственности (идея «единой и неделимой нации» французских революционеров)11. Б. Фараго в дискуссии об этнокультурных различиях граждан, в свою очередь, утверждает, что демократия как политический режим с трудом «”переваривает” присутствие в сердцевине суверенного народного тела иноприродной ему группы»12.
Следует подчеркнуть, что полноценная реализация «гражданского национализма», с точки зрения истории права и государства, а также учений о праве и государстве, является не установленным фактом, а идеалом. Либеральные теоретики иногда высказываются в том смысле, будто государство должно держаться от соперничающих культур на таком же огромном расстоянии, на каком оно держится от соперничающих религий. С этой точки зрения либеральное государство не должно «быть на стороне какого-то конкретного свода моральных, религиозных или культурных убеждений (а тем более проводить их в жизнь), за исключением тех, которые, как, например, верховенство права, внутренне присущи самой его структуре. Его функция состоит в том, чтобы обеспечить властный каркас и свод законов, в рамках которых индивиды вольны жить так, как они [хотят]»13. Но либеральные государства не могут так же дистанцироваться от культуры, как порой они отстраняются от религии, хотя бы только потому, что они должны пользоваться культурным инструментарием и символами для организации, отправления и передачи государственной власти. Поэтому государства не могут обеспечить нас свободными от культуры площадками для конструирования чисто политической идентичности.
Политические идентичности, даже когда их ядром является государство, в определенной мере обязательно принимают форму унаследованных культурных артефактов14.
В приведенных выше словах отчасти кроется ответ на вопрос, почему западноевропейская либеральнодемократическая политико-правовая модель не рассчитана на функционирование в условиях так называемых многонациональных (полиэтнических) государств.
С исторической точки зрения полиэтническое государственное образование15 — это, как правило, империя (если не формально, то фактически), даже если официально страна не имела или не имеет подобного статуса. Имперский центр никогда не стремится к унификации культурного пространства и приведению всего разнородного населения к единому культурному знаменателю, то есть не пытается сконструировать модерную нацию. А модерная суверенная нация — то, без чего невозможно представить себе национальное государство, продукт Нового времени. Империя требует от населения лояльности, в то время как национальное государство — эксклюзивного патриотизма, превращения условного подданного и жителя локальной территориальной общности в члена политического сообщества — гражданской нации, существующей в четко очерченных рамках государственных границ и чуть менее определенно обозначенных культурных границах.
Западноевропейская либеральная демократия и ее концептуальные модели не рассчитаны на имперское (гетерогенное, то есть неоднородное) общество и не позволяют объяснить такое общество без искажений, вызванных исторически обусловленными европоцентричными идеалами, ибо поликультурная государственность, желая того или нет, создает в рамках собственных границ более одной политической гражданской нации, таким образом сущностно дробя национальный суверенитет (хотя официально это отрицается), который в национальном государстве должен быть неделим и принадлежать единственному суверену — нации.
Взгляд, основанный на исторических идеалах Нового времени, некритически записывает все альтернативные исторические примеры в число «отрицательных» в случае, если в них отсутствует притязание на принятие в качестве идеала (совершенно не всегда реализуемого) европейских представлений о «гражданской нации» Нового времени. Но европейские представления о такой нации формировались в политикоправовой культуре государств совершенно особенного типа. Европа — далеко не весь мир, а лишь малая его часть. Наконец, формирование идеалов Нового времени сопровождалось наивными и не основанными подчас даже на личных наблюдениях и интерпретациях представлениями вроде образов «благородного турка» и «благородного дикаря» (и тот и другой могут показаться в равной степени малоубедительными с точки зрения не европоцентричного подхода, поскольку имеют мало отношения к реальному историческому материалу).
К тому же принцип этической терпимости, исторически исповедуемый в числе прочих западной либеральной доктриной, требует уважения к культурному разнообразию, а культурное разнообразие неизбежно перетекает в сферу политического, становясь фактором фрагментации общества и множа внутриполитические проблемы в геометрической прогрессии, ибо там, где есть различия, всегда будут противоречия. Противоречия же препятствуют гражданскому согласию и эффективному демократическому участию населения в политической жизни страны16.
Исторически сложное гетерогенное общество (империя) — это для сопричастных к ней всегда модель мироздания, принципиально неоднородное общество, созданное и спаянное воедино силой и волей имперского центра. Национальное государство как исторический европейский политический идеал — подобие полиса, гомогенное в культурном отношении и оттого политически относительно бесконфликтное (на контрасте с империей) общество. Граждане национального государства в идеале, с точки зрения последователей этой идеи, находятся на иной, более высокой ступени политической организации, они ощущают себя членами воображаемого сообщества17 — политической нации. В империи политическая нация отсутствует, а верховная власть, как правило, легитимируется посредством традиционно-монархического (божественного) типа легитимации18.
Главная проблема и противоречие обнаруживаются в тех случаях, когда сложное в культурном отношении государство, являющееся сущностно имперским, но объявляющее себя демократическим, пытается совместить несовместимое, отрицая собственную природу.
Правовой эгалитаризм — концепция равенства всех людей перед законом — является доминирующей точкой зрения в юридической науке и правоприменительной практике. Правопорядки современных госу-дарств19 строятся вокруг этого утверждения. Однако эта идея, прочно вошедшая в политико-правовое поле со времен Французской революции 1789 г., не может использоваться без оговорок, особенно если речь идет об историко-правовых исследованиях.
Как показывает исторический анализ, не критичная реализация правового эгалитаризма, воплощающегося в концепции всеобщего юридического равенства граждан государства перед законом, могла бы эффективно работать в условиях культурно однородного социума и сталкивалась бы с рядом неразрешимых проблем в обществе гетерогенном, неоднородном, различные сегменты которого принадлежат к разным этнокультурным группам и разделены социальными барьерами — экономическими, политическими, мировоззренческими.
Напротив, для государств типа «империя», территория и население которых не отличаются большой степенью однородности, характерна реализация правового эгалитаризма в согласии с правовым плюрализмом — применяется своего рода партикуляризм, в рамках единой политии обеспечивается намеренно неоднородное (в отношениях между группами, но не внутри групп) правовое пространство, сочетающее в себе различные правовые режимы, действующие в отношении разных социальных групп20.
Различные сегменты гетерогенного правового пространства действуют, не исключая друг друга, в некоторых случаях создавая будто бы параллельные правовые реальности21, тем не менее неизменно пересекающиеся между собою как минимум в одной точке: в средоточии публичной власти, в столице государства, где центральное правительство, подобно дирижеру, управляет этнокультурным многообразием населения, подбирая для каждой группы свой собственный правовой инструментарий. В зависимости от принадлежности к той или иной этнокультурной группе населения индивид наделялся специальным правовым статусом, содержащим в себе разный набор прав и обязанностей перед центральным правительством. Таким образом формировалась специфическая политико-правовая связь разной степени силы между гражданином и государством, являющаяся в каждом отдельном случае практически «индивидуальной»22.
В контексте конкретных исторических условий подобный подход позволял формировать правовой статус личности с учетом индивидуальных характеристик индивида23, что неизбежно влечет большую степень внимания к составляющей прав и свобод. Если отказаться от «нормативного европоцентризма» в оценках, можно предположить, что возможность «регулировать» объем прав и свобод — равно как и обязанностей — человека перед государством и обществом свидетельствовала о прогрессе на пути «гуманизации» правопорядка, но уже в другом смысле. Взамен безразличного и принципиально однобокого эгалитаризма, правовой плюрализм такого рода выступал гораздо более «гибким», мог более эффективно регулировать24 те вопросы, которые эгалитарность не способна видеть, что создает опасность наступления негативных последствий для общества и государства.
Кроме того, правовой плюрализм в конкретных исторических условиях мог выступать эффективным средством обеспечения государственной целостности и безопасности общества. Институционализация этнокультурных различий между разными группами населения25 являлась основанием для создания (воссоздания) той «иерархии идентичностей», о которой писал Д. Ливен применительно к сложному поликультурному гетерогенному социуму имперского государства26. В таком обществе игнорирование этнокультурных различий не только входит в конфликт с реальностью, но и губительно сказывается на здоровье самого социального организма27.
Осознавая, что многие исторические подходы имели смысл лишь в рамках конкретных и особенных исторических обстоятельств, тем не менее полагаю, что внимание к такому историческому опыту может быть полезным в разных ракурсах28, особенно в период, когда сугубо «европоцентричные» и «нововременные» оценки истории подвергаются пересмотру.
Подводя итог, необходимо заметить, что современная «оптика» теоретико-правовых исследований, которой зачастую пользуются ученые, не отличается беспристрастностью и представляет лишь одно из возможных видений развития права как социально-регулятивной системы в исторической ретроспекции и современности. Правовой эгалитаризм как доктрина и особенно ее воплощение в принципе формального равенства если и является идеалом и «венцом стремления», то далеко не для каждого общества и правопорядка на пути его исторического развития. Кроме того, примеры из истории права показывают, что подавляющая часть бытовавших в прошлом как европейских, так и иных правопорядков вполне правомерно рассматриваются исследователями в качестве сравнительно эффективных моделей правового регулирования жизни общества, хотя те были построены вовсе не вокруг концепции правового эгалитаризма и не содержали внутри себя стержневой идеи формального равенства граждан (подданных). Тем не менее, на мой взгляд, данная научная проблематика заслуживает пристального внимания и детальной разработки в дальнейшем.
Список литературы Концепция правового эгалитаризма в гетерогенных и культурно однородных обществах
- Андерсон Б. Воображаемые сообщества: размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. В. Г. Николаева под ред. С. П. Баньковской; вступ. ст. С. П. Баньковской. М.: Кучково поле, 2024. 416 с.
- Ачкасов В. А. Этнополитология: учебник для бакалавров / В. А. Ачкасов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2015. 495 с.
- Джераси Р. Окно на Восток: империя, ориентализм, нация и религия в России / Роберт П. Джераси; авторизов. пер. с англ. В. Гончарова. М.: Новое литературное обозрение, 2013. 548 с.
- Зорин А. Кормя двуглавого орла...: литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII - первой трети XIX в. М.: Новое литературное обозрение, 2004. 414 с. EDN:
- Кирмзе Ш. Б. Империя законности: юридические перемены и культурное разнообразие в позднеимпер-ской России / Штефан Б. Кирмзе; пер. с англ. А. Ланге. М.: Новое литературное обозрение, 2023. 432 с.
- Круз Р. За Пророка и Царя. Ислам и империя в России и Центральной Азии / Роберт Круз; авториз., испр. и доп. пер. с англ. Р. Ибатуллина. М.: Новое литературное обозрение, 2020. 408 с.
- Ливен Д. Аристократия в Европе. 1815-1914 / Пер. с англ. под ред. М. А. Шерешевской. СПб.: Академический проект, 2000. 364 с.
- Межкультурная коммуникация и проблемы аккультурации в крупном городе / Отв. ред. Р. К. Тан-галычева, Н. А. Головин и М. С. Куропятник. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2010. 237 с. EDN: VSHEEZ
- Мур-младший Б. Социальные истоки диктатуры и демократии: роль помещика и крестьянина в создании современного мира / пер. с англ. А. Глухова; под. науч. ред. Н. Эдельмана; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. 488 с.
- Почекаев Р. Ю. Государство и право в Центральной Азии глазами российских и западных путешественников XVIII - начала XX в. / Р. Ю. Почекаев; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 424 с. EDN: ZCDIOL
- Почекаев Р. Ю. Российский фактор правового развития Средней Азии: 1717-1917. Юридические аспекты фронтирной модернизации / Р. Ю. Почекаев; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. 326 с. EDN: KQHAZJ
- Регионы Российской империи: идентичность, репрезентация, (на)значение: коллективная монография / Под ред. Е. Болтуновой, В. Сандерленда. М.: Новое литературное обозрение, 2021. 304 с.
- Релятивизм в праве: коллективная монография / Под ред. И. И. Осветимской, Е. Н. Тонкова. СПб.: Алетейя, 2021. 348 с. EDN: TTIZJP
- Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. М.: КАНОН-пресс, Кучково поле, 1998. 416 с. EDN: QXFBFJ
- Сикевич З. В. Этнические парадоксы и культурные конфликты в российском обществе. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2012. 207 с. EDN: VPHDIZ
- Скиннер К. Истоки современной политической мысли: в 2 т. Т. 1: Эпоха Ренессанса / К. Скиннер; пер. с англ. А. А. Олейникова; под науч. ред. В. В. Софронова. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. 464 с. EDN: BGRCTP
- Скиннер К. Истоки современной политической мысли: в 2 т. Т. 2: Эпоха Реформации / К. Скиннер; пер. с англ. А. А. Яковлева; под науч. ред. В. В. Софронова. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. 568 с. EDN: JCXNHL
- Скотт Дж. С. Искусство быть неподвластным: анархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии / Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2017. 568 с.
- Тольц В. «Собственный Восток России»: политика идентичности и востоковедение в позднеимпер-ский и раннесоветский период / В. Тольц; пер. с англ. М.: Новое литературное обозрение, 2013. 336 с.
- ХелдД. Модели демократии. 3-е изд. / Д. Хелд; перевод с англ. М. Рудакова. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. 544 с.
- Хирш Ф. Империя наций: этнографическое знание и формирование Советского Союза / Ф. Хирш; авториз. пер. с англ. Р. Ибатуллина. М.: Новое литературное обозрение, 2022. 472 с.
- Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. / Э. Хобсбаум; пер. с англ. А. А. Васильева. СПб.: Алетейя, 2017. 308 с.
- Эрлих О. Основоположение социологии права / Пер. с нем. М. В. Антонова; под ред. В. Г. Графского, Ю. И. Гревцова. СПб.: Университетский издательский консорциум, 2011. 704 с.
- Як Б. Национализм и моральная психология сообщества / пер. с англ. К. Бандуровского; науч. ред. перевода М. Дондуковский. М.: Изд-во Института Гайдара, 2017. 520 с.
- Farago B. (1993) La démocratie et le problème des minorités nationales. Le Débat. No. 76.