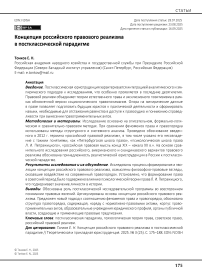Концепция российского правового реализма в постклассической парадигме
Автор: Тонков Е.Н.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 3 (25), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Постклассическая юриспруденция характеризуется интеграцией аналитического и эмпирического подходов к исследованиям, что особенно проявляется в последние десятилетия. Правовой реализм объединяет теории естественного права и эксклюзивного позитивизма в рамках обновленной версии социологического правопонимания. Опора на эмпирические данные в праве позволяет подготовить будущих юристов к практической деятельности и сформировать навыки, необходимые для отстаивания равенства в доступе к правосудию и пониманию справедливости при вынесении правоприменительных актов. Методология и материалы. Исследование основано на описательном, формально-логическом и сравнительно-правовом методах. При сравнении феноменов права и правопорядка использованы методы структурного и системного анализа. Проведено обоснование введенного в 2012 г. термина «российский правовой реализм», в том числе указано его несовпадение с такими понятиями, как «Петербургская школа права», «психологическая школа права Л. И. Петражицкого», «российская правовая мысль конца XIX – начала ХХ в.». На основе сравнительного исследования российского, американского и скандинавского вариантов правового реализма обоснована принадлежность реалистической юриспруденции в России к постклассической парадигме. Результаты исследования и их обсуждение. Исследованы процессы формирования и эволюции концепции российского правового реализма, осмыслены философско-правовые взгляды, оказавшие воздействие на современный правопорядок. Установлено, что формирование права в советский период было подвержено влиянию психологической теории права Л.И.Петражицкого, что подчеркивает значение личности в истории. Выводы. Обоснована роль постклассической исследовательской программы во всестороннем понимании правовых явлений. Артикулированы основы концепции российского правового реализма. Предложен новый подход к соотношению феноменов права и правопорядка, обоснована структура правопорядка, содержащая, наряду с нормативно-правовыми актами, корпус правоприменительных актов, образовательные учреждения юридического профиля, органы публичной власти, создающие и применяющие правовые предписания.
Постклассическая парадигма, психологическая теория права, советское право, российский правовой реализм
Короткий адрес: https://sciup.org/14133903
IDR: 14133903
Текст научной статьи Концепция российского правового реализма в постклассической парадигме
Право как базовый элемент культуры доминирующего этноса и предельное основание разумности человеческого поведения не является застывшей структурой, а изменяется с течением времени, приобретая новые качества и формы по мере развития цивилизации и совершенствования моделей человеческого общения. С тех времен, когда корабли доставляли письменные указы императоров в удаленные островные территории, прошло всего несколько столетий, — и вот уже воля суверена почти мгновенно доводится до сведения адресатов, находящихся в разных частях земного шара. Всемирный интернет и искусственный интеллект изменили догматические представления о формах юридической коммуникации, развивая в нас способности сосуществования в условиях гибридных конфликтов и правовой неопределенности.
Эмпирические и аналитические исследования в XXI в. становятся неотъемлемой характеристикой постклассической юриспруденции, важным звеном которой рассматривается правовой реализм: это направление социологической мысли объединяет сильные стороны юснатурализма и юспозитивизма (в частности, эксклюзивного позитивизма, отрицающего слияние права и морали). Изучение закономерностей, с помощью которых формируется теоретическая и практическая стороны правопорядка, возможно как в академической юриспруденции, так и в ходе эмпирических исследований юридически значимого взаимодействия людей.
«Проблема создания цельной, непротиворечивой и „работающей“ теории права актуальна в правоведении на протяжении по крайней мере двух последних столетий. Есть серьезные основания полагать, что ее окончательное разрешение принципиально недостижимо. Однако данное обстоятельство не только не останавливает, а, наоборот, стимулирует возникновение новых вариантов модернизации существующих правовых теорий, поскольку они, лишенные возможности находиться sub specie aeternitatis, должны отвечать хотя бы на запросы своего времени»1, — заявляет профессор А. В. Поляков, основатель коммуникативной теории права, соавтор программы постклассических правовых исследований. По его мнению, наблюдаются кризисные симптомы в современном российском теоретическом правосознании, что объективно «связано с дезавуацией марксистской школы объяснения политико-правовых феноменов и образовавшейся вследствие этого „черной дырой“ в теории государства и права, заделывать которую предстоит не одному поколению ученых»2.
Концепция российского правового реализма актуализирует юридическую культуру населения страны-цивилизации, способствует преодолению устаревшего понимания права как системы нормативно-правовых актов, изданных или одобренных государством. Идеи правовых реалистов развивают методологический плюрализм, включающий использование достижений психологии, социологии, антропологии, экономики, биологии и других наук. Эмпирические заключения о структуре и механизме функционирования права находят отражение в современных постклассических исследованиях.
Методология и материалы
Исследование основано, в частности, на описательном, формально-логическом и сравнительно-правовом методах. Анализируется использование введенного в 2012 г. термина «российский правовой реализм», в том числе показывается необходимость его соотношения с понятиями «Петербургская школа права», «психологическая школа права Л. И. Петражицкого», «российская правовая мысль конца XIX – начала ХХ в.». Проводится сравнение российского, американского и скандинавского вариантов правового реализма, обосновывается принадлежность реалистической юриспруденции в России к постклассической парадигме. В работе уделено внимание коллективной монографии «Постклассическая онтология права» (2016 г.)3, англоязычной коллективной монографии «Российский правовой реализм» (2018 г.)4, монографии «Правовой реализм» (2022 г.)5.
Результаты исследования и их обсуждение
Формирование концепции российского правового реализма
История формирования концепции российского правового реализма свидетельствует об ее концептуальной связи с американским, скандинавским и другими вариантами реалистической юри- спруденции6. Российская версия правового реализма исторически возникла между двумя мировыми войнами в интеллектуальном русле стремления к прагматизму и психологизму при управлении населением. Реалистический подход к правовым явлениям позволял использовать юридические нормы как инструмент в строительстве коммунизма, снижал роль «абстрактной» метафизики, показывая волевой аспект правопорядка, актуализируя значение деятельности правоприменителей для строительства новой государственности.
В отечественной науке на протяжении длительного времени под правовым реализмом подразумевались только его американская и скандинавская версии, однако теперь очевидно, что российский вариант реализма сформировался в аналогичный период и также способствовал преодолению формализма в праве. Сторонники этого направления по обе стороны океана рассматривали роль теоретиков в качестве посредников между «книжным правом» и «правом в жизни», ибо право действует как практический инструмент, являясь в значительной мере плодом опыта и интуиции, интерпретацией норм, фактов и правоотношений.
В трех вариантах правового реализма неодинаково рассматривается соотношение права и политики. Наиболее самостоятельным от политических установок право утверждалось в скандинавском концепте, несмотря на контроль государственной власти одной партией (социал-демократической рабочей партией Швеции) в середине ХХ в. Сторонники американского правового реализма настаивают на том, что основными творцами права являются судьи, умеренно подверженные политическим тенденциям своего времени. Российский вариант правового реализма имеет определенный ответ на вопрос о характере взаимодействия права и политики, знание которого упрощает жизнь постсоветского человека. Все три направления правового реализма считают право частично устойчивым по отношению к политике, их взаимовлияние изменяет существующий правопорядок.
Среди недостатков концепции американского правового реализма отмечается завышенная оценка роли бессознательных факторов судейской деятельности, практически неограниченная свобода усмотрения судей при вынесении решений. Скандинавские реалисты воспринимали право как факт, проявленный в комплексе практикуемых норм и волевых импульсов; совокупность фактов порождает правовую реальность, которую интерпретирует правоприменитель в дискурсе избранной им нормативной системы. Специфика правовых императивов проявляется в возможности использовать принуждение, детерминированное социальными условиями бытия. Право образуется в процессе развития социальной общности; благодаря наличию организованных групп и конвенциональных соглашений возникает возможность кооперации, направленной на благополучное сосуществование. Сторонники всех вариантов правового реализма, в том числе американского, скандинавского и российского7, выступают против устаревшего формализма императивных предписаний в стремительно меняющихся экономических и социальных условиях. Особенности американского и скандинавского движений в отечественной науке до последнего времени были мало изучены, а дискурс российского правового реализма долгое время не имел своего обозначения.
Термин «российский правовой реализм» начал использоваться в зарубежном научном обороте с 2012 года8, впервые на русском языке он был раскрыт в главе «Российский правовой реализм и его влияние на концепцию толкования» цитируемой монографии о толковании закона (2013 г.), содержа- щей историческое и философско-правовое обоснование феномена9. Основы концепции российского правового реализма комплексно сформулированы, наряду с правовыми теориями других соавторов, в коллективной монографии «Постклассическая онтология права» (2016 г.)10. За непродолжительное время российский вариант концептуализации правового реализма образовал новое направление социологической юриспруденции в постклассической исследовательской программе, которую разделяет значительный круг современных теоретиков права11, и частью мировых разработок по тематике реалистической юриспруденции12.
Реалистический поворот в отечественных правовых исследованиях способствовал возрастанию международного интереса к концепции российского правового реализма. Авторитетной международной публикацией по этой теме является англоязычная коллективная монография «Российский правовой реализм» (2018 г.)13, продолжившая труд польского ученого Юлии Станек ( Julia Stanek ) «Российский правовой реализм: психолого-социологическая школа права» (2017 г.)14. Авторский коллектив монографии, в который вошли, в том числе, известные российские исследователи Петербургской школы философии права Андрей Васильевич Поляков, Елена Владимировна Тимошина и Михаил Валерьевич Антонов, подготовил работы об идеях Л. И. Петражицкого и его последователей с конца XIX в. по 1930-е гг., выразив в лице польских редакторов Бартоша Брожека ( Bartosz Brożek ), Юлии Станек и Ежи Стельмаха ( Jerzy Stelmach ) мнение, что «совокупность идей о праве, обсуждавшихся в России в начале ХХ века, может быть осмыслена как единая школа юридической мысли — российский правовой реализм »15.
Отмечая фокус российских правовых реалистов на психологических и социологических гранях права, авторы вышеуказанной монографии (2018 г.) старались избежать обозначения, например, Н. М. Коркунова, С. А. Муромцева, М. А. Рейснера и многих других мыслителей как «российских правовых реалистов» или их предшественников, несмотря на общее заглавие книги. Зачастую такие понятия, как «Петербургская школа права», «Российская социологическая юриспруденция», «психологическая школа права Л. И. Петражицкого», «российская правовая мысль конца XIX – начала ХХ в.», «российская натуралистическая и феноменологическая теория права» и «российский правовой реализм», употребляются в книге синонимично, без анализа их различий16.
После 1991 г. социалистический период правовой жизни сменился новой, капиталистической эпохой, в которой функции юриспруденции на уровне психологического восприятия права оказались востребованными, в том числе для очередных революционных преобразований и переделов собственности. Сегодня Петербургская школа философии права по многим критериям ассоциируется с социологическими и психологическими подходами к осмыслению правовых явлений. Исторические результаты государственного строительства 1917–1991 гг. свидетельствуют об особенном цивилизационном пути развития России, спиралеобразная эволюция которого не прервалась преобразованием социалистического строя в государственно-монополистический капитализм, а продолжилась на устоявшихся онтологических основаниях. Российский вариант правового реализма складывался параллельно с американским и скандинавским движениями, что свидетельствует о наднациональных тенденциях, детерминированных цикличностью мировых кризисов, и общими для многих юрисдикций идеями прагматизации права, стремлению избавиться от устаревших юридических конструкций17.
Термин «российский правовой реализм» применяется для обозначения исторических закономерностей и сущностных особенностей правопорядка, сформировавшегося на территориях бывшей Российской империи после Октябрьской революции 1917 г., на основе широкого понимания источников права, концепции индивидуальной нормативной системы субъекта права, множественности и параллельности нормативных систем, психологического подхода к правоприменительной деятельности. Исследования вариантов правового реализма в России и в других странах сталкиваются с методологическими трудностями, вытекающими из разных значений термина «реализм» в гуманитарных науках, а также из наличия множественных, зачастую неоднородных в своей теоретической основе, направлений реалистической юриспруденции. Социо-психологический аспект правового реализма, одной из главных идей которого считается обусловленность права культурой общества, корреспондирует с концепцией известного советского ученого Л. И. Спиридонова: «Все правовые отношения суть отношения общественного целого, члены которого наделяются юридическими определениями только как элементы этого социального организма. Он-то и является той предпосылкой, тем субъектом, чьи стороны получают в процессе развития экономическое, политическое, правовое и т. д. выражение»18.
Правовой реализм основан на междисциплинарности и особом внимании к взаимосвязи теоретической и практической юриспруденции: изучение юридической практики позволяет уяснить действительные запросы не только модераторов правопорядка, но и его разнородных адресатов. Реалистические подходы в постклассической парадигме рассматриваются как направления теоретической мысли, способные оказывать влияние на правопорядок, что особенно актуально для общества, в котором стираются грани между юспозитивизмом и юснатурализмом, а в правовом теоретизировании исчезают разделения научных школ, утрачиваются советские традиции. Без реалистического направления современные исследования в гуманитарных науках уже не могут претендовать на всестороннее рассмотрение права.
Особенности постклассической парадигмы
Трансформация социалистической государственности из системы советов народных депутатов, руководимых правящей политической партией, в государственно-монополистический капитализм (если следовать формационной методологии) произошла совсем недавно — с точки зрения историко-правовой темпоральности. Терминология, понятийный аппарат, гносеологические подходы и другие инструменты теоретико-правовых дисциплин претерпевают изменения при возникновении новых концепций, которые, в свою очередь, вводят в научный оборот релевантный фактический материал. «История науки в целом, равно как и история науки юридической, неоспоримо свидетельствует о том, что классификация и типизация фактического материала выступает первым шагом на пути к формулированию общих законов, действию которых подчиняется природная и социальная реальность»19, — обоснованно заключает профессор Н. В. Разуваев, автор новейшего учебника римского частного права, в котором ему удалось показать не только эволюцию римского права, но и его значимость для постклассического правоведения.
Постклассическая эпоха, характеризующаяся стремительностью принятия решений и ростом социального отчуждения, вынуждает нас расходовать время и силы на распознавание источников входящих указаний (сообщений), так как авторы команд нередко выходят за пределы своих должностных компетенций, пренебрегая принципами рациональности и относимости. Интерсубъективность нормативных и правоприменительных актов делает подчас невозможным установление аутентичной воли их авторов, ибо бенефициары решений могут быть скрыты за подписью номинального руководителя. В частности, фальсификация инструкций по управлению денежными средствами становится неустранимой проблемой: сотрудники правоохранительных органов публично рекомендуют не подчиняться тем, кто по телефону представляется сотрудниками правоохранительных органов. Обязательность верификации автора приказа, проверка его полномочий, сопоставление потока входящей информации с фактами реальной жизни актуализируют значение правоприменительной стадии в общей теории права.
Догматическая юриспруденция не уделяла должного внимания интенциональности субъектов публичной власти, презюмируя идеальность их личных качеств и профессиональных навыков. Правовая доктрина прокламировала, в том числе, что советские следователи, прокуроры, судьи и другие правоприменители всемерно укрепляют социалистическую законность, способствуют пресечению противоправных действий и восстановлению справедливости. Однако общественная практика свидетельствовала о другом: проявлениях системной коррупции, злоупотреблении правом, правовом нигилизме и иных отклонениях от нормальности.
Один из основоположников постклассической парадигмы правовых исследований профессор И. Л. Честнов рассматривает теоретические новации как дополненное знание: «Постклассическая научно-исследовательская программа отличается от традиционных, классических представлений о праве, не отрицая или отбрасывая их, а включая в многогранную или многоаспектную концепцию права, прежде всего тем, что правовая реальность не есть предзаданная „природой вещей“ статичная юридическая догматика, а постоянный процесс конструирования и переконструирования (воспроизводства) тех социальных явлений и процессов, которые сегодня признаются наиболее важными и поэтому наделяются юридической значимостью»20. Запрос на обновление концептуальных представлений о правовой реальности и механизме правореализации проявился при трансформации социалистического этапа развития общества в государственно-монополистический капитализм, транзитивный период можно обозначить 1991–2000-м годами. В это наполненное юридическими изменениями время активно редактировались учебные материалы по теории права и государства, публиковались тексты с критикой марксизма-ленинизма, формировались новые концепты. Мы наблюдали стремительные преобразования во взглядах сторонников социалистического (коммунистического) пути, которые изменили лишь часть своих лекционных курсов, не затрагивая фундаментальные институты правообразования и государственного регулирования. Известно, что инерционность теоретического мышления проявляется, в том числе, в принципе максимального наследования , выражающемся в «стремлении сохранить всё, что можно сохранить. Этот принцип действует и в процессе научных революций, несмотря на происходящие при этом радикальные изменения. Следует отметить, что это не только принцип, но и объективная тенденция, поскольку он проявляет себя не только на уровне субъективных устремлений ученых, но и часто независимо от этих устремлений и даже вопреки им»21.
Нам еще предстоит ответить на вопрос о том, произошло ли за последнюю четверть века качественное изменение структуры научного мышления или сформировавшиеся в середине прошлого века гносеологические паттерны продолжают доминировать в научной среде. Начала постклассической юридической онтологии возникли уже в период позднего социализма, когда обнаружилась невозможность объяснить новые условия жизнедеятельности средствами старой парадигмы: «к введению нового нас вынуждает предмет, что сами явления, сама природа, а не какие-либо человеческие авторитеты заставляют нас изменить структуру мышления»22. Смены парадигм происходят тогда, когда обнаруживается невозможность объяснить новые условия жизнедеятельности устоявшимися средствами, когда старые концепции не выполняют прогностические и регулятивные функции. Следует принять во внимание, что «после стремительной трансформации социализма в государственно-монополистический капитализм теоретическая база, на которой строилась советская правовая наука, оказалась способной к адаптации»23.
«Основополагающие особенности постклассического социогуманитарного знания определяются осознанным отказом от номотетической традиции классического обществознания и осознанием специфики объекта и методологии социальных наук, что приводит к разрушению классического мифа о существовании некоего универсального научного метода»24, — обоснованно утверждает профессор Е. В. Тимошина, исследователь творчества Л. И. Петражицкого с мировым именем. Ее характеристика феномена постклассики заслуживает пристального внимания: «для постклассического правопонимания характерен отказ от объективации права, обусловленной натуралистической установкой классических подходов <…> В современной философии право анализируется как явление, не имеющее бытия, независимого от человека и общества. При этом само научное познание уже не рассматривается как отображение сущности объекта в адекватном ему мыслительном образе, но представляет собой протекающую в определенном социокультурном контексте деятельность по рациональному конструированию предмета познания»25.
Постклассические подходы к юриспруденции актуализируют действие новых источников права, что позволяет выявить, среди прочих, волюнтаристские, коррупционные и иерархические модели толкования. Критическое мышление становится обязательной частью исследовательского аппарата юриста, именно оно позволяет распознать в заявленных концептах авторитарные и идеологические паттерны, способствующие реинкарнации социалистических методов распределения благ и организации репрессивного воздействия.
Значение постклассических методологических подходов заключается и в том, что при их применении раскрываются действительные механизмы управления правопорядком, настоящие бенефициары законодательных новаций, эффективные способы правового регулирования. Критическое мышление, имманентное постклассическому мировоззрению, предостерегает от следования ошибочным стратегиям. Важный элемент развивающегося метода — это приобретение навыка выявлять интересы конкретных лиц, групп, страт, проявленные в навязывании реципиентам новых правил (сui prodest26).
Основы концепции российского правового реализма
Право возникает и утверждается как часть культуры доминирующих на рассматриваемой территории этносов, обычаи и традиции которых в дальнейшем дополняются нормативными актами, судебными решениями, деловыми практиками и становятся общеобязательными. Под культурой народа в широком смысле понимается совокупность результатов и способов жизнедеятельности людей, обусловленных историческим прошлым населения, геоклиматическими особенностями территории и характером взаимодействия с соседями. Право состоит не только из волеизъявления субъектов публичной власти, общеобязательная нормативность формируется и из других источников, в том числе из народного духа, правосознания и т. д. На территории СССР за несколько десятилетий XX в. сформировался мега-этнос «советский народ» с особыми свойствами, традиционные ценности которого и сегодня продолжают оказывать воздействие на правопорядки во многих государствах.
По мере развития цивилизации усложняются формы коммуникации государственных органов с населением, сегодня идеи о трех ветвях власти (законодательной, исполнительной, судебной) оказывается недостаточно для всестороннего понимания сложносоставных механизмов управления обществами. Классическая теория разделения властей претерпела существенные изменения: политические партии и их лидеры (как самостоятельные субъекты власти) продолжают возвышаться в некоторых государствах над законодательными, исполнительными и судебными органами (достаточно обратить внимание на современную структуру публичной власти Северной Кореи и Китая). В некоторых государствах религиозные иерархи доминируют над светской юрисдикцией (например, в Ватикане, Афганистане, Иране, Саудовской Аравии), что свидетельствует о необходимости учитывать значение религиозной ветви власти. Сильная президентская власть также стала самостоятельной ветвью во многих государствах: в США,
Бразилии, Аргентине, Мексике, Колумбии, Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Азербайджане, Турции, Франции, России, Беларуси и др.
Еще один аспект требует внимания для полноценного анализа государственно-правовых концепций — существование в некоторых государствах сильных гражданских обществ и авторитетных неправительственных средств массовой информации. Иногда СМИ называют «четвертой ветвью власти», что соответствует действительности в государствах с децентрализованной структурой власти, высокой вовлеченностью граждан в управление государством и свободной медиасредой (это характерно для Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии, Дании, Швейцарии, Нидерландов, Германии, Франции, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии и др.).
Постклассические исследования права изучают современные правопорядки, дополняя три «привычные» ветви власти следующими дискурсами: политическими партиями (4), религиозными иерархами (5), сильными президентами (6), а также активным гражданским обществом во взаимодействии с неправительственными СМИ (7). Особое значение приобретают процессы конвергенции публичной власти, когда одна из ее ветвей (например, исполнительная) начинает доминировать над судебной и законодательной. Необходимо обратить внимание на то, что в некоторых государствах парламентские выборы сводятся к формированию партийных списков депутатов от правящей партии, которая в очередной раз будет доминировать в законодательном органе. Трудно представить кандидата в президенты США, которого не поддержит одна из двух крупнейших политических партий этого государства. Согласно конституционному обычаю Великобритании, премьер-министром становится лидер политической партии, получившей большинство в Палате общин, способный управлять своей политической фракцией.
Между текстом нормативно-правового акта и правоприменительным решением всегда стоит интерпретатор, который делает выбор из нескольких известных вариантов решения. В акте толкования-применения реализуется интенция его автора, отражающая знания, интуицию, стремление институализировать свою процессуальную власть в карьерном росте и финансовом благополучии. Право воплощается в конкретных правоотношениях посредством интерпретации правоприменителями не только норм, но и фактов, имеющих юридическое значение. В исследованиях российского правопорядка недостаточно внимания уделяется пределам усмотрения судей, дознавателей, следователей, прокуроров и других субъектов разрешения юридических споров. Оценка прошлого и настоящего в гуманитарных науках существенно зависит от статуса, образования и типа правопонимания исследователя. Каждый ученый оснащен собственным опытом и методами исследования, но он также ориентируется на мнение референтных сообществ, поскольку правовые науки носят конвенциональный характер.
Право, реализуемое через институты публичной власти, признанное большей частью населения, принято обозначать термином правопорядок . Под правопорядком понимается состояние упорядоченности общественных отношений, регулируемых различными нормативными системами, находящимися в равновесии.
Мнения о соотношении феноменов право и правопорядок зависят от типа правопонимания субъектов, в социологическом смысле они могут восприниматься синонимично. Сложившиеся в советский период представления о структуре права, в частности, его деление на отрасли, институты и нормы, были основаны на конструировании новой правовой онтологии, радикальной сепарации «революционного права» с предшествующим нормативным порядком. Именно поэтому структура советского права была детерминирована волей политических лидеров, количество отраслей — императивно предписано, а публичное признание правового института следовало только после его одобрения представителем правящей партии. Следует учитывать, что акторы Октябрьской революции (1917 г.) не только добавили революционную целесообразность и пролетарское правосознание к списку источников права, но и фактически обозначили государственной доктриной красный террор — по отношению к несогласным с волей «партии и правительства».
По мнению известного специалиста по государствоведению профессора Н. В. Разуваева, «правопорядок является непосредственной основой любого государства — как современного, так и традиционного. Поэтому представляется необходимым всё время учитывать данный критерий при построении типологии государства»27. Дискурс историзма неизбежно присутствует в правогенезе каждого этноса, Россия как государство-цивилизация развивается поступательно, из ее прошлого невозможно элиминировать «неудобные» факты и тенденции. Природа и сущность всякого государства предопределяется системой социокультурных связей, «на формирование тех или иных типов государственности своеобразие духовной культуры, особенности коммуникации, характерные для данного общества, влияют ничуть не меньше, чем специфика правопорядка или социальной организации», — обоснованно утверждает Н. В. Разуваев, поддерживая идеи коммуникативной теории права: «правопорядок и социальная организация общества есть в конечном счете порождение существующих в нем коммуникативных отношений, определяемых свойствами духовной культуры»28.
Правопорядок определяется как система регулирования жизнедеятельности общества, в которую входят: 1) корпус нормативно-правовых актов (следует обратить особое внимание на существование ведомственных нормативных актов, которые могут обессмысливать значение законов и девальвировать их действие); 2) совокупность правоприменительных актов; 3) структурированные связи (взаимодействия) между субъектами правотворчества и создателями правоприменительных практик (например, воздействие органов исполнительной власти на законодателей с целью лоббирования своих интересов; назначение судьями бывших прокуроров, следователей, оперативных уполномоченных — для распространения обвинительного уклона в административной и уголовной юрисдикциях); 4) образовательные программы юридических учебных заведений и курсов повышения квалификации, вместе с их руководством и преподавателями; 5) научные доктрины; 6) правоприменительные доктрины; 7) правотворческие и правоприменительные институты, включая законодательные органы, суды, следственные органы, иные силовые ведомства, места ограничения и лишения свободы; особое значение имеют процессуальные иммунитеты и статусный авторитет сотрудников (в том числе уважение к судьям, сотрудникам полиции, следственного комитета, органов государственной безопасности); 8) юридические практики, которые могут неодинаково интерпретироваться противоборствующими участниками правоотношений (например, укоренившиеся модели фальсификации доказательств, пытки, использование человеческого страха, голода, боли, психологических страданий, иные формы реализации профессиональных компетенций).
Кросс-коммуникации и взаимосвязи (взаимозависимости) между институтами правопорядка оказывают прямое воздействие на правотворческую и правоприменительную доктрины, на принятие нормативных и казуальных актов, вынесение конвенционально детерминированных решений. Механизмы реализации права являются частью структуры правопорядка, процесс воплощения нормативных предписаний в поведение субъектов принято делить на четыре формы: соблюдение , исполнение , использование , применение . В кратком изложении использование права направлено на осуществление правомочий субъекта, оно может быть активным и пассивным; исполнение предполагает активные действия субъекта по выполнению обязывающих предписаний, а соблюдение — пассивное воздержание субъекта от совершения действий, находящихся под запретом. К применению права в рассматриваемой классификации относится властная деятельность субъектов публичной власти по рассмотрению юридических споров.
Попытка отделения права как корпуса нормативных текстов от процессов внедрения этих текстов в жизнь (правоприменения) была характерна для социалистического периода, когда в структуру права входили лишь отрасли, институты и нормы. Авторитетный теоретик С. С. Алексеев в ранний период творчества обосновывал удобную для социалистического права легистскую концепцию управления, в которой создателем всего нормативного массива становилось государство: «<…> как бы ни была сложна иерархия структур в праве, ее стержнем является главная структура, выражающая строение права, его дифференциацию на нормы, институты, отрасли»29. Однако для понимания механизмов воздействия права на социум важны не столько сами нормы, сколько их действенность, верифициру- емая через анализ правоотношений в разных сферах жизнедеятельности. Российские законодатели в последние годы выдают обществу более 600–700 законов в год только на федеральном уровне: такое количество новаций правовая система не в состоянии акцептировать; население не способно следить за изменениями, не действует «правило признания», очевидное современным юристам. Растет количество субъектов, находящихся в режиме «дискоммуникации», формируется публичный институт «непризнания», правила которого приобретают юридические черты30. Законотворцам необходимо учитывать, что только публичное право познается через запреты определенного поведения, посредством создания новых диспозиций и процедур ответственности за их совершение, но сфера частного права основана на свободе договоров, их добровольном исполнении и разрешении споров без использования принудительной силы государства. Представление о каждом новом законе как благе для всех — не соответствует социальным реалиям, ибо некоторые законодательные новации могут восприниматься адресатами расширительно, как, например, запреты на критику, на поиск информации, на высказывание альтернативного мнения и т. п.
Постклассический подход к пониманию действующего права важен, в том числе, для подготовки современных правотворцев: авторы создаваемых и изменяемых норм обязаны учитывать, как их новации будут уясняться, разъясняться и применяться в дальнейшей практике. Понимание права в постклассической парадигме расширяется до действия всех элементов правопорядка в их взаимосвязи. В XXI в. интерпретатору становится труднее выявлять интерсубъективную волю законодателя, которая нередко преподносится как удовлетворение потребности граждан. Для установления выгодоприобретателей необходимо знать, кто был инициатором законопроекта, кто его лоббировал, чьи ведомства давно готовы эффективно использовать новые нормы, какие юридические средства сочтет оптимальными правоприменитель, в чем заключается его профессиональный и личный интерес, какие страты населения будут ограничены в правах, чья деятельность в результате нововведений окажется за гранью закона.
Правоприменение — это не просто субсумпция, т. е. подведение фактической ситуации под общие условия нормы, а базовый элемент культуры населения (совокупности этносов), характеризующий способ и результат организации социальной деятельности человека, процесс нахождения баланса между частным и общественным, между своими правами и имманентными им обязанностями других лиц. Общечеловеческая трудность оценки права заключается и в том, что интерпретации норм, фактов, правоотношений не всегда будут совпадать у истца и ответчика, у прокурора и адвоката, у насильника и жертвы, у кредитора и должника, у государства и гражданина. Исходя из расширительного представления об объекте толкования права, мы учитываем не только свод законодательных актов, но и весь спектр нормативности публичных и частных структур, которая (многоуровневая, разнонаправленная нормативность) воздействует на практики применения норм к конкретным юридическим спорам.
Выводы
Концепция российского правового реализма стала неотъемлемой частью постклассической научно-исследовательской программы. Ее целостность проявилась в наличии критического аспекта по отношению к некоторым догматическим советским представлениям, в способности последовательно разъяснять преимущества нового подхода к пониманию современных правовых явлений. Преемственность нового знания, системность и встроенность в уже существующие концепции правового реализма соответствуют принципу следования международному юридическому опыту: эти качества позволили новаторской концепции стать частью мировых разработок по тематике реалистической юриспруденции.
Исследованием подтверждено, что в постклассическом правопорядке трудно добиться внеконтекст-ного и внеиерархического толкования, каждый акт правоприменения будет следовать предшествующим практикам в большей степени, нежели нормативно-правовым актам и абстрактным принципам законности, разумности, справедливости. Знание механизма функционирования правопорядка, отраженное в исследовании, позволит рационально объяснять воспроизводимую юридическую практику, преодолевать экзистенциальные драмы, возникающие от непонимания сущностных и ситуативных оснований юридических споров.
Реалистическая концепция права рассматривается в качестве эффективного способа уяснения юридической действительности, становясь методологической основой для целенаправленного воздействия на правопорядок и создания проектов будущих решений. Принципиальная простота и понятность концепции повышает ее эвристические функции и предсказательные возможности, в том числе дает операционную модель функционирования всех ветвей власти и элементов структуры правопорядка.
Среди выводов следует отметить расширение представлений о степени имеющейся свободы в принятии решений у различных акторов права, актуализацию интенциональности поведения правотворцев и правоприменителей. Реалистические подходы к решению конкретных юридических задач сформировались в эпоху строительства советской государственности, затем, в середине ХХ в., они укоренились в социалистическом праве, эволюционировали в течение многих десятилетий, сегодня их использование продолжается в постсоветском правопорядке.