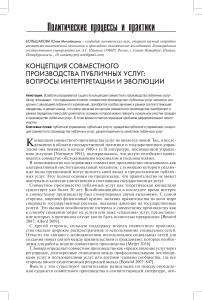Концепция совместного производства публичных услуг: вопросы интерпретации и эволюция
Автор: Большакова Юлия Михайловна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 5, 2021 года.
Бесплатный доступ
В работе раскрывается сущность концепции совместного производства публичных услуг. Автор показывает, что содержание понятия «совместное производство» публичных услуг менялось синхронно с эволюцией публичного управления, приобретая особое звучание в рамках соответствующей парадигмы, и делает вывод, что новое звучание концепция совместного производства приобретает в рамках парадигмы new public governance, в рамках которой можно говорить о реальном участии граждан в производстве публичных услуг. В то же время остается серьезная проблема деформализации такого участия.
Публичное управление, публичная услуга, парадигма публичного управления, концепция совместного производства публичных услуг, удовлетворенность качеством публичных услуг
Короткий адрес: https://sciup.org/170191676
IDR: 170191676 | DOI: 10.31171/vlast.v29i5.8536
Текст научной статьи Концепция совместного производства публичных услуг: вопросы интерпретации и эволюция
К онцепция совместного производства услуг не является новой. Так, в исследованиях в области государственной политики и государственного управления она появилась в начале 1980-х гг. В литературе, посвященной управлению услугами [Normann 1991], подчеркивалось, что услуги неизбежно производятся совместно обслуживающим персоналом и пользователями.
В экономических исследованиях совместное производство описывалось как альтернативный институциональный механизм, с помощью которого различные виды организаций могут вносить свой вклад в предоставление публичных услуг. Этот подход основан на предпосылке, что правительство не может выступать в качестве единственного поставщика государственных услуг.
Совместное производство публичных услуг как теоретическая концепция существует уже более 30 лет. Возобновившийся в последнее время интерес к совместному производству был стимулирован двумя явлениями. С одной стороны, мировой финансовый кризис заставил правительства во всем мире сокращать государственные расходы, оказывая давление на государственные услуги. Это вызвало возобновление интереса к совместному производству как к способу снижения затрат на услуги или даже «спасения» услуг, предоставление которых в противном случае могло быть полностью прекращено [Bovaird 2007; Alford 2009].
С другой стороны, сильную поддержку модели совместного производства оказало широкое распространение и использование социальных сетей. Отчасти это связано с возможностями использования социальных сетей для создания новых связей между правительством и гражданами, которые необходимы для работы модели совместного производства [Meijer 2016].
Т. Бовард определяет совместное производство как «предоставление услуг через регулярные, долгосрочные отношения между профессиональными поставщиками услуг и пользователями услуг или другими членами сообщества, где все стороны вносят существенный ресурсный вклад» [Bovaird 2007: 847].
Вместе с тем существуют значительные разногласия по поводу определения сущности совместного производства в соответствующей литературе, осо- бенно относительно того, что выступает в качестве результата, или «продукта»
совместного производства и какие виды деятельности следует рассматривать как часть процесса совместного производства [Alford 2009].
Отметим, что основные различия между определениями сосредоточены вокруг следующих моментов. Прежде всего, это то, кого можно считать со-производителем публичной услуги.
В ряде классификаций совместное производство относится к ситуациям, в которых пользователи услуг принимают участие в производстве и предоставлении услуг, отличая его от взаимодействия между организациями. Другие ученые поддерживают идею, что совместное производство не ограничивается пользователями услуг и может также включать другие типы акторов, таких как граждане, волонтеры или неправительственные партнеры [Alford 2014; Bovaird 2007]. Охватывая коллективную и индивидуальную перспективу совместного производства, Дж. Элфорд предлагает классификацию различных типов со-производителей в соответствии с их ролями в производственном процессе [Alford 2014]. Так, он выделяет три вида сопроизводителей: потребителей, поставщиков и партнеров. Потребители находятся в конце процесса предоставления публичных услуг и выступают в качестве сопроизводителей в своей второстепенной роли, в то время как поставщики и партнеры делают это в рамках своей основной роли.
Аспект собственно производства в концепции совместного производства публичных услуг также является во многих отношениях неоднозначным.
Некоторые ученые используют понятие «производство» для обозначения этапа предоставления услуг [Alford 2009], в то время как другие интерпретируют производство в более широком смысле, имея в виду весь цикл услуг, начиная от планирования, дизайна, управления, реализации, контроля и, наконец, до оценки деятельности [Bovaird 2005].
В соответствии с этой логикой Т. Бовэрд делает вывод, что подлинное совместное производство имеет место только тогда, когда отдельные лица и сообщество активно участвуют как собственно в процессе производства, так и в осуществлении функции предоставления услуги [Bovaird 2007]. В этом смысле использование термина «совместное производство» подразумевает, что слово «производство» не используется как синоним слова «доставка» – в этом смысле оно ближе к сотрудничеству.
Выделяют различные виды инициатив совместного производства, при этом часто подчеркивается, что местный уровень ближе к гражданам и, следовательно, потенциально более подходит для реализации совместного производства публичных услуг. В других публикациях поднимается вопрос, в какой степени различные виды услуг (например, здоровье, безопасность, окружающая среда и т.д.) могут быть более подходящими для их совместного производства [Boyle et al. 2010; Verschuere, Brandsen, Pestoff 2012].
Необходимо отметить, что концепции совместного производства по-разному интерпретируется в рамках различных моделей публичного управления. Каждая модель публичного управления построена на определенных ценностях, организационных принципах и предполагаемом наилучшем способе предоставления услуг; каждая модель назначает определенные роли получателям услуг, государственным служащим и политикам. При этом различные модели публичного управления сосуществуют и накладываются друг на друга [Benington, Hartley 2001; Hartley 2005].
Следовательно, в зависимости от обстоятельств и контекста лица, определяющие политику, и государственные менеджеры принимают решения в соответствии с той или иной концепцией управления и предоставления услуг.
Так, до конца 1970-х гг. доминирующая парадигма управления, называемая
«старым государственным управлением», основывалась на разделении политики и управления; контроль носит иерархический и бюрократический характер, основанный на правилах, формальных процедурах и нормах, которые узаконивают и регулируют административные действия [Weber 1968].
В этой парадигме правительства напрямую предоставляют услуги населению, которое выступает как «достаточно однородный», пассивный и инертный клиент публичных услуг [Hartley 2005]. Активное участие граждан здесь предполагается очень ограниченным. Причина, по которой совместное производство было предложено в качестве альтернативного решения этой традиционной модели, заключается в убеждении, что, в отличие от производства товаров, производство и предоставление услуг затруднено без активного участия получателей [Ostrom 1996: 1079]. Граждане не являются пассивными целями или бенефициарами деятельности правительства, но становятся жизненно важными элементами [Brudney, England 1983: 61; Parks et al. 1981: 1008].
При этом вклад граждан считается необходимым как в мягких услугах (образование, здравоохранение и т.д.), так и в жестких (полиция, утилизация отходов, национальная безопасность и т.д.). Следовательно, «совместное производство подразумевает сочетание производственных усилий постоянных производителей и производителей-потребителей» [Parks et al. 1981: 1002].
Реформы, проводимые в рамках нового государственного менеджмента, были направлены на повышение эффективности и качества государственных услуг и проводились с использованием логики и инструментов, вдохновленных частным сектором [Pollitt, Bouckaert, Löffler 2006].
В рамках этой модели получатели государственных услуг – это потребители, которые могут сделать выбор: например, отказаться от конкретного поставщика, если их потребности не полностью удовлетворены.
New public governance делает упор на межорганизационные отношения, сети, совместное партнерство, партисипативное управление и другие формы многосторонних отношений.
Включение в процессы управления множества субъектов, помимо государственного сектора, считается эффективным способом решения все более сложных проблем [Sorrentino, De Marco, Rossignoli 2016: 650].
В этом смысле вовлечение граждан в управление активизирует достижение общественных целей.
Совместное производство, при котором производители сотрудничают с гражданами в процессе производства публичных услуг, рассматривается как способ внедрения инноваций в предоставление услуг. В литературе о совместном производстве, посвященной общественной ценности, основное внимание уделяется совместному созданию ценности [Osborne, Radnor, Strokosch 2016: 641; Aschhoff, Vogel 2018].
Ключевой вопрос здесь: как создается общественная ценность посредством совместного производства? Как люди, которые совместно производят государственные услуги и имеют различные ценностные предпочтения, учитывают предпочтения других субъектов и заинтересованных сторон в создании общественной ценности?
Основываясь на обширном обзоре соответствующей литературы, У. Вурберг выделяет три различных типа совместного производства / совместного творчества [Voorberg et al. 2017: 183]: гражданин как соисполнитель публичных услуг; гражданин как соавтор общественных услуг; гражданин как инициатор общественных услуг.
Данная классификация определяет различные роли, которые граждане могут играть в процессе совместного создания ценностей, соответствующие различ- ным формам участия граждан в государственных инициативах. Следует отметить, что участие – один из наиболее часто используемых терминов в любом дискурсе государственной политики.
Одно из самых влиятельных направлений в литературе, посвященной гражданскому участию, – это направление, инициированное С. Арнштейн, которая считает, что любой дискурс об участии неотделим от перераспределения власти между правительством и гражданами [Arnstein 1969]. Принимая во внимание, что консультации не обязательно подразумевают перераспределение власти между правительством и гражданами [Nam 2012], участие граждан в качестве соисполнителей требует рассматривать их не как пассивных пользователей услуг, а как партнеров. Как соисполнители граждане «становятся так называ- емыми пристрастными сотрудниками… они не только предлагают идеи для создания услуги, но также время и другие ресурсы, взяв на себя часть функций по предоставлению услуг» [Fledderus, Brandsen, Honingh 2015].
Это означает, что часть ответственности за предоставление услуг передается гражданам, и это дает гражданам больше полномочий, чем в случае простой консультации. В ситуации, когда граждане выступают в качестве инициаторов услуг, соотношение сил полностью меняется в пользу граждан, т.к. в этом случае услуги разрабатываются и внедряются не для пользователей, но самими пользователями, что требует от государственных органов пересмотра их роли в процессах планирования и предоставления услуг [Bovaird, Loeffler 2012].
Т. Бовэрд описывает различные формы процесса создания ценности [Bovaird 2007], когда граждане участвуют в качестве сопроизводителей, подчеркивая, как ответственность за планирование, обслуживание может быть распределена между профессионалами (правительство) и гражданами/сообществами.
Однако совместное производство также связано с потенциальными рисками. Некоторые исследователи утверждают, что совместное производство на самом деле может просто воспроизводить существующие структуры власти и еще больше углублять социальное неравенство, потому что дисбаланс власти по отношению к ресурсам, времени и знаниям служит барьером для участия отдельных групп населения [Co-Production and Co-Creation… 2018].
Кроме того, передача большей власти гражданам также означает стирание границ ответственности и подотчетности. Наконец, хотя некоторые исследователи и практики утверждают, что совместное производство может способствовать снижению стоимости услуги, поначалу может оказаться наоборот. Организация совместного производства может потребовать дополнительных инвестиций и оказаться более дорогостоящей.
Существует множество причин, по которым граждане могут выбрать участие в совместном производстве, многие из которых аналогичны причинам, по которым они принимают участие в традиционных мероприятиях по вовлечению: например, желание изменить ситуацию в своем сообществе или сочетание различных факторов – материального вознаграждения (получение более качественного обслуживания) и внутреннего вознаграждения [Alford 2002].
Если говорить о мотивации совместного производства публичных услуг со стороны государства, то здесь она может быть более сложной и не всегда очевидной. Совместное производство требует значительных изменений в организационной и профессиональной культуре, особенно в сфере услуг, где профессиональные поставщики услуг обладают продвинутым уровнем знаний (например, услуги здравоохранения). Исследования показали, что, хотя профессионалы могут быть мотивированными «делать что-то по-другому», им часто не хватает навыков, подготовки и методов, необходимых для эффектив- ного совместного производства.
В литературе, посвященной совместному производству публичных услуг, мы часто сталкиваемся с противоречивым толкованием терминов «клиенты», «потребители» и «пользователи».
Так, по мнению Дж. Алфорда, клиенты – это те, кто получают частную ценность за услуги, предоставляемые государственными учреждениями [Alford 2002] (важно отметить, что для большинства исследователей это также определение «пользователей»). Добровольцы не получают никакой выгоды от услуг и добровольно вносят свой вклад. Следовательно, можно сказать, что и волонтеры, и клиенты являются сопроизводителями (потому что они вносят свой вклад), в то время как первые действуют бескорыстно, вторые преследуют свои собственные интересы.
Термины «клиенты» и «потребители» часто используются в частном секторе для обозначения лиц, потребляющих продукты и услуги компаний. Понятие «пользователь» не передает идею совместного участия. Другая категория людей, которую часто путают с «пользователями», – это «граждане», которые, в отличие от пользователей, действуют от имени сообщества и пытаются выразить свои чаяния посредством голосования или других механизмов политического участия, составляющих демократический процесс [Alford 2002]. По словам Элфорда, гражданин, по-видимому, больше связан с влиянием индивида в процессе разработки политики, чем с ее фактическим осуществлением. Денхардт подкрепляет слова Алфорда, указывая на то, что пользователи сосредоточиваются в первую очередь на своей собственной воле, в то время как граждане сосредоточиваются на общем благе и долгосрочных последствиях для сообщества [Denhardt, Denhardt 2015].
Как уже указывалось, содержание понятия «совместное производство публичных услуг» менялось синхронно с эволюцией публичного управления, приобретая свое особое звучание в рамках соответствующей парадигмы. При этом, учитывая, что само понятие публичной услуги сформировалось в рамках концепции сервисного государства и в рамках нового государственного менеджмента, мы можем сразу исключить из рассмотрения в указанном контексте веберианскую парадигму административного управления. Что касается нового государственного менеджмента, то на фоне исчерпанности экстенсивного направления развития публичных услуг, выход виделся в сокращении главным образом трансакционных издержек в процессе производства-потребления публичных услуг, что обусловило появление целого класса услуг, названных транзакционными. С одной стороны, это, несомненно, шаг навстречу потребителю, который приобрел, таким образом, статус важного клиента, но с другой стороны – положение потребителя, несмотря на этот новый его статус, оставалось зависимым от субъекта управления, поскольку его потребности в качестве предоставления услуг определялись сами субъектом управления на основе его собственных представлений, хотя и сформированных на основе нормы эмпатии. Иными словами, участие потребителя в производстве услуг оставалось ограниченным и сводилось к оценке этих услуг на основе показателей удовлетворенности. Другой способ влияния на качество оказываемых услуг можно сформулировать как обратную связь длинного и короткого маршрута. В первом случае речь идет об электоральной значимости оценки удовлетворенности качеством публичных услуг, а во втором – об институционализации системы подачи жалоб и предложений со стороны потребителя. Новое звучание концепция совместного производства приобрела в рамках парадигмы new public governance. Здесь можно говорить о реальном участии граждан в про- изводстве публичных услуг. Это участие приобрело разнообразные формы вза- имодействия государства с ассоциациями гражданского общества, бизнеса и т.д. Другое дело, что остается серьезная проблема деформализации такого участия. И если заинтересованность, которая, в свою очередь, определяется моти- вацией сторон, со стороны ассоциаций гражданского общества очевидна, то это далеко не во всех случаях имеет место со стороны государства. Задача решения этой проблемы представляется весьма серьезной и, в конечном итоге, сводится к развитию демократии. Возникающие здесь трудности общеизвестны. Между тем, в силу все большей актуализации эффективного управления на современном этапе, когда эффективность становится наиболее важным конкурентным фактором (превосходя подчас даже ресурсный), эволюционное решение этой проблемы, в конечном счете, представляется неизбежным.
Список литературы Концепция совместного производства публичных услуг: вопросы интерпретации и эволюция
- Alford J. 2002. Why Do Public Sector Clients Co-produce? Towards a Contingency Theory. - Administration & Society. Vol. 34. Is. 1. P. 32-56.
- Alford J. 2009. Engaging Public Sector Clients: From Service-delivery to Co-production. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 272 р.
- Alford J. 2014. The Multiple Facets of Co-production: Building on the Work of Elinor Ostrom. - Public Management Review. Vol. 16. Is. 3. P. 299-316.
- Arnstein S.A. 1969. A Ladder of Citizen Participation? - Journal of the American Institute of Planners. Vol. 35. Is. 2. P. 216-224.
- Aschhoff N., Vogel R. 2018. Value Conflicts in Co-production: Governing Public Values in Multi-actor Settings. — International Journal of Public Sector Management. Vol. 31. Is. 2. P. 775-793.
- Benington J., Hartley J. 2001. Pilots, Paradigms and Paradoxes: Changes in Public Sector Governance and Management in the UK. - International Research Symposium on Public Sector Management. Barcelona.
- Bovaird T. 2005. Public Governance: Balancing Stakeholder Power in a Network Society. - International Review of Administrative Sciences. Vol. 71. Is. 2. P. 217-228.
- Bovaird T. 2007. Beyond Engagement and Participation: User and Community Coproduction of Public Services. - Public Administration Review. Vol. 67. Is. 5. P. 846860.
- Bovaird T., Loeffler E. 2012. From Engagement to Co-production: The Contribution of Users and Communities to Outcomes and Public Value. - Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. Vol. 23. No. 4. P. 1119-1138.
- Boyle D., Coote A., Sherwood C., Slay J. 2010. Right Here, Right Now: Taking Coproduction into the Mainstream. London: National Endowment for Science, Technology and the Art. 24 р.
- Brudney J., England R. 1983. Toward a Definition of the Coproduction Concept. -Public Administration Review. Vol. 43. Is. 1. P. 59-65.
- Co-Production and Co-Creation: Engaging Citizens in Public Services (ed. by T. Brandsen, T. Steen, B. Verschuere). 2018. N.Y.: Routledge. 308 p.
- Denhardt J.V., Denhardt R.B. 2015. The New Public Service Revisited. - Public Administration Review. Vol. 75. Is. 5. P. 664-672.
- Fledderus J., Brandsen T., Honingh M.E. 2015. User Co-production of Public Service Delivery: An Uncertainty Approach. - Public Policy and Administration. P. 1-20.
- Hartley J. 2005. Innovation in Governance and Public Services: Past and Present. -Public Money and Management. Vol. 25. Is. 1. P. 27-34.
- Meijer A. 2016. Coproduction as a Structural Transformation of the Public Sector. -International Journal of Public Sector Management. Vol. 29. Is. 6. P. 596-611.
- Nam T. 2012. Suggesting Frameworks of Citizen-sourcing via Government 2.0. -Government Information Quarterly. Vol. 29. P. 12-20.
- Norman R. 1991. Service Management-strategy and Leadership in Service Business. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons. 202 p.
- Osborne S.P., Radnor Z., Strokosch K. 2016. Co-production and the Co-creation of Value in Public Service: a Suitable Case for Treatment? - Public Management Review. Vol. 18. Is. 5. P. 639-653.
- Ostrom E. 1996. Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy, and Development. - World Development. Vol. 24. Is. 6. P. 1073-1087.
- Parks R.B., Baker P.C., Kiser L., Oakerson R., Ostrom E., Ostrom V., Percy S., Vandivort M.B., Whitaker G.P., Wilson R. 1981. Consumers as Co-producers of Public Services: Some Economic and Institutional Considerations. - Policy Studies Journal. Vol. 9. Is. 7. P. 1001-1011.
- Pollitt C., Bouckaert G., Loffler E. 2006. Making Quality Sustainable: Co-design, Co-decide, Co-produce, Co-evaluate. - Report by the Scientific Rapporteurs of the 4th Quality Conference. Ministry of Finance, Finland.
- Sorrentino M., De Marco M., Rossignoli C. 2016. Health Care Co-production: Co-creation of Value in Flexible Boundary Spheres. - Exploring Services Science (ed. by T. Borangiu, M. Dragoicea, H. Novoa). 7th International Conference. Bucharest, Romania: Springer. P. 649-659.
- Verschuere B., Brandsen T., Pestoff V. 2012. Co-production: The State of the Art in Research and the Future Agenda. - Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. Vol. 23. No. 4. P. 1083-1101.
- Voorberg W., Bekkers V., Timeus K., Tonurist P., Tummers L. 2017. Changing Public Service Delivery: Learning in Co-creation. - Policy and Society. Vol. 36. Is. 2. P. 178194.
- Weber M. 1968. Economy and Society: An Outline of Interpretative Sociology. N.Y.: Bedminster Press.