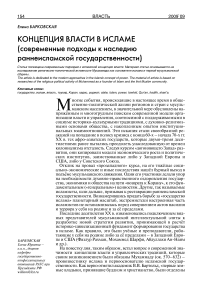Концепция власти в исламе (современные подходы к наследию раннеисламской государственности)
Автор: Барковская Елена Юрьевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 9, 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена современным подходам к исламской концепции власти. Материал статьи основывается на исследовании религиозно-политической активности Мухаммада как основателя ислама и первой мусульманской общины.
Государство, ислам, власть, таухид, коран, хадис, шариат
Короткий адрес: https://sciup.org/170165019
IDR: 170165019
Текст научной статьи Концепция власти в исламе (современные подходы к наследию раннеисламской государственности)
М ногие события, происходящие в настоящее время в общественно-политической жизни регионов и стран с мусульманским населением, в значительной мере обусловлены напряжённым и многотрудным поиском современной модели организации власти и управления, соотносимой с поддерживаемыми в социуме историко-культурными традициями, с духовно-религиозными основами общества, с накопленным опытом институциональных взаимоотношений. Эти искания стали своеобразной реакцией на попадание в полосу кризиса с конца 60-х – начала 70-х гг. ХХ в. тех афро-азиатских государств, которые двумя-тремя десятилетиями ранее пытались преодолеть унаследованную от времен колониализма отсталость. Следуя курсом «догоняющего Запад» развития, они копировали модели экономического роста и политических институтов, заимствованные либо у Западной Европы и США, либо у Советского Союза.
Отклик на провал «прозападного» курса, на его тяжёлые социально-экономические и иные последствия нашёл бурный выход в подъёме мусульманского движения. Одни его участники делали упор на необходимости духовно-нравственного оздоровления государства, экономики и общества на пути «возврата к Корану», к его фундаментальным («генеральным») ценностям. Другие, так называемые исламисты, шли дальше, призывая к реставрации раннеисламской государственности. Вознамерившись придать борьбе за «государство ислама» планетарный масштаб, экстремистски настроенная часть исламистов не останавливалась перед совершением актов насилия и террора у себя на родине и за её пределами.
Последние десятилетия ХХ в. ознаменовались подключением видных представителей мусульманской интеллектуальной элиты к разработке новой стратегии развития, принимающей в расчёт историко-цивилизационный фундамент формирования государства в исламе. Как правило, это были учёные и преподаватели, работающие у себя на родине либо за её пределами – в Западной Европе и США (Фазлур Рахман, Мохаммед Шарфи, Абдуллахи Ан-Наим и др.).
На повестку дня, таким образом, встал вопрос о современной значимости концепции власти и управленческих традиций, которые своим возникновением были обязаны Мухаммаду (ок. 570–632) – провозвестнику ислама и первооснователю исламской государственности. Как верно отметил академик В.В. Бартольд, «первые земные владыки, принявшие буддизм и христианство, были отделены несколькими столетиями от основателей религий; Мухаммад положил начало не только религии, но и государству, и ислам при жизни своего основателя пережил процесс развития, который пережил буддизм от Шакьямуни до Ашоки, христианство – от Христа до Константина Велико-го»1.
Принято считать, что трансформация мусульманской общины в государственное образование состоялась после того как возросшая враждебность языческого окружения в Мекке вынудила Мухаммада и его последователей переселиться в Медину (622 г.). Именно там мусульманская община (умма) приобрела такие атрибуты государства, как наличие территории, населения, налогообложения, административного устройства. Главное же – единение первых мусульман основывалось на «кристаллизации нового понимания Бога, которое сплотило всех тех, кто разделял его, в общность нового типа»2.
Это новое понимание воплощалось в таухиде. Иными словами, в принципе единобожия, с проповеди которого начиналось выступление Мухаммада против джа-хилийи, или «невежества», т.е. против бытовавших в Аравии языческих родоплеменных культов. Под эгидой таухида в мусульманской среде утверждалось новое представление об источнике и природе власти, о её духовно-ценностном наполнении.
Выступая как посланник Аллаха – «господина двух миров» (земного и небесного), Мухаммад, согласно одному из хадисов, возвещал: «Кто повинуется мне, тот повинуется Аллаху, тот, кто не подчиняется мне, тот не подчиняется и Аллаху». Благодаря такой постановке вопроса правление провозвестника ислама приобретало теократическую форму, поскольку именно ему были ниспосланы откровения, знание божественной истины и вверена миссия по направлению людей на правильный, т.е. прямой, путь к истине в словах, делах и в вере. Поддержанию и укреплению религиозно-политической целостности мусульманской общины служило то, что Мухаммад брал на себя ответственность за воплощение Божественного предначер- тания в жизни его последователей – мусульман. Это делало излишним появление в исламе церкви в качестве посредника между Богом и верующими, а также клира, подобного христианскому.
Благодаря «столпам веры», изложенным Мухаммадом, в жизнь мусульманской общины вводились этико-нормативные установления, которые были соотнесены с общим циклом исполнения культа и с мирскими обязанностями верующих таким образом, чтобы те имели чёткие представления об истинном благочестии, о дозволенном, запретном и греховном. Под первоочередной запрет попали ростовщический процент, а также употребление свинины, алкоголя, азартные игры и т.д. Была ограничена полигамия в рамках патриархальной семьи, по-новому отрегулирована система наследования. Однако не шло и речи о сокрушительном ударе по узам родоплеменной лояльности, которая оставалась мощной общественной силой.
Главным объектом усилий провозвестника ислама по реорганизации системы родственных связей и взаимоотношений являлась семья. С именем Мухаммада связан кардинальный по тем временам пересмотр обычаев, касавшихся положения женщин, детей, отчасти и рабов. Был наложен запрет на умерщвление новорождённых, в первую очередь девочек, ограничивалась полигамия; женщины получили право наследования, право свидетельствования в суде (доля наследниц была всё же вдвое ниже, чем наследников, а свидетельство двух женщин приравнивалось к свидетельству одного мужчины); мусульманка могла владеть отдельным от мужа имуществом. Отпуск рабов на волю оценивался как благочестивое деяние.
Мухаммад допускал определённую вариативность в методах духовного водительства уммой, с одной стороны, и решения сугубо административных вопросов – с другой. В первом случае неукоснительно действовал метод императивных воздействий, во втором временами имела место практика консультаций (шура), а также договорных отношений.
От мусульман требовалось неукоснительное исполнение религиозных обязанностей, а также соблюдение бытовых запретов относительно греховного и недозволенного. Ослушникам грозило наказание в мире сём и в мире ином. Меру земного наказания Мухаммад обычно определял сам, действуя в качестве мазалима (арбитра в спорах мусульман) или же судьи – кади. Как это тогда понима- лось, в первом случае осуществлялась исламская справедливость в её экстраординарной ипостаси, т.е. исходящей от Бога, во втором случае – в ординарной, имеющей мирское воплощение.
Практикуя время от времени метод сове-щательности и консультаций (шура) в случае решения сугубо мирских дел, Мухаммад в первую очередь заботился о том, чтобы добиваться согласия и единения своих последователей. Залог сплочённости уммы он видел в налаживании таких взаимоотношений между мусульманами, когда все они «подобны строению, разные части которого укрепляют друг друга»1. Есть немало хадисов, где предельно детально перечислены взаимные обязанности мусульман в отношении друг друга (главы семьи и домочадцев, супругов, родителей и детей, родственников, соседей и т.д.). Их невыполнение квалифицировалось в качестве запретных и греховных проступков, влекущих за собой небесные кары.
Благодаря Мухаммаду в административную практику был внедрён сравнительно привычный для родового общества патриархальнопатронажный стиль управления. Согласно одному из хадисов, правитель «сродни щиту, позволяющему под своим прикрытием отражать нападение и уберегать (мусульман) от причинения неприятностей». Но далее следовало разъяснение, призванное исключить произвол власти. Если обладатель власти «приказывает то, что относится к благочестию и направлено на претворение воли Аллаха и поступает справедливо, то за это ему полагается награда. Если же он говорит иное, то сам обязан нести за это расплату»2.
Мухаммад исключал одностороннее выстраивание отношений власти с подвластным людом на основе повелений императивного характера и пользовался методом договорных отношений как с мусульманами, так и с приверженцами иных монотеистических верований (христианами, иудеями, зороастрийцами). От мусульманской стороны требовалось клятвенное заверение (байа’а) относительно выполнения взятых на себя обязательств. Верность присяге приравнивалась к религиозному долгу. Присягающие клялись в том, что будут «не уподоблять кого бы то ни было Аллаху, не будут воровать, прелюбодействовать, убивать своих детей, не будут ве- рить наговорам, а также ослушиваться Посланника Аллаха в общественно принятом и одобряемом (ма’руф)»3. Договорная практика имела место и в отношении христиан, иудеев. Первый договор (ахд) был заключён с христианами-несторианами и иудеями г. Наджрана: им дозволялось свободно исповедовать свою веру в обмен на выплату особого налога (джизья).
Утверждая таким образом культуру предотвращения конфликтных ситуаций и их мирного разрешения, Мухаммад не исключал применения силы, когда призывал мусульман «усердствовать», «прилагать все силы» (джихада) в борьбе против язычников и «исказителей Писания».
Современные мусульманские подходы к религиозно-политическому наследию Мухаммада не отличаются единообразием. Особо острые разногласия связаны с отношением к идее теократии и теократической форме правления. Их апология стала лейтмотивом исламистских, заведомо политизированных выступлений в пользу тотального «возрождения» раннеисламской государственности. Тем временем идейные противники исламизма отмечают, что жизнь со времени кончины пророка Мухаммада не стояла на месте. А потому необходимо не только «новое прочтение Корана» в духе запросов и реалий современной эпохи, но также признание исторически значимого события – образования национальных или же многонациональных государств, в которых система государственной власти и управления действует на светской основе.
Заслуживает внимания расширение фронта той борьбы, которая уже не одно десятилетие ведётся рядом видных учёных и мыслителей, уроженцев афро-азиатских государств вокруг «интеллектуального наследия ислама» как мощного ресурса вступления этих стран на путь радикальных общественно-политических, экономических и культурных преобразований, на путь демократизации. На повестку дня, таким образом, со всей определённостью и категоричностью встаёт проблема культуросообразности процессов модернизации и демократизации в странах и регионах традиционного распространения ислама. Её решение неотделимо от поиска меры должной сбалансированности данных процессов с местной (национальной) культурой и её духовным компонентом.