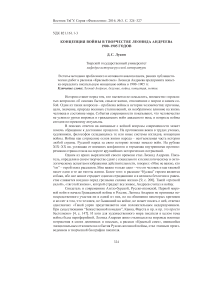Концепция войны в творчестве Леонида Андреева 1900–1905 годов
Автор: Лукин Денис Сергеевич
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье методами проблемного и мотивного анализа писем, ранних публицистических работ и рассказа «Красный смех» Леонида Андреева предпринята попытка определить писательскую концепцию войны в 1900–1905 гг.
Леонид андреев, безумие, война, концепция, мотив
Короткий адрес: https://sciup.org/146121911
IDR: 146121911 | УДК: 821.161.1-3
Текст научной статьи Концепция войны в творчестве Леонида Андреева 1900–1905 годов
История ставит перед тем, кто пытается ее осмыслить, множество «проклятых вопросов» об основах бытия, смысле жизни, отношениях с миром и самим собой. Один из таких вопросов – проблема войны в истории человечества: причины, цели, значение, природа военных столкновений, их необратимое влияние на жизнь человека и состояние мира. События современности показывают, что человечество не усвоило уроки мировых и гражданских войн двадцатого века, и вопросы войны сегодня по-прежнему актуальны.
В поисках ответов на связанные с войной вопросы современности может помочь обращение к достоянию прошлого. На протяжении веков в трудах ученых, художников, философов складывались те или иные системы взглядов, концепции войны. Войны как сотрясение основ жизни народа – неотъемлемая часть истории любой страны. Русский народ за свою историю познал немало войн. На рубеже XIX–XX вв. уставшая от внешних конфликтов и терзаемая внутренними противоречиями страна стояла на пороге крупнейших исторических потрясений.
Одним из ярких выразителей своего времени стал Леонид Андреев. Писатель, определяя в своем творчестве сдвиг с социального к психологическому и онтологическому аспектам изображения действительности, говорил: «Мне не важно, кто “он” – герой моих рассказов. Мне важно только одно – что он человек и как таковой несет одни и те же тяготы жизни. Более того: в рассказе “Кусака” героем является собака, ибо все живое страдает одними страданиями и в великом безличии и равенстве сливается воедино перед грозными силами жизни» [9, с. 200]. Такой «грозной силой», «тяготой жизни», которой страдает все живое, Андреев считал и войну.
Свидетель и современник Англо-бурской, Русско-японской, Первой мировой войн и начала Гражданской войны в России, Леонид Андреев не принимал непосредственного участия ни в одной из них, но на обвинения некоторых критиков и коллег в том, что человек, не бывавший на войне, не может писать о ней, отвечал однозначно: «Такой упрек представляется мне положительным недоразумением. При существовании “Божественной комедии”, Каина, Фауста и пр. и пр. это просто бестолково» [4, с. 147]. И хотя для художественного мира писателя в целом тема войны была периферийной, Леонид Андреев живо откликался на мировые военные потрясения в своих дневниках и письмах, а рассказ «Красный смех», явившийся эмоциональным откликом на события Русско-японской войны, стал этапным произведением в творческой биографии писателя.
Первое печатное высказывание Андреева на тему войны относится к февралю 1900 г. В это время на африканском континенте разворачивается Англо-бурская война – борьба выходцев из европейских колоний за право создания и существования собственных республик. Откликом на эти события стали два фельетона Андреева из цикла «Впечатления», опубликованные в «Курьере» 12 и 16 февраля 1900 г. С одной стороны, возмущение Андреева всеобщим ликованием российской прессы по случаю победы бурской армии в одном из крупных сражений свидетельствует об отвлеченно пацифисткой позиции стороннего наблюдателя. В то же время уже здесь Андреев обозначил свою гуманистическую позицию неприятия любой войны как массового убийства: «Англичан поколотили! И вот теперь ликуют по поводу того, что одни люди уничтожили сотни других людей» [2, с. 72].
Серьезным эмоциональным и интеллектуальным потрясением для Андреева стала начавшаяся в конце января 1904 г. Русско-японская война. Эту войну Андреев категорически не принял ни с политических, ни с общегуманистических позиций. В письмах Горькому он в иронично-негативном ключе отзывается о так называемых «патриотах», проправительственных активистах и их общественных акциях в поддержку войны. В то же время Андреев предчувствует в ней важность исторического момента для будущего, считает, что она не может не закончиться революцией.
В конце марта 1904 г. Андреев едет в Крым, где надеется заняться литературной работой. Там у него возникает замысел рассказа «Война» о событиях Русско-японской войны, но работу над ним писатель долго не может начать, жалуясь на трудность темы и нехватку слов. В письме Горькому от 06.08.1904 г. Андреев описывает произошедший у них на даче случай: «Нынче вечером возле нашей дачи взрывом ранило двух турок. И я видел, как несли одного из них, весь он, как тряпка, лицо – сплошная кровь, и он улыбался странной улыбкой, так как был он без памяти. Должно быть мускулы как-нибудь сократились и получилась эта скверная, красная улыбка» [3, с. 218]. Так впервые возник у Андреева образ «красного смеха», который впоследствии станет символичным визуальным выражением авторского отношения к войне, а его вербальным эквивалентом – речевая формула «безумие и ужас» [1, с. 37].
Написанный в ноябре 1904 г. «Красный смех» имеет подзаголовок, указывающий на форму рассказа, – «Отрывки из найденной рукописи». Таких отрывков в тексте девятнадцать, они разделены на две части: девять отрывков первой написаны младшим братом со слов старшего, вернувшегося с Русско-японской войны из-за потери ног; оставшиеся десять отрывков, составляющие вторую часть, написаны им же, но уже по личному опыту – в них он описывает собственное отношение к происходящим событиям.
Форма рукописи уже использовалась Андреевым ранее в рассказе «Мысль» (1902), в котором, как и в «Красном смехе», важным оказывается мотив безумия. Но если в «Мысли» Андреев исследует частный случай сумасшествия, измены мысли человеку, то автор отрывков «Красного смеха» говорит от имени человечества: «Глазами всех людей я смотрю и ушами их слушаю, я умираю с убитыми; с теми, кто ранен и забыт, я тоскую и плачу» [Там же, с. 80]. Сумасшествие отдельного человека здесь оказывается механизмом защиты разума, столкнувшегося с мировым безумием – войной. И это участь каждого: невозможно не сойти с ума в мире, в котором «каждую минуту живые люди превращаются в трупы» [Там же, с. 83]. С целью подчеркнуть всеобщность этого сумасшествия Андреев экспрессивно живописует ряд сцен массового безумия (бой двух полков одной армии в шестом отрывке, игра- ющие в войну дети в пятнадцатом, беспорядки на улицах города в последнем) и проводит перед читателем галерею отдельных сошедших или сходящих с ума людей (застрелившийся студент-санитар, умерший от солнечного удара солдат, пленный с безумным взглядом, сами братья). Если в «Мысли» Андреев полемизирует с рационалистическими и позитивистскими философскими идеями, утверждающими ведущую роль разума в познании [6], то в «Красном смехе» благодаря изображению тотального сумасшествия писатель создает «своеобразную, от противного, апологию разума» [5, с. 233], должного стать принципом нового жизнестроительства и противопоставить себя неразумной, безумной войне.
«Безумие и ужас» – так Андреев открывает свое «экстатическое» [8, с. 61], «чрезмерное» [4, с. 145] произведение, и эта формула, в тех или иных словоформах повторяющаяся рефреном практически в каждом отрывке «найденной рукописи», становится сквозным лейтмотивом рассказа, объединяющим в ходе повествования свойственные творчеству писателя в целом мотивы смерти, торжества Зверя в человеке и его жизни, восстания из мертвых, конца света. Объединенные темой войны, в «Красном смехе» они предстали в особо тесной взаимосвязи, выявив андреевскую концепцию войны в ранний период литературной деятельности писателя.
В письме Горькому от 18.11.1904 г., в котором Андреев отвечает на сделанные другом критические замечания к «Красному смеху», он пишет: «“Факты важнее и значительнее твоего отношения” – совершенно не согласен. Факты войны всегда приблизительно одинаковы, и только отношение к ним меняется. Наконец, мое отношение – также факт, и весьма немаловажный» [3, с. 244] . Резонером этого отношения в рассказе стал младший брат: «К самому факту войны я не могу привыкнуть, мой ум отказывается понять и объяснить то, что в основе своей безумно» [1, с. 66]. Это «непонимание» войны младшим братом неоднократно прямо проговаривается в тексте, Андреев вообще строит «Красных смех» на повторах, параллелизмах, симметрии, с каждым разом углубляя, усиливая сказанное ранее. Так, мотив звериного начала в человеке появляется в тексте уподоблением сражения бойне, развивается сравнением крестьян, ведомых солдатами на войну, со скотом, идущим на убой, а погибших, оставшихся на полях сражений, – с падалью, и к концу рассказа звучит риторическим проклятьем в адрес тех, кто начинает войны: «Всей силою моей скорби, моей тоски, моих опозоренных мыслей я проклинаю вас, несчастные слабоумные звери!» [Там же, с. 90]. Такое прямое проговаривание в тексте идей автора, обобщенно-адресные проклятья и сцена в начале последнего отрывка, в которой безымянный пацифист на улице обращается к молодежи с призывом «Долой войну!», привносят в художественный текст элементы и силу публицистического высказывания. Сам Андреев, говоря о силе впечатления, которое производил рассказ на публичных чтениях, подчеркивал: «На “Красный смех” я не смотрю как на художественную вещь. Главное – это действие, а действие он производит желательное» [3, с. 245].
Андреев заканчивает свое «нехудожественное» произведение сценой апокалипсиса: земля, неспособная вместить в себя такое количество убитых людей, начинает выбрасывать трупы на свою поверхность, и над всем миром стоит Красный смех. Спасения нет, у войны не может быть благоприятного исхода. Человечество в ХХ веке пришло уже к тому, что понятие «здоровой» войны как сражения двух армий осталось в прошлом, и общий разум современного человека больше не может понять и принять войну – проявление всего неестественного, неразумного, бесчеловечного. Все, кто сталкивается с фактом войны и не может его принять, неизбежно сходят с ума – это естественная реакция организма и души человека, но рацио- нальное отношение к войне, ее оправдание и принятие – еще большее безумие. И эта «дурная бесконечность» [8, с. 64] безумия становится «мучительно найденным ответом Андреева на вызов времени» [7, с. 158], лежащим в основе писательской концепции войны 1900–1905 годов.
Список литературы Концепция войны в творчестве Леонида Андреева 1900–1905 годов
- Андреев Л. Н. Красный смех//Андреев Л. Н. Собр. соч.: в 6 т. Т. 2: Повести и рассказы 1904-1910. М.: Книговек, 2012. С. 37-96.
- Андреев Л. Н. Полное собр. соч. и писем: в 23 т. Т. 13: Статьи 1895-1900. М.: Наука, 2014. 792 с.
- Горький и Леонид Андреев: Неизданная переписка/гл. ред. И. А. Анисимов. М.: Наука, 1965. 632 с.
- Иезуитова Л. А. «Красный смех», его литературное окружение, критика, анализ//Иезуитова Л. А. Леонид Андреев и литература Серебряного века: избранные труды. СПб.: Петрополис, 2010. С. 136-166.
- Келдыш В. А. Русский реализм начала ХХ века. М.: Наука, 1975. 280 с.
- Лукин Д. С. Рассказ Л. Андреева «Мысль» как художественный манифест //Язык. Культура. Коммуникации. 2014. Вып. 2. URL: http://journals.susu.ru/lcc/article/view/58/76. (Дата обращения: 12.06.2016.)
- Скороход Н. С. Леонид Андреев. М.: Мол. гвардия, 2013. 432 с.
- Терехина В. Н. Экспрессионизм в русской литературе первой трети ХХ века: Генезис. Историко-культурный контекст. Поэтика. М.: ИМЛИ им. А. М. Горького РАН, 2009. 320 с.
- Чуковский К. И. Современники: Портреты и этюды. Мн.: Нар. асвета, 1985. 575 с.