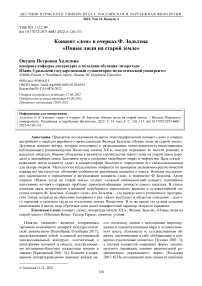Концепт "дом" в очерках Ф. Зальтена "Новые люди на старой земле"
Автор: Халезина Оксана Петровна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 4 т.14, 2022 года.
Бесплатный доступ
Предметом исследования является этноспецифический концепт «дом» в очерках австрийского писателя еврейского происхождения Феликса Зальтена «Новые люди на старой земле». Духовные искания автора, которые воплощены в размышлениях повествователя-путешественника, наблюдающего развивающуюся Палестину начала XX в., находят отражение во многих романах и рассказах писателя. Именно убеждение в важности строительства нового дома на старой земле породило в дальнейшем поиск Зальтеном пути к созданию «всеобщего мира» в творчестве. Цель статьи -выявление места концепта «дом» в концептосфере Зальтена и определение его смыслонаполнения для автора очерков. Методология исследования опирается на принципы реляционно-реалистической парадигмы методологии, обозначая особенности реализации концепта в тексте. Новизна исследования заключается в определении и актуализации концепта «дом» в творчестве Ф. Зальтена. Автор очерков «Новые люди на старой земле» создает сложный амбивалентный концепт, понятийное наполнение которого отражает проблему самоидентификации личности самого писателя. В статье показана связь исторических изменений порубежного переломного времени и художественной системы очерков Ф. Зальтена. Концепт «дом» для Зальтена - это прежде всего утопическое пространство Эдема, надежда на обретение потерянного рая. «Дом» выступает и объектом созидания - долгого терпения и сложного труда на пустынных землях Палестины. В то же время это утопия спасения цивилизации в целом, ведь обретение дома носит пацифистский характер людского единения.
Концепт дом, литература начала xx в., феликс зальтен, «новые люди на старой земле», «молодая вена», теодор герцль, сионизм, утопия
Короткий адрес: https://sciup.org/147239658
IDR: 147239658 | УДК: 821.112.2.09 | DOI: 10.17072/2073-6681-2022-4-126-133
Текст научной статьи Концепт "дом" в очерках Ф. Зальтена "Новые люди на старой земле"
интересных концептов культуры, отражающих этноспецифические особенности национального характера и личности писателей, является концепт «дом» – «одна из вариаций организации культурного пространства, моделирующей координаты восприятия мира человеком» [Лотман 1992: 389]. Примером интерпретации в этом контексте служит концепт «дом», включенный в художественную концептосферу произведений прозаика и журналиста еврейского происхождения Феликса Зальтена. Центром всей художественной системы очерков Зальтена 1925 г. «Новые люди на старой земле» является концепт «дом». Автор, пришедший в литературу «агонизировавшей империи», на фоне «глобального кризиса, в полном объеме мобилизовавшего интеллектуальные ресурсы времени» [Архипов, Седельник 2009: 9], ощущает необходимость дать актуальное смысловое наполнение понятия «дом» и на фоне распада Австро-Венгерской империи – его «европейского» дома, и в связи с набиравшим силу сионистским движением: выступлениями Т. Герцля, погромами 1904 г., миграцией и декларацией Бальфура. Зигмунд Заль-цманн на протяжении всего творческого пути писал под псевдонимом, поддерживал интерес публики иногда скандальными литературными экспериментами, маневрировал между либеральными заявлениями в широкой венской прессе и «целенаправленно антиассимиляционной и воинственной позицией » [Schwarz 2009] в националистских кругах. Несмотря на принадлежность к кружку австрийских писателей «Молодая Вена» (нем. Jung Wien 1891–1897), завоевавшему «к 1900-му году <…> господствующее положение в австрийской культуре, которое обеспечивается большой сплоченностью молодой культурной элиты и сохраняется до Первой мировой войны» [Жеребин 2009: 15], он является на сегодняшний день одним из наиболее недооцененных немецкоязычных классиков, «unbekannte Bekannte » .
Представители «Молодой Вены» «составили четкий каталог “девизов эпохи”, которые снова и снова появляются в виде упорядоченных тем в текстах авторов “Молодой Вены”: Я и Душа, Мечта и Желанный мир, Жизнь и Искусство, Язык и неспособность к языку, историзм» [Dagmar 2007: 69]. Эссе Зальтена отразило авторский поиск мечты, понимание которой необходимо для осознания духовных ориентиров, пути и миссии его народа. Оно тесно связано не только с личными исканиями писателя: в 1924 г., движимый интересом к библейской истории своего народа, он едет в Палестину и, вдохновленный увиденным, приурочивает публикацию путевых заметок «Новые люди на старой земле» (“Neue Menschen auf alter Erde”, 1925) к двадцатой го- довщине смерти провозвестника будущего государства иудеев Теодора Герцля, – но и с историко-литературным и культурным контекстом. В Австрии, где сильны были пангерманистские и ассимиляционные настроения, еврейство было и позицией изгоя, и формой осознания избранности, инакости, возвращения к духовным истокам. Спектр нравственно-этических и религиозных исканий включал «политических сионистов» во главе с Т. Герцлем, мечтавших об успешном переселении народа в палестинские земли, ведущих активную журналистскую и издательскую деятельность М. Бубера и М. Брода с их идеями духовного возрождения еврейства, мечтавшего о воссоединении католиков и иудеев Фр. Верфеля, рисующего мощные картины «трагедии ассимилирующегося еврейства» Фр. Кафку [Арендт 2008: 83]: «В начале ХХ века утопии восточного возрождения соединяются с проектами восстановления еврейской государственности <…> и на фоне важных для модернизма поисков предпони-мания (“Vorverständnis” по Хайдеггеру) и прообраза (“Urbild” Гессе) порождают целый поток “Восточных” текстов. Один за другим австрийские писатели иудейского происхождения – Ф. Зальтен, Ф. Верфель, Э. Канетти – совершают “паломничество” на Восток, обогащающее их творчество знаковыми произведениями» [Сей-бель, Шастина 2022: 321].
Дом, искомый Зальтеном, – это прежде всего дом исторический – родная земля, библейская Земля обетованная, к которой исконно стремятся иудеи. В библейском каноне «Земля Израильская» используется для наименования Земли обетованной, обещанной, согласно Танаху, Богом и по праву принадлежащей еврейскому народу. Этнотерриториальные смыслы соединяются в очерках с архетипически-символичес-кими. Через концепт «дом» автор очерков «Новые люди на старой земле» решает вопрос роли и судьбы избранного Богом народа – иудеев, судьба которых полна страданий. Обреченный на скитание еврейский народ стойко принял всю горечь изгнания, сохранив при этом верность своему Богу и главному библейскому принципу – делать добро ради добра, «естественное, как кровь, текущая в жилах» [Salten 1926]. Наградой за страдания и изгнание, по утверждению Заль-тена, становится выпавшая еврейскому народу роль духовного спасителя в возрождении культуры и утраченного миропорядка прошлого в современном мире ненависти: «Люди, для которых Моисей вырезал заповедь: “Возлюби ближнего твоего, как самого себя”, никогда не смогут проявить высокомерную враждебность по отношению к другим народам» [ibid.]. Зальтен видит первые признаки наступления времени, когда
«преследования ради рас и национальных войн будут столь же немыслимы, как и инквизиции и религиозные войны» [Salten 1926], а жертва собой еврейского народа будет не напрасной, поможет реализовать идеал мира.
Мотив поиска идеального, желанного мира в тексте развивается постепенно. Эрец-Исраэль – старая новая земля колониальных проектов евреев-переселенцев. Рассказчик попадает в утопический мир еврейских сельскохозяйственных поселений, наблюдает за колониями, где каждый элемент общей структуры неразрывно взаимосвязан: «…Микве Исраэль похож на поместье среднего размера, и ученики обрабатывают землю под руководством учителей» [ibid.], «все так же идеально и образцово, как в любом крупном европейском поселении» [ibid.]. Этот мир поселений замкнут и самодостаточен, в нем реализуется идея иерархии и целостности, преемственности и связи поколений, труд разделен и каждый знает свою работу: «Каждый из них является его частью, ежедневно вращающимся колесом великой машины» [ibid.], «иммигрирующую сюда молодежь сначала используют для тяжелой работы» [ibid.], – что, безусловно, вызывает симпатию и одобрение автора, ведь труд на некогда потерянной «земле отцов» воспринимается как несомненное благо, способствующее единению еврейского народа («эти судьбы похожи друг на друга и вместе они – судьба евреев» [ibid.]).
Линейность и ретроспекция времени в колониях сливаются воедино, образуя статичность и автономию от окружающего мира: «…завтра постепенно превращается в сегодня, а сегодня в завтрашний день» [ibid.]. Цикличное время земли отцов, Святой земли, несет в себе утопический характер времени Эдема. Восприятие времени героем, наблюдающим Иерусалим, отражается в олицетворении «говорящие камни», придающем ностальгический характер и ощущение сопричастности с вечным через оживающую историю, а концепт дома при этом связывается с мотивом памяти (величие библейских праотцов и их ветхозаветное слово, которое живо в настоящем и будет живо в веках).
Сближение города с библейским местом появления первых людей – Эдемом – отражает описание возрождаемой природы: «Изящно тихая местность, пастбища, зеленые насаждения, которые снова должны стать полями. Добрая воля природы проявляется здесь повсюду несмотря на долгое время, когда ею пренебрегали и плохо обращались» [ibid.] – обретение дома и восстановление природы неразрывно взаимосвязаны, жители поселений верят в светлое будущее, в дальнейшее единение «большой семьи». Случайная встреча повествователя с двумя женщи- нами подтверждает это: они не тоскуют по своему прежнему «европейскому» дому, по покинутым родственникам, каждый из них связан с землей, наполнен и пронизан общей задачей, для них дом здесь. Атмосфера нереальности, сказочности проявляется во время прогулки рассказчика по Иерусалиму, город ассоциируется у него со средневековой арабской «Книгой тысячи и одной ночи»: узор ворот, базарные лавки, восточные мотивы песен, пестрота толпы, по которой, как в старые времена, узнается деятельность, уровень образования и социальный класс людей. Это идеализированный мир людей, где для решения споров не нужна физическая сила или угроза, а конфликты устраняются использованием Псалма как главного аргумента для восстановления порядка и спокойствия.
В связи с восприятием рассказчиком такого единства появляется концепт «дом» как объект созидания, приложения усилий, строительства, устремления в будущее: Земля обетованная как будущий возрожденный и отстроенный заново дом, где «старые проблемы человечества приближаются к своему решению» [ibid.], мир бытия общечеловеческих ценностей, к которому естественно стремиться.
Но даже мотив его обретения не лишен недостатков: любая возвышенная идея, особенно та, которой увлекаются юные и молодые, может оказаться переоцененной и привести к разочарованию в ней. Рассказчик критикует «внутренних» врагов дела сионизма: фанатизм суждений молодых людей, пагубное действие религиозно-радикалистской агитации, атеизм, отсутствие единства у мигрантов, вынужденных переселиться из-за обстоятельств, а не из-за веры, напускное страдание просящих милостыню атеистов у Стены Плача, выставленное напоказ. Зальтен фиксирует различия во взглядах на судьбу строящейся Палестины: радикалы в духе Жаботинского и Йозефа Трумпельдура, пропагандисты-утописты Людвиг Шпайдель, Гуго Виттман и Теодор Герцль – и те, и другие для него – герои вновь зарождающегося отечества, но сам он все же исповедует принцип «мирного» завоевания.
Дом у Зальтена – одновременно и земля предков, и terra nullius (ничейная земля), открытая для будущих свершений новых людей. Открытость будущему, зафиксированная в концепте «Новые люди / новый человек» – одном из важнейших для младовенцев («Новые люди» называлась пьеса «главного идеолога литературы и искусства венского модерна» [Цветков 2003: 182] Германа Бара) – «восходит как к религиозной… традиции…, так и к политическим воззрениям современности» [Млечина 2008: 415]. Заль- тен в центр своей эстетической системы ставит концепт, который совмещает прошлое и будущее, старое и новое, отчасти следуя за Теодором Герцлем, уже в заголовке очерков перефразируя название герцлевкого романа-утопии «Старая новая земля» (“Altneuland”, 1902).
Творчество большинства писателей-модернистов начала XX в. отражает перелом в мироощущении людей пограничного времени, «ощущение общей дисгармонии современного мира; нестабильность положения в нем отдельной человеческой личности; ее отчуждение от общества», «трансцендентальные и неуловимые стороны действительности» [Голованова 1997]. Писателей венского модернизма отличает осмысление проблем интеграции и самоидентификации, акцент на катастрофичности бытия порубежного времени, «совмещение разноплановых векторов венской культуры», «поиск индивидуального эстетического моделирования мира», создавший «особое интеллектуальное поле <…> трудно постигаемую картину бытования австрийской культуры» [Цветков 2020: 43]. Следствием трагического этапа в истории Австро-Венгрии становится предчувствие «мировой катастрофы», утрата и распад былого миропорядка, а проблема определения самоидентичности в творчестве венских писателей в большинстве своем была сформирована ностальгией по традициям и культуре старой империи Габсбургов. Антисемитский дискурс начала XX в., сложившийся под влиянием развития идеологических течений в начале XIX в. в Европе, оказал воздействие на процесс формирования идентичности писателей-евреев, привел к кризису еврейской идентичности в общественной мысли. Антисемитские тенденции в публичном дискурсе на рубеже веков также повлияли на представителей «Молодой Вены», в которой состояли преимущественно писатели еврейского происхождения. Именно в этот период Феликс Зальтен обращается к политическому сионизму еврейского общественного и политического деятеля Теодора Герцля (1860– 1904), целью идеологической концепции которого стало объединение и возрождение еврейского народа. В очерках «Новые люди на старой земле» звучит гимн Герцлю как духовному отцу, узнается восхищение фигурой Герцля, подмечается его человечность, самоотверженность, мужество. Схожей оказываются позиция наблюдателя-путешественника и убеждение автора: только такой сильный лидер, как Герцель, может объединить, воссоздать землю отцов.
На протяжении всего повествования западный, европейский мир противопоставлен «старой земле», культура Запада, по мнению автора, оказывается лишенной братства, чуткости и чело- вечности. Европа остается для автора почвой, на которой еврейский народ был изуродован, обесцвечен и чужд для себя самого. Зальтен утверждает, что приоритет материальных ценностей над духовными в европейском обществе – путь вражды, распада, социальной деструкции, которые далеки от сионистской идеи обретения «дома». Современные автомобили западной цивилизации не могут проехать по историческим узким улицам, а точная наука европейских стран бессильна против созидательной силы веры Земли обетованной («Эта вера создает факты, которые имеют большую силу, чем реальность, ушедшая в прошлое» [Salten 1926]). Антитеза единства евреев в Палестине и «тупой яд Европы» [ibid.], где царят погромы, распад и война, усилена намеком на жертвенность еврейского народа. Благородство и чистота последнего проявляется в долготерпении и готовности к принятию на себя ненависти и несправедливости мира, это народ, который не ощущает свой героизм даже после перенесенных страданий. Но возникает сложность для восприятия и двойственность понимания читателем образа героя-народа: несмотря на романтизацию ветхозаветной судьбы евреев, «новые люди» на «старой земле» не лишены реально-конкретной характеристики – европеизации (описание быта приезжих из Англии и Германии), а новое время вторгается в историю библейских руин.
Проблема историзма, поднятая в очерках Зальтеном, связана с дискуссией об историзме, которая началась еще в XIX в. (Ницше), по отношению к традиции и прошлому модернисты выделяли «два аспекта: с одной стороны, вопрос о том, насколько объективно историческое знание, с другой стороны, исторический релятивизм, который ставит под сомнение вневременные иерархии ценностей и нормы, помещая объекты своих исследований рядом друг с другом как имеющие одинаковую ценность» [Dagmar 2007: 70]. Пытаясь осмыслить противоречия современности, модернисты активно ищут исторические схождения, обращаются к эпохам, похожим на современность и способным дать ответы на актуальные вопросы, указать возможные пути развития ситуации. Отсюда вытекает исторический параллелизм «Новых людей…»: история римского декаданса и современности, когда каждый новый виток в истории воспроизводит схожие модели развития событий – идеи извечного повторения истории, имеющей характер вечной потери и обретения. Дом в таком контексте оказывается вновь обретенной Родиной и связан с мотивом утраченного рая и желанием обрести его вновь. Идея повторения в череде потерь и обретений родом из библейских сюжетов, упо- минание о которых Зальтен вводит в повествование (изгнание Иосифа в Египет и последующее захоронение согласно агадическому мидрашу его костей на Земле обетованной, сорокалетние скитания Моисея по пустыне и долгожданное возвращение израильского народа в земной рай). Идею цикличности истории с поиском и обременением утраченного дома иллюстрируют отсылки к временам Тита Ливия, захвату Иудеи римлянами, к описанию Стены Плача (символу скорби по утраченному храму, разрушенному римлянами), сравнение иврита с другими древними языками. В этом контексте подчеркивается особая роль иудеев – быть посредниками между старыми (языческими) и новой (христианской) цивилизациями. Великие миры римлян и греков не справились с этой задачей, поскольку были территориально оседлыми, привязка только к одному месту способствовала замкнутости и отсутствию интеллектуальной экспансии извне, а потому, чтобы не погибнуть со старым миром, евреи должны были рассеяться – оказаться не только вне времени, но и вне пространства, тем самым сохранив и распространив танахическое наследие.
Идея братства людей появляется в тексте с описанием Иерусалима: пестрота города, людское разноголосие, музыка улиц сливаются в нечто целое. Иерусалим отражает идею свободы, восстания против всякого рабства, в том числе рабства предрассудков. Проявляется эта идея и на языковом уровне: через местоимения первого лица («история моего народа» [Salten 1926]). Здесь чувствуется единство всех людей, которые молятся единому Богу, Иерусалим – центр всех религий, основанных на библейской традиции, а ветхозаветный иудаизм выступает основой мировых религий. Еврейский доктор лечит всех людей, не отказывает даже арабам. Диалог араба и еврея начинается со старого еврейского приветствия «Мир тебе!», единого для евреев и арабов, сохранившегося с библейских дней. Автора восхищает стремление к пониманию тех, кто по ветхозаветному канону является братьями. Братство арабов и евреев, взаимопонимание между евреями и христианами для Зальтена в настоящем лишь мечта, но в будущем допустимая реальность на земле Палестины. «Есть мир, есть понимание среди созданий этого мира» [ibid.], усиливает это утверждение метафора взаимоотношений кошки и собаки, которые, подобно людям, одинаково являются Божьими созданиями. За бестиарными образами создателя «Бемби» угадывается судьба двух народов, показанная на примере собаки, которая начинает заботиться о кошке несмотря на естественную вражду, отказ от которой является действенным путем созда- ния нравственного мира, лишенного злобы и угнетения.
Вторая половина очерка посвящена путешествию по арабским землям, композиционно и семантически образуя эксплицитную параллель частей текста. Поменялось не только географическое положение героя, но и сенсуальное восприятие. Чувство возвращения на землю предков и переполненность радостью постепенно сменяются непониманием, а затем и отчуждением рассказчика. Образ Назарета (промежуточная территория повествования) старого не соотносится с новым, видится как чуждая земля: вокруг суета, вместо набожности чужаки, которые торопятся и бегло осматривают необходимые достопримечательности. С авторской позицией меняется концепт «дом», пропадает чувство сопричастности, герой начинает замечать толпу. Впервые в наблюдениях после того, как рассказчик покинул еврейские поселения, появляется настроение одиночества и недоверия: местные жители-евреи молчаливы с европейцем-чужаком, говорят только то, о чем он у них спрашивает, в их глазах рассказчик остается приезжим туристом, гостем, поэтому на протяжении общения сохраняется церемонность в обращении с ним. В дальнейшем «пейзаж души» разочарования и картины окружающей природы начинают сливаться: рассказчик и его спутник попадают на землю арабов. Вокруг разрушение, бездорожье, одинокие редкие минареты, безжизненная пустыня, болотистые места, затопленные Мертвым морем, – противный всему живому пейзаж смерти и одиночества. Непрекращающиеся картины проклятой унылой природы, чувство тревоги, беспокойства, близость и непредсказуемость опасности мусульманского мира напоминают автору мрачные руины разрушенных за грехи Содома и Гоморры («яркая улыбка солнца в однообразии голубого неба делает сцену еще более жуткой» [ibid.]), что возвращает читателя в раннее упоминание мусульманского засилья в Иерусалиме: «Огромный парад мусульман, которые всегда собираются здесь на Пасху, должен был уравновесить пасхальный приток христианских паломников в Иерусалим. Сегодня эта процессия представляет собой угрозу христианам и евреям» [ibid.].
Восприятие рассказчиком окружающего мира меняется, меняется и его настроение: он вспоминает фигуру Моисея, который благодаря своей добродетели стал посредником между Богом и израильтянами, сделав последних свободными, теперь же обретенной свободе угрожает опасность. Герой смотрит вниз, на Иорданскую равнину и Иерихон, называет их потерянным раем; он противопоставлен арабам, которые смотрят вверх, на небо. Но смотрит без грусти, без тоски по дому, верит, что потерянный рай можно воскресить единственно верным путем труда поселенцев.
Отчужденность подчеркивается критикой увиденного: в тексте появляется описание жителей Вифлеема. Для автора христиане, живущие в городе, – это завоеватели, которые с эгоистичной жестокостью во время крестовых походов вернули свой дом: враждой, убийствами и войной. Согласно авторской позиции, допустимо только «мирное завоевание» трудом на родной земле, воскрешением истории («они завоевали этот город для себя в войнах крестоносцев» [Salten 1926]), автор замечает красоту и силу местных женщин, но в их облике невозможно узнать смиренный чистый лик Марии, они не похожи на встреченных ранее женщин-евреек из поселений.
Критика мусульман приобретает в тексте более насыщенный характер с продолжением путешествия по Палестине. Автор называет их «дикие бороды», в их облике и поведении узнаются животные черты, подобно диким зверям, охраняющим свое логово и убивающим тех, кто вторгается к ним, арабы описываются неподобающе дикими, фанатичными, лишенными человеческих черт фигурами, «в их темных глазах пылают фанатизм и насилие» [Salten 1926], они жадные, лживые, беспричинно гневливые и готовые убивать лишь из подозрения в лишнем движении – градационное и контрастное описание, не характерное больше ни для одного народа в Палестине, которое строится на противопоставлении с портретом жителей еврейских поселений и заканчивается историей беспричинно убитого арабами еврейского мальчика, портрет которого висит наравне с портретом духовного лидера сионистов – Теодором Герцлем (противопоставление: герой, память о нем в вечности – забытые подлые убийцы). Встреча с арабами иллюстрирует главную идею произведения: политика мира и прощения – единственно правильная, которая практикуются евреями в Палестине. Рассказчик во время путешествия нервно реагирует на мусульманское неуважение к святыням, но вежлив, потому что для них он – турист, в нем не опознают иудея, он всячески сохраняет внешний облик европейца, пытается уверить себя в том, что не важно, кто ухаживает за святынями, но тут же проявляет злость и негодование: он не может смириться с тем, что мусульмане конфискуют, заселяют землю иудейских праотцов, возводят свои минареты на месте древних еврейских святынь, не позволяют приближаться к библейским памятникам тех, кто по праву должен владеть ими, и лишь жадность заставляет арабов изредка нарушать этот принцип, пропуская туристов.
Заканчивается поездка потерей чувства одиночества рассказчиком, встречи со случайными людьми сливаются с воспоминаниями, образ предков отражается во всем, что он видит. «Жизненно-философская предпосылка к сионизму Зальтена – это универсальный закон, который основан на еврейской философии ассимиляции рациональными и моральными методами» [Mattl, Schwarz 2006: 175]. Беспристрастность наблюдения позволила Зальтену осознать значимость социального движения за объединение Палестины, переосмыслить утопию человеческих отношений через нравственность, гуманность и предпочтение общественных интересов личным.
Концепт «дом» у Зальтена содержит оптимистическое понятийное наполнение: это утопическое пространство Эдема, потерянное, но вновь обретенное, дающее надежду на светлое плодотворное будущее. «Дом» осмысляется не только как созидание и спасение пустынных земель Палестины, но и как утопия спасения цивилизации в целом, поскольку труд поселенцев способствует неминуемому пониманию целесообразности единения всех тех, кто живет на «старой земле».
Амбивалентность концепту «дом» придает осознание Палестины как земли бесконечных конфликтов, народы, населяющие территорию, которой предстоит стать общим домом, до сих пор разобщены. Негативный смысл концепта порождает трагическое мироощущение путешественника после наблюдений за идейно пустыми евреями-переселенцами, арабами, христианами – представителями современной Палестины, готовых пройти путь экспансии (для Зальтена означающий неизбежно тупиковый путь) и пропагандирующих культ нетерпимости, насаждения, агрессии.
Список литературы Концепт "дом" в очерках Ф. Зальтена "Новые люди на старой земле"
- Архипов Ю. И., Седельник В. Д. История австрийской литературы XX века: в 2 т. Т. 1 / отв. ред. В. Д. Седельник. М.: ИМЛИ им. Горького РАН, 2009. 623 с.
- Арендт X. Скрытая традиция: Эссе / пер. с нем. и англ. Т. Набатниковой, А. Шибаровой, Н. Мовниной. М.: Текст, 2008. 221 с.
- Голованова И. С. История мировой литературы. М.: АСТ, 1997. URL: http://17v-euro-lit.niv.ru/ 17v-euro-lit/golovanova/literatura-vozrozhdeniya.htm (дата обращения: 16.12.2021).
- Жеребин А. И. Абсолютная реальность: «Молодая Вена» и русская литература. М.: Языки славянской культуры, 2009. 93 с.
- Зусман В. Г. Концепт в системе гуманитарного знания // Вопросы литературы. 2003. Вып. 2. C.3-29.
- Килыбаева П. К., Отелбаева Д. М. Концепт как антропоцентрическая единица // Наука и образование сегодня. 2017. Вып. 4(15). URL: httpsV/cyberleninka.ru/article/n/kontsept-kak-antro-potsentricheskaya-edinitsa (дата обращения: 03.02.2022).
- Кольцова Ю. Н. О структуре концепта как категории культурологии // Язык и культура. Лингвистика, поэтика, сравнительная культурология, теория перевода / под ред. Н. К. Гарбовского. М.: Изд-во МГУ, 2001. 152 с.
- Красавский Н. А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах / М-во образования Российской Федерации, Волгоград. гос. пед. ун-т, Науч.-исслед. лаб. «Аксиолог. Лингвистика». Волгоград: Перемена, 2001. 493 с.
- Лотман Ю. М. Избранные статьи в трех томах. Т. 2. Статьи по истории русской литературы XVIII - первой половины XIX века. Таллинн: Александра, 1992. 480 с.
- Млечина И. Новый человек // Энциклопедический словарь экспрессионизма / гл. ред. П. М. То-пер. М.: ИМЛИ РАН, 2008. 736 с.
- Сейбель Н. Э., Шастина Е. М. Дихотомия «своего» и «чужого» в структуре Восточных заметок Ф. Зальтена, Ф. Верфеля, Э. Канетти // Научный диалог. 2022. Т. 11, № 3. С. 319-335. doi 10.24224/2227-1295-2022-11-3-319-335
- Цветков Ю. Л. Интеграция и самоидентификация венского модернизма // Вестник Ивановского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки». 2020. Вып. 1. С. 42-54. URL: https://cyberleninka.ru/article/n7integratsiya-i-samoidentifikatsiya-venskogo-modernizma (дата обращения: 03.02.2022).
- Цветков Ю. Л. Литература венского модерна. М.; Иваново: МИК, 2003. 432 с.
- Dagmar L. Wiener Moderne Stuttgart. J. B. Metzler: Аktualisierte und Überarbeitete Edition (2. Aufl.), 2007. 239 s.
- Mattl S., Schwarz W. M. Felix Salten: Schriftsteller, Journalist, Exilant. Wien: Holzhausen Verlag, 2006. 191 s.
- Salten F. Neue Menschen Auf Alter Erde, 1926. URL: http://ldn-knigi.lib.ru/JUDAICA/Salt_ NMen.htm (дата обращения: 07.12.2021).
- Schwarz A. Sie Wiederholen Nur Immer, dass Sie Modern Sein Wollen. Ein Überblick Über Die Neueste Forschungsliteratur Zur Wiener Moderne // Literaturkritik, 2009. URL: https://literaturkritik.de/ id/12636 (дата обращения: 03.02.2022).