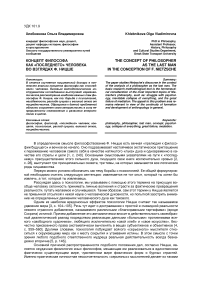Концепт философа как «последнего» человека во взглядах Ф. Ницше
Автор: Хлебникова Ольга Владимировна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 12, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье изучается ницшеанский дискурс в контексте анализа концепта философа как «последнего» человека. Базовым методологическим инструментом исследования выступает герменевтическое рассмотрение наиболее важных тем философии Ф. Ницше, как то: борьба с психологией, неизбежность распада сущего и великий отказ от посредничества. Обращение к данной проблемной области сохраняет свою актуальность в силу непрерывности становления и развития антропологии в целом.
Философия, философ, "последний" человек, концепт, психология, распад сущего, великий отказ, посредничество
Короткий адрес: https://sciup.org/14937217
IDR: 14937217 | УДК: 101.9
Текст научной статьи Концепт философа как «последнего» человека во взглядах Ф. Ницше
В определенном смысле философствование Ф. Ницше есть вечная «прелюдия к философии будущего» и вечное ее начало. Оно подразумевает настойчивое экстатическое приглашение к переживанию человеком самого себя в качестве натянутого «лука» духа и одновременно в качестве его стрелы и цели [1, с. 240]. Основными смысловыми указателями на пути к «последнему» пресуществлению этого сильного духа, пишущего свои книги исключительно кровью [2, с. 28], выступают три принципиальных сюжета, три темы, на которых замыкаются все логические ряды ницшеанства.
Первую можно условно обозначить как тему борьбы с психологией. Ее общей формулировкой необходимо считать следующую сентенцию: извлекается не тот опыт, который ты хотел бы извлечь, а тот, который ты извлекаешь.
Рассуждая здесь о психологии, мы указываем с помощью этого термина на присущую вообще человеку склонность принимать личные волнения и страсти за фактические превращения реальности, путать желаемое и случившееся. Таким образом, сам этот термин у Ницше является не привычной отсылкой к некой науке о человеческой духовности, но попыткой заострить внимание на определенных движениях человеческого духа как такового.
Одним из наиболее вредоносных эффектов психологии Ницше считает так называемое удвоение мира [3, с. 104–105]. Речь тут идет о достраивании к простой и очевидной реальности некоего странного добавления, называемого различными «благонравными тартюфами» (вроде Сократа) истиной. Причем добавление это автоматически вносит в действительность своеобразный диалектический разлад посредством реализации данными «больными» противниками всякого «свободного художника», любящего исключительно «свой хлеб» и «свое искусство», бесчестно присвоенного права систематически вычленять в вещах субъективное и объективное [4, с. 559–560]. Другими словами, психология побуждает всякого «серьезного» мыслителя относиться к окружающему миру как к месту сокрытия и утаивания истины. В этом смысле с точки зрения любого подобного ответственного мудреца реальная действительность всегда безнадежно вторична [5, р. 146].
Основной причиной распространенности подобного положения дел, согласно Ницше, является неудачная физиология иных философов, мешающая им реализоваться в единственном фактически существующем мире, чувственном мире физических форм и бурных страстей. Именно практическая личностная несостоятельность «серьезных» мыслителей делает их такими
«злобными» [6] и заставляет придумывать некую истину, чтобы оправдаться (прежде всего в собственных глазах) по поводу своей неспособности справиться с вызовами действительной жизни.
Таким образом, Ницше называет само деление сферы возможного опыта по объективным и субъективным основаниям банальным эффектом работы психологии. Вообще любая попытка разобраться в подлинности происходящего, с его точки зрения, выступает психологическим симптомом неспособности к поступку, который всегда требует скорее мужества, чем остроты отвлеченного ума.
В качестве ремарки к сказанному укажем на два обстоятельства. Во-первых, для Ницше совершенно очевиден тот факт, что действие, совершенное в результате праздного взвешивания различных альтернатив, тщательного продумывания разнообразных вариантов, какие только может себе вообразить «чистый» разум (в кантовском смысле), по определению является либо смешной нелепицей, либо демонстрацией пафосного снобизма претенциозных фантазеров, поскольку только поступок, состоявшийся во всей полноте красок бытия, со всей силой отважного духа, готового расплатиться по своим счетам в любой момент (и в этом отношении, и во всей полноте возможностей мышления тоже [7, с. 27–28]), вообще может считаться поступком. Во-вторых, рассуждения Ницше по поводу мира истины изначально находятся вне контекста характерных для западной философии исследований соотношения разумного и чувственного. И в этом отношении было бы грубой ошибкой присвоить немецкому философу какое-нибудь глубокомысленное имя, например имя иррационалиста. Любые имена подобного сорта конституируются в пространстве уже удвоенного мира, а значит, только при условии автоматического принятия существования подлинного и мнимого, только post factum можно нечто объявить рациональным или эмпирическим, выстроить иерархию чувственно воспринимаемого и интеллигибельного.
Как можно видеть, борьба с психологией означает для Ницше борьбу за очищение самой человечности от лицемерного морализаторства, заставляющего людей «измерять» каждый свой шаг с помощью «линейки», изобретенной скучными неудачниками, не способными разобраться в самих себе.
Второй темой ницшеанства, посредством обращения к которой мы сможем приблизиться к пониманию особенностей соответствующего представления о природе философа, на наш взгляд, выступает тема неизбежности распада сущего. Ее простая формула звучит так: все заканчивается.
Говоря здесь о неизбежности распада сущего, мы подразумеваем ту странную очевидность, которую Ницше обнажает с непосредственностью и жестокостью ребенка, – сущее не дано нам. Только «египтицизм» философов прошлого, только отсутствие исторического чувства у этих «серьезных» мыслителей позволяли им считать, что некое сущее всегда подлинно и окончательно дано, в том смысле, что оно неизменно пребывает действительностью, и тем самым разрешали им будто бы делать вещам честь, помещая их в некую интеллигибельную вечность [8]. Однако, по мнению Ницше, в случае актуализации «веселой» философии мы с неизбежностью должны будем осознать, что никакая судьба не довлеет над нами, что фактически термин «сущее», изобретенный морализаторами, обманутыми собственной психологией, является всего лишь вербализацией их веры в постоянство жизни, их надежды на личный покой и безопасность.
Содержание самого концепта распада сущего раскрывается в работах Ницше посредством двух смысловых контекстов. Во-первых, речь идет о принципиальной неполноте знания, сопутствующей принятию любых окончательных решений. Иначе говоря, Ницше обращает внимание на то, что, по сути, жизнь человека является не совокупностью воли, намерений и актов ответственности, помещающей личность в дурную пьесу с запланированной моралью, а, скорее, некой квинтэссенцией «невинной» спонтанности, выставляющей всякую добродетель в качестве эффекта счастливого случая [9]. Это означает, что в каждый момент времени человек обнаруживает себя в ситуации того или иного превращения чувственности (не чувств как паттерна воплощен-ности, а именно чувственности как способности вхождения человека в мир запахов, страстей, удовольствия и боли), которая по определению не допускает возможности мыслить себя в перспективе построения исчерпывающих объяснений. За что бы ни взялся человек, повсюду он сталкивается с феноменом недостаточности усилий пораженного психологией разума в деле постижения движений чувственности (единственное, что подобный разум делает виртуозно, – это находит виновных в собственной несостоятельности, изобретя предварительно идею нравственной вины). Однако эта недостаточность не отменяет преследующей человека необходимости принимать решения, выбирать и подводить итоги. Причем совершенно очевидно, что в реальной жизни никаких других решений, кроме окончательных и последних, просто не существует.
Во-вторых, Ницше указывает на факт своеобразного обнуления мира во всякий отдельный момент времени. Другими словами, человек постоянно и по определению находится в обстоя- тельствах некой фактической действительности, законы которой каждый раз возникают исключительно актуально («только что»). Реализуется подобный странный эффект прежде всего за счет наличия абсолютной невозможности указать на устойчивое и конкретное Я, удерживающее себя в виду данных законов. Вообще говоря, именно наивная вера в это Я, которое будто бы способно неограниченно длиться во времени, заставляла «серьезных» философов склоняться к идее сущего [10]. Однако поскольку чувственность спонтанна, а время дискретно, постольку рассуждать о каком-либо Я, имеющем субстанциальное содержание, не только бессмысленно, но и нерационально. Отсюда следует, что в силу «исчезновения» Я необходимо отказаться от стереоскопического обмана, заставляющего дурных психологов утверждать, что не содержащее разрывов и трещин сущее имеет место, от абсурдной «веры в авансцену, в иллюзию, входящую в состав перспективной оптики жизни» [11].
Третьей темой ницшеанства, раскрывающей существо философа в качестве бытийного феномена, выступает тема великого отказа от посредничества, предельная формулировка которой может звучать так: нет другого способа сделать нечто, кроме как действительно сделать это.
Одним из самых шокирующих открытий Ницше, безусловно, является смерть Бога. Именно заявление о внезапном исчезновении всякой возможности апеллирования к трансцендентному Абсолюту породило основания для обвинений немецкого мыслителя в нигилизме. Однако, на наш взгляд, базовым контекстом «умерщвления» Бога следует считать все же не столько разрушение метафизики, сколько устойчивое отрицание вероятности существования посредников в определенных смертельно важных делах [12].
Используя здесь понятие «посредничество», мы фактически ведем речь о распространенной западной гуманистической иллюзии, ведущей свое происхождение еще из христианской доктрины и утверждающей в качестве очевидно обязательных для исполнения и интуитивно понятных следующие принципиальные тезисы. Во-первых, тут подразумевается отсылка к манифестации превосходства слабых над сильными, выражающейся в рассмотрении сострадания как первоосновы всякой морали. Во-вторых, разговор идет о требовании постоянной демонстрации «нищеты духа» в целях удостоверения своей лояльности к репрессивному обществу добродетельных (то есть опять-таки слабых) [13].
Первый из этих принципов фактически предписывает всякому человеку нравственный долг заботы, не считающейся ни с реальным количеством наличных ресурсов, ни со стратегическими задачами становления и развития. Посредством вменения этого долга, с одной стороны, ответственность за слабых перекладывается на плечи сильных, что, в свою очередь, по сути, выводит слабых из зоны какого-либо долженствования вообще. С другой же стороны, в сильных порождается непреодолимое чувство вечного личностного несоответствия, сопровождаемого непреходящим стыдом одновременно за невозможность уклониться от лицезрения чужой слабости и за свою собственную социально одобряемую трусость, заключающуюся в соглашательстве по поводу принятия навязчивого долга заботы.
Второй из указанных принципов сводится на практике к требованию всеобъемлющей скромности, выводящему слабых в качестве носителей нормы, а сильных в качестве ужасающего отклонения от нее. Благодаря возведению слабости в ранг добродетели западный (христианский) гуманизм объявляет наступление царства посредственности, в котором всякая чрезмерная сила (ум, талант, страсть) отторгается моральным большинством, считающим свою ничтожность проявлением высокого нравственного закона.
Таким образом, рассуждая о великом отказе от посредничества у Ницше, мы имеем в виду его принципиальное несогласие с характерной двойственной западной интенцией перекладывать всеобщую экзистенциальную (здесь будет уместным именно данный термин) ответственность исключительно на тех, кто способен осознать ее наличие, и в то же время позиционировать в качестве социальных, опосредованных некоторые отношения и связи, которые изначально не могут быть развернуты в таковом смысле (например, отношения совести). Посредничеством, следовательно, здесь называется присущее, по выражению Ницше, «стаду» стремление уклониться от исполнения единственной подлинно человеческой обязанности - обязанности быть вполне человеком, то есть актуализации силы и достоинства.
Именно непреходящая угроза подобного посредничества заставляет Ницше говорить о необходимости развития в себе способности к «великой любви», которая воистину велика настолько, что преодолевает даже прощение и жалость [14]. Именно отвращение, которое испытывает немецкий мыслитель к самой необходимости притворяться посредственностью в обществе жаждущих покоя и внешней (данной через посредников) нравственной определенности, вынуждает его Заратустру умывать и руку, помогающую страдающему, и душу [15].
Иначе говоря, идея умирания Бога была сформулирована Ницше, на наш взгляд, для того, чтобы указать на острую насущную (историческую) необходимость извлечения суровых жизненных уроков, в соответствии с которыми любой поиск экзистенциальных посредников превращает жизнь всего лишь в дешевое подражание самой себе, в нелепый самообман. Бог, следовательно, здесь выступает как ярлык и метафора абсолютного посредничества, которое демонстрирует одновременно и безразличие безапелляционного заявления (введенного аксиоматически и насильно), и страдание бесконечной виновности (поскольку лишь незначительное количество людей «свободного ума» и «веселых» философов вообще способны осмыслить происходящее). Таким образом, концепт философа у Ницше указывает на путь великого равнодушия: ведь условием становления мудрости является прежде всего оставление (как покидание) человека его собственному закону, предоставление личности возможности и права быть самой собой.
В общем виде, таким образом, ницшеанского «веселого» философа следует представлять себе в горизонте всегда внезапного «рождения» так называемого «последнего» человека, то есть существа, являющегося до такой степени человеком, что уже и не способного при беглом взгляде сойти за него (кстати говоря, здесь не может не возникать один неустранимый вопрос: разве в полном смысле человек способен одновременно не быть «последним» человеком?), существа, выражающего, по словам Ж. Батая, чистое, безусловное стремление, независимое от какой-либо нравственной цели [16, с. 9].
Ссылки:
-
1. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Ницше Ф. Сочинения в двух томах. М., 1996. Т. 2. С. 238–406.
-
2. Ницше Ф. Так говорил Заратустра // Там же. С. 5–237.
-
3. Мамардашвили М.К. Очерк современной европейской философии. СПб., 2012. 608 с.
-
4. Ницше Ф. Сумерки идолов // Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. 2. С. 556–630.
-
5. Dudley W. Hegel, Nietzsche and philosophy. Thinking freedom. Cambridge, 2002. 326 p.
-
6. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. С. 245.
-
7. Делёз Ж. Ницше. СПб., 2001. 184 с.
-
8. Ницше Ф. Сумерки идолов. С. 568.
-
9. Там же. С. 579, 583.
-
10. Там же. С. 580.
-
11. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. С. 249.
-
12. Левит К. От Гегеля к Ницше. Революционный перелом в мышлении XIX века. СПб., 2002. С. 573–574 ; Хайдеггер М. Ницше. СПб., 2006. Т. 1. С. 207–211 ; Его же. Слова Ницше «Бог мертв» // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М., 1993. С. 181.
-
13. Ясперс К. Ницше. Введение в понимание его философствования. СПб., 2003. С. 347–354 ; Его же. Ницше и христианство. М., 1994. С. 33–37.
-
14. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. С. 63.
-
15. Там же. С. 62.
-
16. Батай Ж. О Ницше. М., 2010. 336 с.
Список литературы Концепт философа как «последнего» человека во взглядах Ф. Ницше
- Ницше Ф. По ту сторону добра и зла//Ницше Ф. Сочинения в двух томах. М., 1996. Т. 2. С. 238-406.
- Ницше Ф. Так говорил Заратустра//Там же. С. 5-237.
- Мамардашвили М.К. Очерк современной европейской философии. СПб., 2012. 608 с.
- Ницше Ф. Сумерки идолов//Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. 2. С. 556-630.
- Dudley W. Hegel, Nietzsche and philosophy. Thinking freedom. Cambridge, 2002. 326 p.
- Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. С. 245.
- Делёз Ж. Ницше. СПб., 2001. 184 с.
- Ницше Ф. Сумерки идолов. С. 568.
- Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. С. 249.
- Левит К. От Гегеля к Ницше. Революционный перелом в мышлении XIX века. СПб., 2002. С. 573-574
- Хайдеггер М. Ницше. СПб., 2006. Т. 1. С. 207-211
- Ясперс К. Ницше. Введение в понимание его философствования. СПб., 2003. С. 347-354
- Ницше Ф. Так говорил Заратустра. С. 63.
- Батай Ж. О Ницше. М., 2010. 336 с.