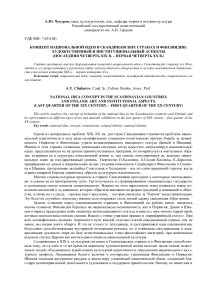Концепт национальной идеи в Скандинавских странах и Финляндии: художественный и институциональный аспекты (последняя четверть XIX в. - первая четверть ХХ в.)
Автор: Чукуров А.Ю.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu
Статья в выпуске: 4 (35), 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу формирования концепта национальной идеи в Скандинавских странах и в Финляндии и его репрезентации в различных видах художественного творчества и музейно-выставочной деятельности в последней четверти XIX в. - первой четверти ХХ в.
Национальная идея, концепт, неоромантизм, культурная идентичность, национальное самосознание
Короткий адрес: https://sciup.org/142142416
IDR: 142142416 | УДК: 008+
Текст научной статьи Концепт национальной идеи в Скандинавских странах и Финляндии: художественный и институциональный аспекты (последняя четверть XIX в. - первая четверть ХХ в.)
Одной из центральных проблем XIX–XX вв. для стран Скандинавии становится проблема национальной идентичности в силу ряда специфических социально-политических причин: борьба за независимость Норвегии и Финляндии, утрата великодержавного имперского статуса Данией и Швецией. Именно в этих странах сложилась уникальная ситуация, когда искусство, визуализируя национальную идею, представленную не на уровне правительственных программ, но почерпнутую в ментальных образах, встраивая ее в структуры повседневной жизни и, тем самым, популяризируя ее, выводит национальную идею на государственный уровень. Творчество П.Халонена, А.Галлен-Каллелы, К.Ларссона, превращение их домов в национальные музеи, создание комплексов Сеурасаари в Финляндии и Скансе-на в Швеции, продуманная застройка Стокгольма и Хельсинки – все это один временной отрезок, когда страны северной Европы стремились обрести культурную идентичность.
Многие социокультурные процессы в странах Скандинавии проходили с некоторым запаздыванием и совсем не по проторенному пути. Так получилось и с формированием «национальных государств» и осознанием самого понятия «национальное». Именно на этом переломном этапе появилось новое поколение писателей и художников, которые обратили внимание на разрыв традиций и инноваций в обществе, а также на ту среду, – прежде всего крестьяне, – которая оказалась за "бортом" индустриализации. Это было не случайно, поскольку именно село сохраняло столь милый сердцу скандинава образ жизни.
Задачи, стоявшие перед скандинавскими странами и Финляндией на рубеже веков, оказались весьма схожими: Финляндия боролась на национальную независимость, как и Норвегия; Дания и Швеция в период предыдущих войн лишились великодержавного статуса и вместе с ним многих территорий, которые испокон века считали своими. Вместе с этими утратами пришел и «периферийный статус». При всех специфических нюансах творческого пути каждой отдельно взятой скандинавской страны, тем не менее, мы видим много общего. И это не только то затухавшая, то разгоравшаяся идея скандинавизма, безусловно способствовавшая внутренней интеграции региона, но и очевидная секуляризация и десакрализация духовного мира на базе экзистенциальных этико-философских категорий, при неизменном высоком статусе Церкви как институции и символа национальной культуры.
Сложившаяся в XIX в. культурная ситуация в Скандинавских странах и в Финляндии способствовала тому, что в одно и то же время на авансцену художественной жизни выходит целая плеяда талантливых людей, объединенных идеей поиска культурной идентичности, определения национального культурного профиля. Лишившаяся былого величия и поочередно утратившая Финляндию и Норвегию Швеция изыскала внутренние ресурсы и явила миру узнаваемый национальный облик, созданный благодаря целенаправленной деятельности художников и поддержке правительства. Никому не известная и интересная лишь узкому кругу специалистов, провинциальная Финляндия неожиданно обрела вполне узнаваемое культурное лицо, заняв собственное место в европейской художественной жизни. Не часто в истории культуры мы встречаем ситуации столь активного поиска национальной культурной идентичности, как это происходило в Финляндии на протяжении всего XIX столетия. До 1917 г. лишенная независимости, постоянно переходившая от России к Швеции и обратно, небогатая на историко-культурные события, Финляндия долгое время оставалась культурной провинцией Европы, которую открыли лишь в эпоху романтизма, как край сельской идиллии с таинственной мифологией.
Дания, лишившаяся в XIX столетии Норвегии и серьезно пострадавшая в ходе наполеоновских войн, также нашла в себе силы восстановиться и заново обрести себя. Не случайно именно Дания становится законодательницей кинематографической моды в первой четверти ХХ в. Перед Норвегией стояли аналогичные финским задачи – фактически почти на пустом месте стране, забывшей о том, что такое независимость, пришлось создавать себя и обретать ту самую «культурную идентичность».
Начиная с эпохи романтизма, с творчества Э. Тегнера и Э. Леннрота, Э. Грига и А. Эленшлегера, мы видим пробуждение интереса к фольклорным мотивам, к старине, в которой эти страны пытаются обрести художественный профиль и национальную гордость. Эта попытка не исчезла вплоть до конца XIX в., наоборот, в конце столетия, в период неоромантизма она обретает второе дыхание. Необходимо пояснить, что неоромантизм обращался, прежде всего, к ценностям семьи и дома, а потому и национальная идея тесно связывается с семейным ценностям. Именно в это время мы наблюдаем окончательную структуризацию концепта национальной идеи, его оформления и репрезентации в художественной жизни. Согласно определению З.Д. Попова и И.А. Стернина концепт – это «дискретное ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой результат познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и несущее комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной информации общественным сознанием и отношении общественного сознания к данному явлению или предмету» [1]. Определений данного понятия в научной литературе представлено много, но именно это мы полагаем наиболее полным и отвечающим задачам исследования. Что касается национальной идеи, то все существующие в настоящее время определения сходятся на том, что национальная идея основана на исторической нации и выражает ментальный смысл ее существования. Другими словами, это такой же концепт, как и любой другой, несущий «комплексную информацию» в полном соответствии с приведенным выше определением.
В конце XIX в. интерес к уходящей народной культуре вспыхивает с новой силой. Возвращаются многие народные ремесла, организуются фольклорные фестивали, возрождаются, казалось бы, утраченные, народные традиции, вспоминаются народные праздники. Трансформации в художественной жизни Скандинавии связаны с именем поэта и писателя К.Г.В. фон Хейденстама. Он создал крупное художественное движение, издав манифест "Ренессанс", и привлек многих видных деятелей искусства к воспеванию народного быта и старины. По словам самого Хейденстама, источником вдохновения для него стали воспоминания о доме его детства. Корнями своими он был связан с землей Ольсхаммера (север Швеции). "Ты спрашиваешь о моем адресе? Он всегда, зимой и летом, и покуда я жив, один и тот же: Ольсхаммер, Аскерсунд, Швеция", – писал Хейденстам З.Топеплиусу. "Впечатления детства – ядро моей жизни" [2]. Так происходит тесное сплетение идеи «малой родины» и национальных корней.
В попытке спасти уходящую старину и народную культуру на рубеже XIX–ХХ вв. создаются музеи под открытым небом. В 1891 г. А. Хазелиус выкупил значительный участок земли в Стокгольме, где и разместил первые экспозиции и, в частности, домик из провинции Мур. А.Хазелиус коллекционировал и изучал народный костюм, что опять же вполне укладывается в общую канву настроений в Скандинавии в ту эпоху. В 1873 г. он организовал выставку под названием «Скандинавское этнографическое собрание». Именно там впервые публика смогла увидеть макеты хуторов и персонажей в народных костюмах. Получив признание, А.Хазелиус удвоил усилия, но теперь ему помогало едва ли не все население Швеции, имевшее что-то, что можно было отослать коллекционеру. И не важно, что именно – предметы быта, одежду, ремесленные изделия – он принимал все, пополняя коллекцию, ибо знал, что скоро все это станет основой нового музея. Музея, посвященного народной культуре. А потом произошло то, чего он так долго добивался: король выделил участок для музея – так появился знаменитый Скансен. Увы, здание музея было открыто только после смерти А. Хазелиуса, в 1907 г.
Скансен моментально обретает невиданную популярность. Он пришелся, что называется, «ко двору». Именно в эти годы Швеция особенно заметно погружается в формирование «национального профиля» и работает над имиджем. Популярность музея – своеобразная лакмусовая бумажка царивших в обществе настроений. Для этого времени весьма характерна активизация обществ борьбы за трезвость, которые буквально ставили перед собой задачу популяризации в народных массах сельской жизни и народного фольклора. Более того, мы видим бурный рост популярности так называемых folkhogskolor (народных высших школ, если пытаться подобрать эквивалент этому термину в русском языке), многие из которых открылись как раз именно в этот период. Кроме того, активно создавались различные кружки и сообщества для взрослых людей, стремившихся заниматься изучением фольклора.
В 1909 г. проф. А.О. Хейкель открывает музей под открытым небом, аналогичный Скансену, – Се-урассаари в Финляндии. Именно в этом году на маленький островок в Хельсинки были доставлены первые деревянные хуторские постройки. Собственно Скансен был не единственным ориентиром для профессора Хейкеля. Все скандинавские страны в этот период обзаводятся подобными музеями, осознавая уникальность национального деревянного зодчества. Старейшее здание из привезенных в Сеурассаари – это церковь Каруна, построенная в 1686 г. Более тридцати крупных объектов собрано на небольшом острове, значительная их часть является комплексами – хутора и усадьбы, состоящие из нескольких строений: амбаров, конюшен, жилых строений, саун и пр.
Биография известной шведской писательницы С. Лагерлёф как и ее творчество весьма показательны в данном контексте – это прежде всего история с обретением утерянного семейного дома Морбакка. Привязанность С. Лагерлёф к родному семейному дому объяснялась как неоромантическими тенденциями того времени, а Лагерлёф являлась наиболее ярким представителем неоромантизма в Скандинавии, так и некоторыми особенностями ее биографии. В 1906 году она выкупила дом своего детства в Мор-бакке, который в 1880-х, после смерти отца, был продан за долги. Лагерлёф выпускает, будучи уже зрелой и известной писательницей, несколько автобиографических книг, в том числе и книгу "Морбакка" – воспоминания о детских года и родном доме, проникнутую глубокой ностальгией. Тема дома в жизни и творчестве – это вообще особое направление скандинавской культуры того времени: К. Ларссон, А. Галлен-Каллела, П. Халонен – все видные художники, скульпторы и архитекторы Северной Европы отстраивают дома в сельских хуторских традициях, удаляясь из шумных городских центров, формируя особый образ и стиль жизни скандинавов. Воплощением национальной идеи можно считать и дом в Сюндборне К. Ларссона и его супруги К. Ларссон. В 1889 г. они получают в подарок от отца Карин дом в Сундборне (Далекарлия), где с 1901 года уже живут постоянно, и которому суждено было стать воплощением концепта «национальной идеи» для Швеции. Их дом уже традиционно считается образцом «шведского стиля», а его хозяева – едва ли не основоположниками шведского дизайна, поскольку при оформлении дома молодые супруги использовали новаторские по тем временам приемы.
Интерес к народной культуре воплощался в самых разнообразных формах и материалах. Финская фабрика «Арабиа» начала выпуск посуды, условно объединенной в серию «Фенниа», где мы видим очевидное обращение к народному искусству, что было так актуально для Финляндии тех лет. Эскизы создавались финскими архитекторами Саариненом и Линдгреном. Г.Фар-Беккер обращает внимание на существующие предположение, что в этом мог принимать участие Галлен-Каллела. Естественно, изделия на фабрике расписывались от руки, по другому быть попросту не могло. Поскольку Финляндия стремилась выйти на европейский рынок, то наблюдается попытка увязать национальные традиции с современным европейским искусством [3].
В Норвегии в это время активно работает «Группа Флексум» – сообщество творческих деятелей Г. Мунте, М. Веренскъёльда, Х. Скредсвига – которая в свою очередь внесла существенный вклад в развитие скандинавского декоративно-прикладного искусства. Тогда же, на переломе столетий, художник А. Норманн воспевает красоту норвежской природы и величие фьёрдов. Бесконечные водные глади, серые остроконечные скалы, повседневная жизнь рыбаков, сельские пейзажи – ничто не ускользает от внимания художника.
На пересечении различных тенденций – от национального романтизма до "движения искусств и ремесел" – и во многом благодаря их теснейшему переплетению и взаимодополнению возникает архитектурное бюро "Гизеллиус, Линдгрен и Сааринен". Бюро выигрывает конкурс на строительство финского павильона для парижской Всемирной выставки 1900 года, что приводит к росту известности и популярности. Это был невероятный успех, особенно значимый в то время, когда Россия оказывала колоссальное давление на Финляндию, пытаясь проводить политику русификации. Это событие определило дальнейший ход развития зодчества в Финляндии. В годы формирования национальной идентичности авторитет этих архитекторов становится непререкаемым, а сами они превращаются в «живые символы» эпохи.
Усадьба Хвиттрёск становится материальным выражением их единства и символом крепнущего национального духа Финляндии. Не только сам дом, но и предметы мебели создавались по индивидуальным проектам. Лампы и канделябры проектировал сам Сааринен. В отделке дома преобладает дерево, что характерно для традиционной финской архитектуры, резные панели, тяжелые резные балки.
Стены, если они не обиты деревянными панелями, а оштукатурены, декорированы национальным орнаментом с преобладанием растительных мотивов и архаической плетенки [4].
В эпоху, когда неоромантизм завоевывает прочные позиции в Скандинавии, тесня реализм, а где-то и дополняя его, начинается творческий путь двух талантливых художников, определивших векторы развития финской художественной жизни на долгие годы, и создавших узнаваемый образ Финляндии, – А. Галлен-Кллелы и П. Халонена. Для творчества этих художников понятие «эпичность» во многом станет ключевым. Возможно, причину тому следует искать также во влиянии «Калевалы» на их творчество. Одновременно это то, что будет роднить полотна художников, придавать им стилистическую схожесть. Достаточно сравнить несколько полотен: «Первопроходцы в Карелии» (1900) и «Уходя на войну» (1896) П. Халонена и «Разбитая лодка» (1907), а также фрески «Весна» (1903) и «Стройка» (1903) А.Галлен-Каллелы. Люди, валящие многовековые деревья в лесу, мальчик, запускающий змея, старик, чей взгляд устремлен за пределы полотна, – все они безошибочно определяются как часть финской культуры. Художникам удается великолепно передать как настроение своих героев, так и общую атмосферу. Обращает на себя внимание то, как П. Халонен, не прорисовывая лиц, сообщает зрителю чувства героя. Так, на картине «Короткий путь» центральный персонаж – это женщина, которая собирается переходить по бревнам через ручей. На минуту она задержалась и обернулась. Мы не видим черт ее лица, но чувствуем ее взгляд, устремленный на нас. Холодная серая палитра, маленькие приземистые домишки, низкое серое небо в тон выцветшим старым серо-синим одеждам женщины – все это дает ощущение безысходности и печали, что не часто встретишь на полотнах Халонена и что, в свою очередь, сближает это произведение с творчеством русских передвижников. Сравним тематику произведений Халонена и Каллелы: это семья, дом, дети, быт, т.е. все то, что способно передать национальный колорит повседневной жизни финской глубинки, поскольку романтизм и неоромантизм XIX столетия в Скандинавских странах и Финляндии позиционировали себя как движения, обращенные именно к национальным корням.
Первая четверть ХХ столетия продолжила дело форминования национальной идеи, обогатив ее новыми возможностями самовыражения. На рубеже веков наиважнейшим элементом структурирования национальной идеи становится кинематограф. Это хорошо видно на примере Швеции. В эпоху немого кино, на рубеже 1-го и 2-го десятилетий XX в., Швеция считалась одной из ведущих кинематографических стран мира. В 1919 г. создается знаменитая шведская кинокомпания – Svensk Filmindustri. Не случайно, что первые фильмы этой компании выдержаны в духе национального романтизма. Режиссерами М. Стиплером и В. Шёстрёмом был создан ряд фильмов, призванных пропагандировать шведскую национальную идею, но это ничуть не отразилось на высоком качестве исполнения. Вполне естественно, что многие из этих кинофильмов были сняты по книгам шведской писательницы, лауреата Нобелевской премии, С. Лагерлёф, например, "Возница" (Korkarlen) и "Деньги господина Арне", уже к тому времени признанной легенды шведского неоромантизма.
С 1910-х гг. вплоть до Второй мировой войны весьма качественную кинематографическую продукцию выпускает Дания, хотя фильмы этой страны и не столь известны и многочисленны. Первый датский фильм, что показательно, – совершенно национальный по духу, «Путешествие на гренландской собаке», – был снят в 1896 г. режиссером П. Эльфетцем. В 1906 г. была основана первая кинематографическая компания «Нордиск фильм», существующая по сей день.
Одним из первых, и, по мнению многих исследователей, в полном смысле слова первым фильмом Норвегии, становится социально окрашенный фильм «Проклятие нищеты» Х.Н. Роеде (1911). Норвегия во многом ориентировалась на Данию. Истинно норвежские фильмы стали сниматься после 1920 г., когда в этой стране появилось профессиональное киноискусство. И мы видим коренной перелом. Впервые действие происходит именно в Норвегии с ее узнаваемыми пейзажами и обретает истинно норвежский колорит. В частности, фильм 1920 г. Р. Брейстейна «Цыганка Анна». Тогда же начинается экранизация великого столпа норвежской художественной культуры Г. Ибсена, что, возможно, было связано с выходом в активную творческую жизнь его внука, ставшего режиссером.
В начале Первой мировой войны Скандинавские страны сразу заявили о своем нейтралитете. Однако воюющие державы обоих лагерей начали осуществлять сильное давление. Нейтралитет Скандинавских стран носил различный характер: Норвегия оказалась в сфере интересов Великобритании, а Дания и Швеция – Германии. На протяжении всех военных лет через территорию этих стран осуществлялся транзит. Никто не мог чувствовать себя в безопасности. Возможно, именно этот страх еще более сплотил североевропейские нации.
Именно в это время формируются своеобразные морально-нравственные заслоны на пути эмиграции. Швеция, откуда традиционно наблюдался мощный отток населения в Северную Америку, создает в 1907 г. общественную организацию под названием «Общество против эмиграции», и именно в разгар
Первой мировой войны оно переживает свой расцвет. Благодаря тому, что Скандинавские страны активно торговали с воюющими странами, им удавалось сохранять достаточно высокий уровень жизни на протяжении почти всего военного периода. В этом отношении очень показателен пример Швеции, для которой традиционные партнерские отношения с Германией перестали приносить привычный доход, когда та начала выдыхаться в условиях войны на два фронта и ее поражение стало очевидным. Однако и Норвегия также переживала не лучшие времена, хотя и сохраняла верность Великобритании: экономика ее была подорвана затянувшейся подводной войной.
Послевоенный период ознаменовался затяжной депрессией, но это вовсе не означало стагнацию в динамике формирования национальной идеи. Мы не найдем крупных дизайнерских проектов в это время, однако формируется иная, не менее интересная тенденция. В связи с нехваткой денег и, одновременно, жилья, акцент был сделан на строительстве многоквартирных жилых домах. Удивительно, но эти экономичные и малозатратные дома не уродовали кварталы столиц Скандинавских стран и не обезличивали их города. Такие дома строились не только из камня, но и из дерева. Деревянные многоквартирные дома по первоначальной идее носили временный характер. Однако прошли годы и некоторые из них превратились в дорогое и модное жилье. Все дома, вне зависимости от того, из какого материала они строились, были выдержаны в национальных традициях и сохраняли национальный колорит.
Мы сталкиваемся с уникальным явлением – в Скандинавии и Финляндии была создана колоссальная пропагандистская машина без каких-либо прямых указаний со стороны правительства и без какого бы то ни было «министерства пропаганды». Как и положено любой пропагандистской машине, особое внимание она уделяет проблемам воспитания. В Скандинавских странах в то время работает целая армия писателей, поэтов и музыкантов, чья деятельность направлена на младший и средний школьный возраст, а художественные тексты С. Лагерлёф и Э. Бескоф становятся программными. В Финляндии к этому подошли немного позже, поскольку, будучи в составе Российской империи, эта страна не могла самостоятельно определять образовательную политику.
Все вышеперечисленное должно было создать некий полный и законченный «образ для других» и, возможно, «образ для себя» – образ единых наций, фактически лишенных внутренних противоречий, чья повседневная жизнь базируется на глубинных традициях, прочных межпоколенных связях, наций, гордящихся своим прошлым, своим наследием. И, возможно, этот образ, созданный в сознании народа, позволил без серьезных потерь пройти очень непростую первую половину ХХ в.