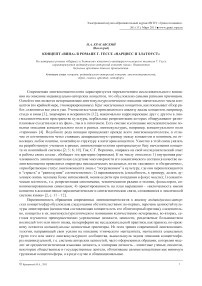Концепт «вина» в романе Германа Гессе «Нарцисс и златоуст»
Автор: Красавский Николай Алексеевич
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 1 (11), 2011 года.
Бесплатный доступ
На материале романа «Нарцисс и Златоуст» известного швейцарско-немецкого писателя Германа Гессе характеризуется индивидуально-авторский концепт «вина». Выявляются базисные архетипы данного произведения.
Концепт, индивидуально-авторский концепт, лингвоконцептология, образ, символ, архетип, метафора
Короткий адрес: https://sciup.org/14821627
IDR: 14821627
Текст научной статьи Концепт «вина» в романе Германа Гессе «Нарцисс и златоуст»
В предлагаемой статье выявляются базисные архетипы – «анима» и «анимус» – и характеризуется индивидуально-авторский концепт «вина» в романе Г. Гессе «Нарцисс и Златоуст». Выбор для интерпретативного анализа данного концепта обусловлен его значительным местом в творчестве Г. Гессе – крупнейшего писателя прошлого века, повлиявшего своими произведениями и деятельностью на литературу, культуру не только европейского континента, но и в целом всего мира. Интеллектуал Г. Гессе на протяжении всей своей жизни обращается к проблеме становления человека в социуме, к анализу поступков людей, выявлению мотивов их действий и т.п. Будучи тонким психологом, обладая колоссальными знаниями культур разных народов, их религий, обычаев, глубоко разбираясь в истории формирования цивилизации, в законах ее функционирования, писатель ищет причины человеческого обезличивания, потери индивидом своей «самости», пытается найти пути к ее реконструкции.
Методологически важно заметить, что индивидуально-авторские концепты нам представляются своеобразной производной человеческого бессознательного – архетипов (древних символов). Многие ученые отмечают панкультурный характер архетипов, т.е. «образных знаков» (в психоаналитической терминологии), родившихся в разных цивилизациях в разное время, по своей сути, содержательно совпадающих [14, с. 74]. Они универсальны. Символы, равно как и мифы, согласно К. Юнгу, «могут автохтонно возникать во всех уголках земного шара и все-таки оставаться тождественными, потому что первоисточником их является одно и то же, всюду распространенное, бессознательное человека, содержания которого бесконечно менее различны, нежели расы и индивиды» [13, с. 161]. На данных архаичных символах (архетипах) психологически держится сама человеческая цивилизация. Архетипы «рассеяны» в культурном пространстве социума, в том числе и в его текстовом пространстве. Их поиск и описание важны для ученых, в особенности для тех лингвоконцептологов, которые фокусируют свои исследовательские приоритеты на изучении индивидуально-авторских концептосфер.
Высокохудожественное изображение «действия» архетипов в произведениях Г. Гессе – специфическая черта идиостиля этого писателя, привлекающая внимание не только филологов, но и психоаналитиков, социологов, философов. Проявление архетипов как элементов области бессознательного четко закрепляется в эмоциональной составляющей речевых поступков главных персонажей произведений швейцарско-немецкого писателя, в частности, в таком эмоциональном концепте, как «вина», обладающего в его творчестве статусом доминантного. Однако прежде чем рассмотреть этот концепт в романе «Нарцисс и Златоуст», кратко остановимся на общетеоретической проблеме критериев выделения базисных концептов. Исследователь, поставивший перед собой задачу описания концептосферы конкретной языковой личности, столкнется, по нашему мнению, как минимум с проблемными вопросами следующего порядка: какова техника, процедура выявления базисных индивидуально-авторских концептов – можем ли мы полагаться, например, исключительно на квантитативные показатели вербализации определенного понятия, идеи, которые эксплицируются в авторских текстах? Следует ли учитывать суждения специалистов о творчестве, его идейном содержании? Как быть в ситуации множественности толкования тех или иных понятий, идей автора (например, разные суждения о творчестве Ф. Ницше)?
По нашему мнению, лингвоконцептолог, решающий задачу выявления психологической, более того, культурной значимости того или иного концепта для индивидуально-авторской концептосферы, помимо учета суждений специалистов (в частности, литературоведов, философов) о творчестве автора, может опираться и на квантитативные показатели вербализации концепта. Целесообразность, эффективность применения названных критериев нами была показана ранее в одной из наших публикаций [7, с. 61 – 71]. В частности, был установлен высокий индекс частотности употребления лексем Leid, Schmerz и их дериватов (74 словоупотребления), обозначающих и выражающих концепт «душевные страдания» в романе «Степной волк» [15]. При этом нужно заметить, что концепт выражается не только лексемами, совпадающими с самим его наименованием, но и многочисленными синонимами, тематическими группами и рядами, лексемами, его косвенно обозначающими, т.е. словами, выступающими «в норме» номинантами других концептов. В качестве примера приведем лексемы Herz – сер- дце (индекс частотности этого слова и его производных равен 50) и Seele – душа (индекс частотности 70 словоупотреблений в романе «Степной волк»), выражающих в указанном произведении концепт «душевные страдания» [7, с. 61 – 71].
В «Нарциссе и Златоусте», судя по квантитативным показателям, значимым для индивидуальноавторской картины мира Г. Гессе оказался концепт «вина». Высокий индекс его обозначений и экспликаций мы объясняем актуализацией в этом романе двух важнейших архетипов – анима и анимус . Эти термины – категориальный каркас аналитической психологии К. Юнга. Согласно юнгианской архетипической теории, человеческая личность представляет собой, на самом деле, целый набор архетипических фигур – «тень, персона, эго (герой), анима (женская душа), анимус (мужская душа), пуэр (вечная юность), сенекс (мудрый старец), трикстер (плут), великая мать, божественное дитя» [11, с. 38]. Личность многолика, множественна. Дж. Хиллман, постюнгианец, образно сравнивает поведение человека с игрой в театре: «Личность является театром архетипических фигур, часть из которых располагается на переднем плане внизу и в центре, другие ожидают за кулисами, а само состязание демонстрирует героические, коммерческие, комические, трагические и фарсовые темы» [11, с. 36].
Многие из указанных выше архетипических фигур узнаваемы в главных персонажах романа. Так, в Нарциссе, архетипическом антагонисте Златоуста, читатель обнаруживает анимус (мужское начало) и сенекс (мудрость). Архетипы же «анима» и «дитя» мы видим в Златоусте. Г. Гессе удивительно глубоко и ярко показывает на примере дружбы Нарцисса и Златоуста целостность «театра архетипических фигур». Нарцисс и Златоуст дополняют друг друга, компенсируя в себе невыраженность феминности в первом случае и, соответственно, маскулинности – во втором. В разговоре со Златоустом Нарцисс произносит: Es ist nicht unsere Aufgabe, einander näherzukommen, sowenig wie Sonne und Mond zueinander kommen oder Meer und Land. Wir zwei, lieber Freund, sind Sonne und Mond, sind Meer und Land. Unser Ziel ist nicht, ineinander überzugehen, sondern einander zu erkennen und einer im andern das sehen und ehren zu lernen, was er ist: des andern Gegenstück und Ergänzung [16] . Не по годам мудрый Нарцисс видит в Златоусте, изначально решившего по примеру своего старшего товарища, наставника и учителя стать ученым и священником, светского человека, человека, не обладающего духом ( Geist ) – обязательным признаком маскулинности, а значит, и учености, требующей отрешенности и самопожертвования: Die Naturen von deiner Art, die mit den starken und zarten Sinnen, die Beseelten, die Träumer, Dichter, Liebenden, sind uns andern, uns Geistmenschen, beinahe immer überlegen. Eure Herkunft ist eine mütterliche. Ihr lebet im Vollen, euch ist die Kraft der Liebe und des Erlebenkönnens gegeben. Wir Geisti-gen <…> leben nicht im Vollen, wir leben in der Dürre. Euch gehört die Fülle des Lebens, euch der Saft der Früchte, euch der Garten der Liebe, das schöne Land der Kunst. Eure Heimat ist die Erde, unsere die Idee. Eure Gefahr ist das Ertrinken in der Sinnenwelt, unsere das Ersticken im luftleeren Raum. <…> Du schläfst an der Brust der Mutter, ich wache in der Wüste (Там же). Г. Гессе, изображая беседы протагонистов романа, часто противопоставляет их – Нарцисса, сильного духом ( Geistesmensch ), обладающего волей, способного стать и впоследствии ставшего аскетом (мужской путь – анимус ), и Златоуста, отклонившего путь аскета, выбравшего чувственную жизнь (женское начало – анима ), не сумевшего психологически вырваться из унаследованной им чувственной сферы своей матери, олицетворяющей для него всех женщин с их колдовскими чарами.
Из этих двух персонажей более интересен внутренний мир, мир постоянных переживаний и терзаний Златоуста, что обусловлено его глубокой, противоречивой натурой. По сути, в этом образе изображена борьба двух начал – женского, материнского и мужского, отцовского. Привезенный в монастырь мальчик должен стать по воле его строгого отца священником с тем, чтобы всю свою жизнь замаливать грехи своей рано умершей матери – танцовщицы-цыганки, не придерживавшейся строгих моральных правил в обществе, опозорившей имя мужа. Златоуст, мальчик школьного возраста, если вспомнить начало романа, искренне хочет выполнить волю сурового отца, которого уважает и в то же время боится. Однако по мере взросления Златоуст начинает смутно осознавать противоречивость своей натуры, глубокий внутренний конфликт, причины переживания которого понимает его наставник Нар- цисс, увидевший в своем ученике, товарище раздвоенность личности: Es war Eva, es war die Urmutter, die dahinterstand. Wie aber war es möglich, dass in einem so schönen, so gesunden, so blühenden Jüngling das erwachende Geschlecht auf so erbitterte Feindschaft stieß? Es musste ein Dämon am Werke gewesen sein, ein heimlicher Feind, dem es gelungen war, diesen herrlichen Menschen in sich zu spalten und mit seinen Ur-trieben zu entzweien [16].
Пробуждающийся интерес Златоуста к чувственной (sinnlich) мирской жизни приводит его к нарушению правил общественной жизни монастыря: юноша совершает ночную вылазку со своими сверстниками в соседнюю деревню, где знакомится с девушкой. Это знакомство, первый поцелуй приносят ему мучительные страдания. Он чувствует себя виноватым перед отцом. Златоуст, открывший теперь для себя светскую жизнь, внутренне вступает в конфликт с отцом, образ которого все еще прочно держится в сознании сына, блокируя область анима. В мальчике идет борьба между женским и мужским началами. Воля ( Wille ), сила духа, которыми должен обладать мужчина, – это символы отца, в то время как стремление к чувственной жизни есть проявление материнского, женского начала в Златоусте: Komm wieder! – flüsterte sie, und ihr Mund berührte den seinen in einem kindlichen Kuß. Schnell lief er den andern nach durch den kleinen Garten, taumelte über die Beete, roch feuchte Erde und Mist, riss sich die Hand an einem Rosenstrauch wund, kletterte über den Zaun und trabte den andern nach zum Dorf hin-aus, dem Walde entgegen. – Niemals mehr! – sagte befehlend sein Wille. – Morgen wieder! – flehte schluch-zend sein Herz (Там же).
Чувство вины, испытываемое главным персонажем романа перед строгим отцом-моралистом, дополняется траекторией сложного переплетения этим же чувством, переживаемым и в отношении к матери. Златоуст открывает для себя светлый образ матери-женщины ( blonde strahlende Frau ), образ, им, как он считает, непростительно забытый: <…> und nochmals erschien in seiner Seele die blonde strahlen-de Frau, die Mutter; wie Föhnwind ging ihr Bild durch ihn hin, wie eine Wolke von Leben, von Wärme, von Zärtlichkeit und inniger Mahnung. O Mutter? O wie war es möglich gewesen, dass er sie hatte vergessen kön-nen! (Там же). Ее образ ассоциирован в сознании Златоуста с теплым ветром, с нежно-теплым облаком, напоминающем ему его счастливые детские годы.
Противостояние в сознании юноши анимы и анимуса – это бескомпромиссная борьба души (женской) (Seele) и духа (мужского) (Geist): <…> du bist erwacht, und du hast ja jetzt auch den Unterschied zwi-schen dir und mir erkannt, den Unterschied zwischen mütterlichen und väterlichen Herkünften, zwischen Seele und Geist (Там же) . Интуитивно, на уровне бессознательного ( mit dem tieferen Wissen des Blutes) он чувствует в себе материнскую участь, принимает ее, отвергая тем самым отцовский путь ( der Geist, der Wille, war nicht seine Heimat) : Tod und Wollust waren eines. Die Mutter des Lebens konnte man Liebe oder Lust nennen, man konnte sie auch Grab und Verwesung nennen. <…> Er wusste, nicht mit Worten und Bewusstsein, aber mit dem tieferen Wissen des Blutes, dass sein Weg zur Mutter führe, zur Wollust und zum Tode. Die väterliche Seite des Lebens, der Geist, der Wille, war nicht seine Heimat (Там же) . Непреодолимое стремление Златоуста приблизиться к образу матери, желание раскрыть душевные порывы, испытать жизнь во всех ее проявлениях приводят его к глубокой рефлексии – переживанию вины и греха, вины наследственной: Es war Sünde, es war Ehebruch, noch vor kurzem hätte er sich lieber töten lassen, als diese Sünde zu begehen. Und jetzt war es schon die zweite Frau, auf die er wartete, und sein Gewissen war still und ruhig. Das heißt, ruhig war es vielleicht doch nicht; aber es war nicht der Ehebruch und die Wollust, wegen der sein Gewissen manchmal unruhig war und Last trug. Es war etwas anderes, er konnte es nicht mit Namen nennen. Es war das Gefühl einer Schuld, die man nicht begangen, sondern schon mit sich zur Welt gebracht hat. Vielleicht war es dies, was in der Theologie Erbsünde genannt wurde? (Там же). Этот пассаж романа примечателен тем, что в нем иллюстрируется психологический комплекс вины как следствие проявления архетипа, феномена из области бессознательного, пленником которого является человек.
Причиной глубоких переживаний Златоуста, как видно из сюжета романа, служат его воспоминания о матери, символизирующей, с одной стороны, его защиту, а с другой – чувственность, естественность. Локус его переживаний – душа (Seele): Schon war der Blitz wieder erloschen, das geheimnisvol- le Muttergesicht verschwunden. Aber tief zuckte sein fahles Leuchten in Goldmunds Seele fort, eine Woge von Leben, von Schmerz, von würgender Sehnsucht [16].
На протяжении всего произведения Златоуст, страдающий комплексом раздвоенного сознания, постоянно испытывает противостояние анимы и анимуса. Так, уже в самом конце романа мы видим возвращающегося в монастырь к служащему в нем Нарциссу Златоуста, смертельно уставшего от жизни, психически и соматически больного. На смертном одре он рассказывает своему старшему товарищу о постоянной внутренней борьбе в его душе образа матери и образа отца, конфликте анимуса и ани-мы: Es geht mir mit dem Geist und mit der Gelehrsamkeit ähnlich, wie es mir mit meinem Vater gegangen ist: ich glaubte ihn sehr zu lieben und ihm ähnlich zu sein. <…> Aber kaum war meine Mutter wieder da, so wus-ste ich erst wieder, was Liebe ist, und neben ihrem Bild war das des Vaters plötzlich klein und unfroh und bei-nah widerwärtig geworden. Und jetzt neige ich dazu, alles Geistige als väterlich, als unmütterlich und mut-terfeindlich anzusehen und es ein wenig gering zu achten (Там же) . Златоуст признается, что, несмотря на уважение и страх к своему отцу, олицетворявшему дух и волю (анимус), он не мог противостоять мирским желаниям, олицетворенными чувственностью матери (анима) – Sie ist überall. Sie war die Zigeu-nerin Lise, sie war die schöne Madonna des Meisters Niklaus, sie war das Leben, die Liebe, die Wollust, sie war auch die Angst, der Hunger, der Trieb. Jetzt ist sie der Tod, sie hat ihre Finger in meiner Brust (Там же).
Концепт «вина» находит в романе «Нарцисс и Златоуст» яркое метафорическое воплощение. Известно, что лингвоконцептологи [1; 5; 9] при интерпретации концептов обращаются к анализу метафор, их выражающих. Расшифровка метафорической системы языка, в том числе и идиолекта, позволяет увидеть сложную взаимосвязь формирующих его концептосферу составляющих, часто четко очерченные контуры здания иерархии культурных ценностей индивидуума. Отсюда и повышенный интерес ученых к исследованию метафоры, которая, по образному выражению Х. Ортега-и-Гассета «удлиняет “руку” интеллекта; <…> ее роль может быть уподоблена удочке или винтовке» [8, с. 72]. Метафора несет в себе чрезвычайно большой прагматический и эвристический потенциал, заложенный в ее природе: она самым неожиданным образом обнажает неизвестные нам ранее отношения между предметами мира. Метафорические описания номинируют увиденные человеком новые смыслы. Ассоциативность нашего языкомышления ведет к установлению формальных и функциональных сходств, связывающих предметы мира, к выявлению новых связей между ними. Обнаружение подобного рода ассоциативных отношений всегда культурно обусловлено: в социуме в разное время его существования легко обнаруживаются предпочтения в выборе объектов метафоры. Ими оказываются психологически, в целом культурно наиболее релевантные феномены с точки зрения того или иного человеческого сообщества на конкретном историческом временном промежутке его развития. Отсюда очевидна важность лингвокультурологического анализа косвенных номинаций (в особенности метафорических) для изучения прежде всего духовной жизни социума. За сложно организованной метафорической системой стоит образ – инструмент и в то же время результат мыслительной деятельности творческого человека – в особенности художника слова. Очевидно, что Г. Гессе отличает не только умение глубоко мыслить, быть философом и психоаналитиком, но и талант создавать через метафоры уникальные образы, освоение которых читателем позволяет увидеть ярко выраженную авторскую интерпретацию человеческой жизни, замысловатую мозаику человеческих взаимоотношений, мотивов и поступков.
Переживаемая вина, как показывает наш анализ, ассоциируется в сознании Златоуста с:
-
– пастью ада ( dass mich dann die Sünde wie ein Höllenschlund einschlucken und nie mehr herausge-ben werde );
-
– огнем ( Hier war ihm zu lieben erlaubt, war ihm erlaubt, ohne Sünde sich hinzugeben, sein Herz einem bewunderten, älteren, klügeren Freunde zu schenken, die gefährlichen Flammen der Sinne in edle Opferfeu-er zu verwandeln, zu vergeistigen );
-
– образом девушки ( nicht das bißchen Ungehorsam war es, das mein Gewissen belud. Es war etwas an-deres. Es war das Mädchen );
-
– обликом матери ( Nicht nur alles Holde war in der Mutter, nicht nur süßer blauer Liebesblick, hol-des glückverheißendes Lächeln, kosende Tröstung; in ihr war, irgendwo unter anmutigen Hüllen, auch alles Furchtbare und Dunkle, alle Gier, alle Angst, alle Sünde… ) [16].
Роман «Нарцисс и Златоуст» – оригинальное по замыслу и исполнению произведение. Его создатель – тонкий психолог, увидевший сложные пути развития психической деятельности человека, показавший замысловатые конструкции противоречиво организованной человеческой души – анимы и анимуса. Г. Гессе умело, искусно посредством своеобразной метафорики рисует «внутренние образы» (в юнгианской терминологии и понимании), которыми живет, дышит бессознательное в человеке. Нередко оно, бессознательное, берет верх над сознанием. Г. Гессе, человеку с повышенной чувствительностью, с высокой психоаналитической способностью, удается глубоко проникнуть в проблему противостояния в человеке рефлексии и чувств, борьбы в нем различных архетипических фигур.
Список литературы Концепт «вина» в романе Германа Гессе «Нарцисс и златоуст»
- Воркачев С.Г. Любовь как лингвокультурный концепт: монография. М.: Гнозис, 2007.
- Воркачев С.Г. Правды ищи: идея справедливости в русской лингвокультуре: монография. Волгоград: Парадигма, 2009.
- Дженкова Е.А. Концепты «стыд» и «вина» в русской и немецкой лингвокультурах: дис. канд. филол. наук. Волго-град, 2005.
- Долгова И.А. Концептуальное поле «терпение» в английской и русской лингвокультурах: автореф. дис. канд. филол. наук. Волгоград, Перемена, 2006.
- Карасик В.И. Языковая кристаллизация смысла: монография. Волгоград, Парадигма, 2010.
- Карасик В.И. Культурные доминанты в языке//Языковая личность: культурные концепты. Волгоград: Перемена, 1996. С. 3 -16.
- Красавский Н.А. Концепты «Душевные переживания» и «Одиночество» в романе Г. Гессе «Степной волк»//Моделирование речевой деятельности в лингвистике и лингводидактике: коллект. монография. Волгоград: Парадигма, 2010. С. 61 -71.
- Ортега-и-Гассет Х. Две великие метафоры//Теория метафоры М.: Прогресс, 1990. С. 68 -81.
- Пименова М.В. Душа и дух: особенности концептуализации. Кемерово, Графика, 2004.
- Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Яз. рус. культуры, 1997.
- Хиллман Дж. Архетипическая психология/пер. на рус. яз. В.В. Зеленского. СПб., 1996.
- Храмова Ю.А. Концептуальная диада «лицемерие-искренность» (на материале русского и английского языков): автореф. дис. канд. филол. наук. Волгоград, Перемена, 2010.
- Юнг К. Г. Психологические типы/пер. на рус. яз. С. Лорие, В.В. Зеленского. М.: Университ. кн., 1996.
- Ekman P. The repertoire of nonverbal behavior//Nonverbal communication, interaction, and gesture. Selections from Semiotica. Paris: The Hague -N.-Y.: Mouton Publishers. 1981. P. 57 -106.
- Hesse H. Der Steppenwolf. URL: www.hesse.ru.
- Hesse H. Narziss und Goldmund. URL: www.hesse.ru.