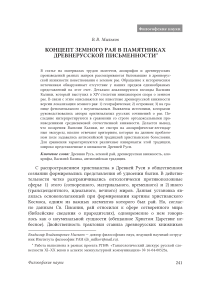Концепт земного рая в памятниках древнерусской письменности
Автор: Мильков Владимир Владимирови
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 6 (71), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье на материалах трудов экзегетов, апокрифов и древнерусских произведений разных жанров рассматриваются бытовавшие в древнерус- ской книжности повествования о земном рае. Обращение к историческим источникам обнаруживает отсутствие у наших предков единообразных представлений на этот счет. Детально анализируются взгляды Василия Калики, который выступил в XIV столетии инициатором спора о земном рае. В связи с этим описываются все известные древнерусской книжности версии локализации земного рая: 1) географическая; 2) островная; 3) на гра- нице феноменального с ноуменальным. Выявлены источники, которыми руководствовались авторы оригинальных русских сочинений о рае. По- следние интерпретируются в сравнении со строго ортодоксальными про- изведениями средневековой отечественной книжности. Делается вывод, что воззрения Василии Калики, не смотря на апокрифически-легендар- ные экскурсы, вполне отвечают критериям, которые на данном проблем- ном поле задавались антиохийской традицией христианского богословия. Для сравнения характеризуются различные инварианты этой традиции, широко представленные в книжности Древней Руси.
Древняя русь, земной рай, древнерусская книжность, апокрифы, василий калика, антиохийская традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/140190241
IDR: 140190241
Текст научной статьи Концепт земного рая в памятниках древнерусской письменности
перед необходимостью обсуждать вопрос: «Чувственный рай, или раз-умен?»1. В середине XIV столетия между новгородским владыкой Василием Каликой (1330–1352) и тверским епископом Федором Добрым (упоминается с 1334 г.; оставил епархию в 1360 г.) даже разразился спор о «честномъ раю»2. Чтобы понять позиции спорящих сторон, полезно данные «Послания о рае» сопоставить с тем, как проблема рая трактовалась в других произведениях древнерусской книжности. Рассмотрим книжный контекст аргументов земной версии локализации рая, активным апологетом которой выступал Василий.
Из «Послания о рае» следовало, что какие-то силы в Твери настаивали на существовании мысленного рая, считая земной рай «погибшим». Василий узнал о происходивших в Твери спорах («распре») о рае и, ревнуя об истине, решил вмешаться и изложить соответствующее «Божественному закону» представление о рае. По словам новгородского епископа, тверской святитель признавал существование только мысленного рая, а рай земной, в котором жил Адам, считал погибшим: «Слыщахъ, брате, что повѣстуеши “Рай погиблъ, в нем же был Адамъ”»3.
Непосредственно опровержению этих двух пунктов воззрений и посвящена большая часть «Послания». Чтобы разубедить своего оппонента в гибели рая, Василий Калика разворачивает систему доказательств. Первая группа аргументов — от Писания. Владыка обращает внимание, что, согласно Библии, рай был насажен на востоке в Эдеме, а свидетельств о гибели рая в Писании нет. В своей аргументации он отталкивался от библейского рассказа о насаждении рая на Востоке (Быт. 2:9). Кроме этого, он обращает внимание и на другие природные черты рая, и с этой целью отсылает к паремейным текстам, которые свидетельствуют об истоке четырех великих рек из райских пределов. Здесь основанием служили тексты Быт. 2:10. С позиций следования библейскому первоисточнику, автор «Послания» напоминает, что именно в сотворенный Богом рай был введен человек (Быт 12:15), а затем, по вине Евы прародители оказались вне его врат, затворенных после грехопадения4. Ветхозаветный сюжет (Быт. 3:23–24) получил развитие в поэтическом «Плаче Адама о рае», который восходит к апокрифам об изгнании Адама и Евы из рая5. Завершает данный блок «Послания» напоминание об обещании Господа не погубить свое создание и в разум истины привести. Это трактуется как обещание вновь ввести человека в рай: «обѣща ему паки внити в раи»6. Согласно Василию, Господь после грехопадения Адама специально сохраняет рай, чтобы человечество, познав истину, вновь его обрело.
Далее в полемическом сочинении Василия приводятся апокрифические свидетельства, указывающие на существование земного рая. К верховьям Нила владыка относит область жительства «рахман» и уточняет, что область эта находится близ возвышающихся от земли до неба гор, которые образуют «мѣсто непроходимо есть человѣкомъ»7. Комментаторы видят в этом мотиве влияние «Хождения Зосимы к рахманам»8, хотя описание праведного народа в окраинной части Вселенной встречается также в хрониках и «Александрии». Именно описания похода Александра Македонского связывают обитание рахман с райскими реками, а редакция С Псевдокалисфена подобно «Посланию» помещает область блаженных в Африке9. А. Н. Веселовским установлено влияние псевдока-лисфеновской Александрии на «Хождение Зосимы», но о райских реках в нем речи не идет. Согласно апокрифическому повествованию о путешествии Зосимы, страна праведных локализуется за водной преградой
(рекой Евмасион)10. Следовательно, больше оснований видеть влияние какой-то версии повествования о походе Александра, а не апокрифа.
Использование новгородским владыкой материалов двух других апокрифов из цикла о земном рае с целью доказательства его существования — бесспорно. Он ссылается на данные из «Хождения Агапия в рай», согласно которому визионер встретил в раю Илию и вынес на землю кусочек райского хлеба11. В пользу реальности земного рая, по Василию, свидетельствует факт пребывания близ его пределов святого Макария — персонажа апокрифического «Жития Макария Римского»12. Наконец, упоминается Ефросин, который принес в свой монастырь райские целебные яблоки. Этот апокрифический мотив заимствован автором «Послания» из проложного жития, приуроченного к 11 сентября. В этом же ряду оказывается апокрифический сюжет из «Успения Богородицы», в котором повествуется о принесенной ангелом ветви из рая13.
«Хождение Агапия в рай», «Хождение Зосимы к рахманам» и «Житие Макария Римского» давно уже объединены исследователями в единый сюжетно-тематический цикл, по признаку общей для них веры в то, что рай существует непосредственно на земле14. Однако в этих произведениях отражено разное видение земного пространства на пути в рай.
Пожалуй, ближе всего к географическим сюжетам райской тематики стоит «Житие Макария Римского»15. Оно содержит много сведений об окраинных землях Вселенной, и эта информация была достоянием большого круга читателей благодаря включению текста в проложные и минейные чтения16. Текст построен как описание путешествия трех монахов, пустившихся на поиски земного рая, который мыслился там, где небо «прилежит к земле». Начальная часть повествования имеет четкий географический вектор, а описанное направление пути выглядит вполне достоверно: из монастыря Асклепия в Месопотамии, что между райскими реками Тигр и Евфрат, иноки направляются сначала в Иерусалим, а потом оттуда на восток, в Персию. На пути отмечаются города с христианскими святынями. После того, как путешественники вошли в землю Индийскую, описание приобретает фантастические черты. Путники попадают в таинственный мир, пути в котором неведомы. Двигаясь на восток, они достигли пределов, куда доходил Александр Македонский. Как и завоеватель, они минуют страну чудес, где им встречаются андрогины, песьеглавцы и пигмеи. Преодолев преграды встающей тьмы, иноки наблюдают юдоль печали и места, в которых мучались грешники. В смрадном озере, полном змей, стенали люди. Невдалеке окованные веригами огромные мужи страдали в опалявшем их пламени. На краю пропасти они видели жену, обвитую змеем, и слышали долетающий из глубин плач, с просьбами о милости.
Оттуда иноки вышли навстречу веющему из рая благоуханию. На подступах к раю, в двадцати поприщах от него, путешественники встретили Макария. Устройство недоступной райской обители им было открыто во сне. Горы там поднимались выше небес, воды озаряло мощное световое сияние, с четырех сторон дули чудесные четырехцветные ветры. Обратный путь также описан вполне географически досто-верно17. Признаки историчности повествования объясняются жанровой спецификой произведения, претендующего на достоверность. Однако, лежащие за пределами освоенного и известного мира, подступы к раю предстают в вымышленных мифологических чертах. Фантастические образы находящейся на окраине тогдашней ойкумены страны незнаемой заимствованы из «Александрии»18, с которой по охарактеризованным выше признакам «Житие Макария Римского» сопоставимо. Как видим, есть все основания относить «Житие» к группе текстов, в которых фантастическая география смыкается с реальной.
В других хождениях к раю географические реалии отсутствуют полностью. Места, которые преодолевают визионеры — сказочные. Даже направление путешествия не обозначено. Их ведет трансцендентная сила — либо непосредственно сам Бог, либо чудесные помощники, исполняющие свыше предназначенную им роль. Типичный пример — «Хождение Зосимы к рахманам», появившееся в русских переводах не позднее XIV в.19 В нем описывается, как старец Зосима преодолевает многочисленные земные преграды (пустыню, угрозы лютых зверей, бури, землетрясения) и достигает непроходимой реки Евмасион. Облачную стену, ограждавшую рай, он преодолевает чудесным образом — на ветвях перенесших его деревьев. В обители блаженных, отделенной от мира пограничной рекой, Зосима наблюдает жизнь праведных людей20.
В повествовании объединены мотивы рассказов об индийских брахманах (нагомудрецах), с которыми встречался во время своих походов Александр Македонский, и описание рехавитов — потомков Рехава, легендарного родоначальника одного из еврейских колен, о котором повествует «Иосипон». Насельниками рая оказываются вполне плотские и смертные праведники. В отличие от других описаний рахманской страны, в тексте апокрифа о хождении Зосимы всякие реалии локализации страны праведников полностью отсутствуют.
В не меньшей степени отстранено от реалий «Хождение Агапия в рай», которое довольно рано вошло в древнерусскую письмен-ность21. Главный герой повествования в своем странствии к раю следует за орлом, преодолевая различные неведомые места, непроходимые леса и достигает главной преграды — моря. Водную преграду он пересекает на корабле, и в этом помогают ему чудесные корабельщики — сам Христос и двенадцать апостолов. В островную райскую обитель, огражденную стенами до неба, Агапий попадает через оконце. Земной рай открывается избраннику вне реального пространства мироздания. Ясно, что райская страна — это удаленная часть мироздания. Однако никаких намеков на ее пространственное расположение в произведении нет. Единственное, что связывает хождения Агапия и Зосимы с сакральной географией — это признание земной локализации рая. В отличие от прочих произведений райской тематики, о которых речь пойдет далее, неведомые пространства этих апокрифических хождений географически обезличены.
Судя по деталям, которые Василий воспроизводил в своем тексте, апокрифы о земном рае находились в орбите чтения владыки. Однако автор «Послания» не ограничивался только каноническими и апокрифическими свидетельствами о локализации рая и ада в земном пространстве. Он подкрепляет книжные аргументы данными опыта. Владыка сообщает, что известные ему новгородцы непосредственно наблюдали места мучений и «были видоки тому на Дышучем мори, червь неусыпающий, и скрежет зубный, и рѣка молненая Морг, и что вода входить въ преисподняя и пакы исходить 3-жды днемь»22. Логика здесь такая: если «та вся мѣста мучимая не погибоша», так может погибнуть рай — «мѣсто се святое»23.
Венчает многоступенчатую систему доказательств рассказ со слов Моислава-новгородца и сына его Иакова, которые доходили во время плаваний до места «святаго рая»24. По убеждению новгородского архиепископа, это доказывает, что рай существует в окраинной части Вселенной и к его приделам могут приблизиться не только герои апокрифических хождений, но и путешествующие в дальних краях современники25.
Дополняющие друг друга аргументы призваны подтвердить реальность земного рая в прошлом и настоящем. Вывод: «вся дѣла Божиа нет-лѣнна суть», насаженный на земле рай «не погиблъ и нынѣ есть», хотя проникнуть в него люди плотские не могут26. В конструкции повествования свидетельства от «видаков» убедительно удостоверяют незыблемость буквы Писания. Система доказательств строится на принципе подкрепления достоверности книжных свидетельств данными жизненного опыта.
Некоторые исследователи считают, что Василий Калика был приверженцем идеи исключительного земного рая27. На самом деле мысленный рай для него является такой же реальностью, как и чувственный. На это совершенно точно обращали внимание Б. А. Успенский и А. И. Алексеев28. Согласно «Посланию», сохранявшийся на тот момент в пределах географического пространства чувственный рай рассматривался как исторический библейский рай, а что касается мысленного рая, то Василий Калика соотносил его с райским блаженством, которое ожидает праведников после второго пришествия Христа. Можно однозначно констатировать лишь то, что мыслимый рай для него, в отличие от чувственно воспринимаемого исторического рая, именно «мыслимый», т. е. в точном значении употребленного в произведении слова не просто «представляемый в воображении», а именно «ожидаем»29.
В отечественной средневековой книжности, как уже говорилось, в большом количестве списков был распространен текст, в котором обсуждалась та же самая проблема, что и в «Послании» Василия Калики: чювьственыи. ли єсть раи. или разўменъ. тл&не O ли. или нетл&ненъ 30 . Как видим, выяснение райской природы непосредственным образом замыкается на решение вопроса — является ли рай тленным, или нетленным. Именно этот аспект райской темы волновал новгородского владыку. Но есть и нюансы в постановке проблемы. Василий чувственный рай противопоставлял «мыленному» (т. е. воображаемому будущему). В анализируемом произведении идет речь о существовании как земного, так и небесного рая, которые уподоблены земному и небесному Иерусалимам: Мко же и два ерлма пов&дае. нбныи и земныи. тако” и два ра@. єдинъ дх+овны. а другии чювьственыи 31. В данном случае
«духовный» является синоним вынесенного в заглавие понятия «разумный рай» (т. е. рай невещественный, подлежащий духовному зрению)32.
Между «Посланием» и текстом чювьственыи. ли єсть раи. или разўменъ много общего. В обоих произведениях акцент делается на доказательства, которыми обосновывается существование земного рая. Чувственно воспринимаемый рай описывается как местопребывание прародителей. С земным раем связывается исток райских рек (Быт. 2:8–14).
Автор предупреждает, что если представлять сотворение рая невещественным, то это ведет не только к отрицанию существования Адама и Евы, но разрушает веру в достоверность свидетельств Св. Писания: Аще ли и змии . и сады и р&ки. ино разумн& разум&ває N . то оуже н&како. и адама. и євгу. и въстлапи N паче же при=бид&ти начн& N бж T¡ твеноє писа O¡ є 33 . Как мы помним, Василий Калика приводит тот же аргумент райских рек в пользу существования земного рая. Тезис о том, что рай не погиб, он обосновывает от противного, ссылаясь на отсутствие свидетельств о том в Писании. Автор комментируемого текста защищает само Писание от покушений на него сомневающихся в реальности бытийных свидетельств.
Природа ветхозаветного рая, тем не менее, оценивается им двояко, подобно тому как Адам пребывал здесь между тлением и нетлением: да @ко F оубо б& и ада N. посреди тл# и бестл&@ O . тако F и б& раи єсть 34 . Полемика ведется с теми, кто понимал ветхозаветный рай исключительно «разумно», как нематериальную сущность. С точки зрения автора текста, если бы не существовало на земле воспринимаемого чувствами рая, то не было бы и источника, разделяющегося на четыре реки: да аще оубо н& T ра@ чювьствена на земли. то оуже ни источника. ни р& L. ни .д_. верховъ 35 . Венчает пассаж уже известный нам логический прием. Если принимаются факты существования райского древа и события грехопадения, которое привело к появлению людей, то следует признать реальность земного рая. Тот, кто отрицает это, уподобляется «богопагубному Оригену».
«Послание о рае» и комментируемый текст принадлежат к произведениям одного идейного круга. Они совпадают и по методам, и по содержанию аргументации. Но есть и отличия. Василий Калика совмещает изложение библейских фактов с апокрифическими сведениями. Исследователи в общем и целом сходятся во мнении, что наиболее значимыми аргументами для владыки новгородского были аргументы неканонического круга и даже легендарно-мифологические. В данном случае хотелось бы обратить внимание, что понятие земного рая укоренялось в общественном сознании не только на основании апокрифического чтения, но формировалось текстами авторитетной богословской классики.
Концепцию земного рая развивал Севериан Габальский37. Он суммировал базовые принципы антиохийского богословия38, которые изложил в своем «Шестодневе»39. Идеи Севериана, благодаря переводной литературе, получили самое широкое распространение на Руси. Обширные извлечения из его трактата вошли в качестве составной части в компилятивный «Шестоднев» Иоанна экзарха Болгарского, который стал доступен древнерусским книжникам, по крайней мере, с XII столетия. От XV–XVII вв. до нас дошло более 50-ти списков этого произведения40. С XV столетия в отечественной книжности появились как полные версии «Шестоднева» Севериана Габальского41, так и краткие его редакции под названиями: «Беседы на Шестоднев Севериана Габаль-ского», «Сказание Севериана епископа Габальского», «Повесть от Ше-стодневца Севериана Габальского»42. Совокупный тираж, с учетом фрагментов и извлечений в сборники смешанного содержания, выглядит весьма внушительным43. На этом фоне поднимавшаяся в древнерусской книжности тема земного рая не выглядит маргинальной.
И «Послание» Василия Калики, и полемические статьи в защиту концепции земного рая, выражали характерную для антиохийского богословия точку зрения, которая до древнерусского читателя доходила, в том числе, и в изложении Севериана Габальского. Все богословы, разделявшие основные принципы плоскостно-комарной космологии, считали, что рай находится в пределах дольней части мироздания, а точнее в недоступной окраинной зоне его. Севериан Габальский предложил собственную трактовку базовым постулатом, которые были общими для него и таких крупных богословов как Ефрем Сирин, Иоанна Златоуст, Федор Мопсуэстийский, Феодорит Киррский44.
Чтобы понять своеобразие понимания рая Северианом Габальским, необходимо рассмотреть эту проблему в контексте общих воззрений христианского богослова на мироустройство. Подобно другим антиохийцам Севериан не принимал геоцентризма и исходил из того, что Земля плоская, а светила перемещаются горизонтально над ее поверхностью. В верхней части мироздания он выделял два неба: ледовую твердь, с разлитыми поверх ее водами и небо первого дня творения — ноуменальную сферу, выше которой находится только Божественная бесконечность. Разграничение ноуменальной и феноменальной сфер неба он объяснял сравнением с устройством головы, мысленная часть которой образно уподоблялась недоступной чувствам горней части мироздания, а физическое небо соотносилось с нёбом, по аналогии с которым можно мыслить видимую границу небесной сферы. Созданный Творцом мир Севериан уподоблял наглядному и понятному образу вселенского дома, потолком которого является твердь, а основанием земля45. Каким образом основание космической постройки связано с ее верхом, экзегет не проясняет. Вместе с тем он однозначно высказался о локализации рая в созданном Богом космическом доме.
В понимании Севериана рай имеет огромные размеры: @ко же не мала есть порода. ни малоу м&роу имоущоу 48. Размеры слишком значительны, чтобы там прибывал только один Адам. Экзегет объясняет, на какую потребу толикъ б& раи, для чего Бог толикоу шириноу земли сътвори 49. По его представлениям, простирающийся до «края вселенныя» рай уготован патриархам, пророкам, евангелистам, святым, праведникам и всем благочестиво живущим. Севериан говорит и о существовании Царствия небесного50. Как соотносятся оба места блаженства Божиих избранников между собой, и каково их предназначение в перспективе постэсхатологического будущего автором не разъясняется. Соединение феноменального понимания рая с ноуменальным аспектом райской темы несомненно.
Согласно Севериану, обширные пространства земного рая находятся на восточной окраине Вселенной. Более точных географических привязок этого сакрального пространства не дается. Однако есть объекты, которые соединяют сакральную зону земного пространства с реальной географической средой обитания. Таковыми являются четыре реки, которые берут свое начало из орошавшего рай эдемского потока51. Введение мотива райских рек в его построениях является одним из аргументов, обосновывающих земную топографию рая.
Значимым для древнерусской книжности фактором распространения концепции земного рая была «Христианская топография» Козьмы Индикоплова, которая была создана в Александрии в 545–547 гг. Торговец, путешественник и писатель, живший в первой половине VI в., рассматривал земной рай в качестве элемента космоустроения и одновременно как географическую реалию. И в вопросах космоустроения, и в суждениях о земной локализации рая, мыслитель опирался на базовые принципы антиохийского богословия.
Основные идеи Козьма заимствовал у Патрикия (Мар-Абы), а тот, в свою очередь, у Федора Мопсуэстийского52. В переводе с греческого «Космография» появилась на Руси не позднее рубежа XII–XIII столетий и прочно вошла в круг чтения древнерусских грамотников53. Первому исследователю рукописной традиции этого памятника накануне революции было известно 29 полных списков «Христианской топографии» XV–XVIII вв.54 Ныне число выявленных копий значительно увеличилось (более 50-ти). Идеи произведения расходились в книжности благодаря многочисленным извлечениям в сборники смешанного содержания55. Отмечается влияние «Христианской топографии» на хронографические описания и «Палею Толковую». На этом основании исследователи относят труд к числу наиболее популярных и авторитетных у наших средневековых предков книг56. Некоторые авторы даже принимали разработанную Козьмой схему мироустройства единственной актуальной для Древней Руси космосхемой57. Древнейший из сохранившихся списков «Христианской топографии» ГИМ. Увар. № 566 (1495 г.) опубликован58.
Воззрения Козьмы Индикоплова на природу рая являются прямым следствием разработанной им в «Христианской топографии» модели мироустройства. Христианский мыслитель четко реализует в своем произведении принцип полярной онтологии, разводя ноуменальную (ангелы, Бог) и феноменальную (сотворенный материальный мир) сферы. С ноуменальной сферой связывается Царство Божие. Обитель праведных помещается Козьмой в самом нижнем ярусе сотворенного мира, при этом пространственная локализация рая несколько отличается от тех версий, которые рассмотрены были выше.
Мироздание в «Христианской топографии» представлено огромным домом с плоским и прямоугольным земным основанием, которое окружено Мировым Океаном, заключенным периметрально в края земные. В верхней части космического дома выделялись два элемента: комара небесного свода (небо первого дня творения), образно уподобленная крыше космического дома, и ледовая твердь (небо второго дня творения), символически названная потолком дома-Космоса. Козьма полагал, что связанные друг с другом твердь и небесная комара поддерживаются своеобразными космическими стенами, а те опираются на края земные ( краевї нб+си =бои. с краи земными суть св#занї ). Мироздание, таким образом, рассматривалось замкнутым. Рай включен в пределы физического пространства, но вынесен за пределы ойкумены, туда, где небо сходится с землей59.
Как и другие представители антиохийской традиции, Козьма Инди-коплов являлся безусловным приверженцем концепции земного рая60. Буквалистски трактуя данные Св. Писания, он неоднократно обращается к теме земного рая в своем трактате61. Согласно «Христианской топографии» рай локализуется в крайней восточной части мироздания, на земле
Нет никакого сомнения, что земля райская, находящаяся об ону стра-ноу =кеана является частью физической реальности нижнего яруса сотворенного мира. Принцип земной локализации рая Козьма подкрепляет ссылкой на то, что из-за океанских райских мест дуют благовонные ветры и из той области исход#ще множество птич# 63.
Хотя рай и рассматривается частью этого мира, он объявляется недосягаемым. В повествовании красочно повествуется о непреодолимости пучин Мирового Океана. Пределы земного рая оказываются так же недостижимы, как недосягаемо небо для простых смертных: и немощно єт T ь прелет&тї =кеана @ко и на нб_о на N взыти, тл&нномь соуще N 64. Рай для Козьмы — это место, где люди жили до потопа. Только один ковчег Ноя смог преодолеть водную преграду, отделяющую предместья библейского рая от той земли, по которой расселились потомки Ноя65. И после-потопная земля, и рай, где жили прародители, рассматриваются как имеющие одинаковую природу части физического пространства. Козьма Индикоплов прямо уподобляет их, когда говорит о перемещении рода Ноя с одной части земли на другую66.
В «Христианской топографии» земной рай помещен в зону пограничья, где феноменальное пространство соприкасается с ноуменальной сферой. Козьма Индикоплов локализует его на пересечении вертикального и горизонтального измерений созданного Богом космического дома. Поэтому земной рай, представляющий собой особую область сотворенного мира, оказывается элементом космологии, а в своей материальной осязаемости обретает географическую определенность.
В этой двойственности земной рай выступает в качестве сакральной координаты бытия. С одной стороны, экзегеза на тему земного рая формировала постэсхатологические надежды человечества, а с другой — очерчивала предел пространственной досягаемости для людей при жизни. С точки зрения географии давалось ценностное разграничение частям дольнего мира, тогда как в космологическом контексте рай маркировал своим положением стык горней и дольней сфер. Вертикальная стратификация земля–небо как бы проецируется на горизонтальную плоскость земного пространства, разделенного на две неравнозначные части. Примыкающие к небу земные края наделялись особыми сакральными свойствами. Близостью к небу и ноуменальным сущностям можно объяснять особые характеристики заокеанской райской части мира (недосягаемость, благоухание, радость, веселье, вечная жизнь). В результате земной рай, как часть феноменальной сферы бытия, наделялся некоторыми несвойственными для сотворенной действительности качествами.
С кругом представлений о земном рае самым тесным образом связан сюжет о райских реках, необычайно широко распространенный в древнерусской книжности. Он входит в качестве составной части в тексты, дающие пространственные характеристики земного рая, а также существует в виде самостоятельных кратких повествований о четырех реках, которые включались в сборники смешанного состава и тематические подборки естественнонаучного характера. Благодаря этому сюжету сугубо богословская тема рая непосредственно смыкается с практической географией, поскольку в текстах присутствует описание мест и земель, по которым протекают райские реки. Естественно, что в разных контекстах географический аспект присутствует в разной степени. В богословских построениях Севериана Габальского, например, он весьма ограничен, а в «Христианской топографии» Козьмы Индикоплова этот аспект является органической частью грандиозного описания освоенного греками мира.
Географический кругозор Севериана Габальского значительно уже, чем у Козьмы и ограничивается краткими и известными по другим источникам географическими характеристиками райских рек. В его описании начало рекам дает вытекающий из рая поток. Этот поток через подземные проходы по разным местам расходится. В Эфиопии он выходит рекой Нил (Геон). На западе — дает течение Фисону, который отождествляется с Дунаем. С восточными землями связываются Тигр и Евфрат. Севериан объясняет, почему оутаено есть теченїе этих рек. В его трактовке это устроено Богом промыслительно, дабы шедшие по рекам люди не обнаружили местонахождения рая ( не да ли възбреги р&чьны# шедъше обр#щоуть раи )71. В данном случае богослов проявляет проницательное предвидение практики устроения экспедиций с целью поиска рая (например, бенгальский царь Шаридип отправил экспедицию вверх по реке Ганг, уверовав что она вытекает из рая)72. В такой специфической форме проявлялась вера в существование земного рая. Как и другие представители антиохийского богословия, Севериан исходил из того, что земной рай недоступен для простых смертных. Но данная ремарка для нас важна в том плане, что Севериан Габальский, подобно Шариди-пу, местоположение рая не выносил за пределы существующего земного пространства. В отличие от него многие христианские авторы, подобно Козьме Индикоплову, локализовали рай за водной преградой.
Репертуар сюжетов о райских реках в древнерусской письменности достаточно обширен. Остановимся на имевших наибольшую известность среди читателей текстах. В древнерусскую хронографическую компиляцию, которая вошла в обиход под названием «Летописец еллинский и римский», включен отдельным блоком рассказ о райских реках, который текстуально совпадает с ЕпифаOєво ё анкураU. Из этого текста можно было узнать об отождествлении библейских рек с крупнейшими реками мира и параллельно почерпнуть сведения о землях, сквозь которые эти реки протекают. Согласно параллельным чтениям, Фисон отождествляется одновременно с Гангом и Индом. Дается пояснение, что рахманы называют ее «Гангис», а еллины — «Индос»73. Путь этой библейской реки представлялся автору замысловатым: у Гадира (Гиблартара) она впадает в «великий Акиянъ, иже обходит всю землю»74. Река Геон отождествляется с Нилом, к течению которого примыкает Ефиопия75. Третья библейская река Тигр выходит из-под земли «между Кардиею и Армены … и пробиется Асурьскую землю», а четвертая — Евфрат, также выходит из-под земли (имеются в виду подземные протоки от райских истоков) в Армении, откуда течет, «напаяющи Перъскую землю»76.
Значительная географическая разобщенность рек, истоки которых отнюдь не простирались к крайнему востоку земли, требовала разъяснения принципа их связи с раем, и такое объяснение давала гипотеза о существовании подземных проходов. Именно эту трактовку и демонстрирует рассказ о четырех райских реках77.
Сведения о выходящих из Эдема реках достаточно часто встречаются в древнерусской переводной книжности. Кроме сборников, они входили в содержание «Александрии», а еще в разные версии космографических81 и хронографических описаний82. Тема четырех рек в связи с земной топографией рая и историей Адама является постоянным мотивом редакций «Беседы трех святителей»83. Подобного рода землеописания чаще всего смыкаются с плоскостно-комарной космологий, помещающей рай в пределы физического пространства земли на востоке Вселенной. Не случайно сообщения о райских реках включались в сборники вместе с фрагментами из сочинения Козьмы Индикоплова84, а также вместе с текстом «Послания Василия Калики о рае»85. Можно еще назвать широко распространенный сюжет «Имена великих рек», перечень которых начинается четырьмя райскими реками, а сам сюжет нередко соседствует в рукописных подборках со статьями о земном рае86.
В общем и целом, сюжет о райских реках воспроизводит крупные географические ориентиры в виде земель и стран, находящихся на пути к земному раю. Нельзя не отметить значительной вариативности описания райских рек. По-разному объясняется их связь с истоком. Чаще всего предполагается существование подземных проходов к истокам либо непосредственно от рая, либо от Мирового Океана. Наблюдается разброс при отождествлении библейских названий с реальными земными реками (под Фисоном понимался то Инд, то Ганг, то Дунай).
Существует группа памятников, в которых путь к земному раю описывается в смеси географической конкретики с фантастикой. В этом аспекте характерны повествования о походах Александра Македонского.
В «Хронике Георгия Амартола» Александр представлен завоевателем ассирийцев, персов, мидян и парфян. Достаточно подробно описывается Индия, до которой дошел завоеватель. Индия представлялась автору страной, находящейся в крайних восточных пределах заселенного пространства земли, вблизи которого расположен земной рай. Живущие в индийских пределах брахманы наделяются праведными качествами, которые сопоставимы с апокрифическими характеристиками живших близ пределов земного рая людей. Согласно повествованию, нагому-дрецы брахманы ведут праведную и нестяжательную жизнь, не зная ни ремесел, ни торговли. Они все время проводят в молитвах. Женщины и мужчины живут по разным сторонам реки Ганг и только 40 дней пребывают вместе ради продолжения рода. В той стране благорастворенный воздух, в лесах обитают огромные змеи, бродят стада слонов, а в реке водятся «зубастые мучители» (крокодилы)87. Кроме этого описывается огромный остров Брахманский (возможно Цейлон), населенный благочестивыми долгожителями макробиями. Живут они в чистоте, блуда не знают, от вина и мяса воздерживаются, а питаются исключительно плодами, которые не оскудевают во все времена года88. Индия и Брахманский остров представлялись автору прилегающими к окружающему Землю Мировому Океану.
По сравнению с рассказом о завоеваниях Александра Македонского из «Хроники Георгия Амартола» более информативна в географическом отношении так называемая вторя хронографическая редакция «Александрии», являющаяся результатом компилятивной работы русского сводчика. Последний ссылался в своем повествовании на повесть о житии Александра, написанную учеником Эпиктета Арианом, но использовал также материалы Георгия Амартола, извлечения из «Сказания об Индийском царстве», «Физиолога», «Жития Макария Римского», «Откровения Мефодия Патарского» и ряда других источников89.
Перед читателем этого компилятивного повествования предстают огромные пространства. Для нашей темы представляет интерес описание походов на восток: «И прешедшу ему на въстокы, обреете тамо нечистыея языки, еже суть Афетови внуцы»90. По мере приближения к окраинам ойкумены нарастают легендарные мотивы землеописания. Кроме нечистых народов в связи с походом Александра в Индию описывается много необычных людей и диковинных зверей91. Все это подано в рассказе как устрашающие преграды, которые должны были обратить вспять всякого, кто дерзнул «конець вид & ти земли». Миновав страшные и пустынные места, он достиг страны, где солнце не сияет, но оттуда через темные врата подземным путем можно было попасть в землю блаженных. В отсутствие проводников Александру пришлось искать иные проходы в землю Индийскую, прилегающую к райским пределам. Через Малую Индию Александр прииде в землю Висаидьскую индий-скыя бласти … Сквоз & же ту землю и р & ка течет изъ рая Индосии»92. Отсюда, после битвы с Пором, Александръ мысляше приити къ рахма-номъ, которые «далече бо суть отселении от Индикии, от Сир & чьскыа, у Ганьгиа р & ц & живущее … Ганьгиа же си р & ка, еже нарицается Фисонъ, иже в Писаниихъ лежить, единъ от четырии реченных, изидущих ис породы»93.
Бросается в глаза почти полное отсутствие сведений об Индии, которая информатору рассказа, в отличие от других земель, известна в деталях не была. Поэтому в хронографическом повествовании — это полумифическая страна. Географическая скудность сведений о прилегающих к Фисону территориях восполняется рассказом «О великом острове Прованском» и «Сказанием Калановым», которые написаны со слов людей, познакомившихся с этими местами. Прованский остров — это остров долгожителей, однако его описание отличается от того, что дает «Хроника Амартола». Остров населяют питающиеся мясом крепкие ратники. Среди жителей нет убогих, «нъ вси богати». «Ту же суть и птица раискыя и чюдныя воня от всякого благоухания»94. О расположении острова сообщается, что он находится среди «моря того Чръмнаго ин-диискаго» (Эритрейского, называемого также Аравийским морем). Этот остров наделяется свойством притягивать к себе имеющие железные детали корабли95.
Со слов Каламана описан второй остров великий, названный рахман-ским. На этом острове, со всех сторон омываемой райской рекой (видимо великим островом представлялось пространство Индостана, заключенное меду Индом, Гангом, Аравийским морем и Бенгальским заливом), в гармонии с природой и с собой «аки черноризци» живут незнакомые с достижениями тогдашней цивилизации нагомудрецы. Мужское население, согласно рассказу, занимает прибрежную с Мировым Океаном часть на одном из берегов впадающей в Океан райской реки Ганг, тогда как жены их живут на противоположной стороне той реки «в частех индийских»96. Здесь мы видим повторение уже известного нам по «Хронике Георгия Амартола» сюжета. Именно в сравнении хорошо видно, как составитель «Летописца Еллинского и Римского» в «Сказании Кала-новом», а затем и в последующих разделах компиляции, расцвеченных многочисленными занимательными подробностями, пытается совместить островную концепцию Индии с материковой. В результате блаженные рахманы у него и жителями большого острова и население Великой Индии, занимающее прибрежную часть обоих берегов реки Ганг97.
Можно констатировать, что в древнерусской книжности существовала солидная литературная традиция, в рамках которой разные по жанру произведения заключали в себя более или менее точные географические ориентиры подходов к земному раю.
В христианском мире присутствие географической составляющей в концепции земного рая было запечатлено также средневековыми картами. Картографирование земной поверхности является неотъемлемым элементом географических знаний. Изображение плоской и округлой в своих очертаниях Земли, а также рая с озером и Древом добра и зла, присутствует на Ватиканском Октатевохе № 746106. Существует еще карта Андрея Бианки 1436 г., на которой рай локализуется в южной части Азии при истоке из него четырех рек. Широко известна карта мира, иллюстрировавшая греческие списки «Христианской топографии». Обитаемое земное пространство там представлено вытянутым прямоугольником в окружении Мирового Океана107. За Океаном, на противолежащей ойкумене земле показан рай в виде цветущего сада. Вытекающие реки скрываются под водами Океана и выходят в разных частях ойкумены108. Иллюстрация к труду Козьмы Индикоплова представляет собой синтез карты со схемой, поясняющей христианское видение мира. Много общих черт со схемой Козьмы Индикоплова имеет карта мира Орозия (VIII в.), хранящаяся в библиотеке Альбы. Ойкумене на ней приданы близкие к прямоугольным очертания, отмечены врезающиеся в сушу заливы Океана, а на востоке обитаемой земли обозначен рай, четыре реки которого впадают в Океан. Одновременно эти же реки прорисованы на своих географических местах109.
Существует еще группа специфических географических памятников, известных под названием «Подорожные от Эдема». Они были распространены в латинском регионе, но сохранились так же в греческих и грузинских версиях. Эти «Подорожные» являлись своего рода вербальным пояснением к средневековым картам-схемам и содержали роспись расстояний в днях пути от Эдема до азиатских и европейских стран. Жителями рая там названы благочестивые «камарины» (переделка греч. μακάριοι)110. Расстояние от Брахмании до рая определяется в 70 дневных переходов111. Существует мнение, что «Подорожные» составлены по типу «Интернария Александра», в основу которого была положена роспись походов македонского царя-завоевателя, послужившая географической основой средневекового повествования об Александре112.
Древнерусской книжности картографирование земного пространства не известно. Вся географическая информация в рамках рассматриваемой традиции излагалась в вербальной форме. Перечень произведений выше очерчен. Как можно было убедиться, источники отражают разные версии локализации рая: 1) на острове; 2) на противоположной стороне Мирового Океана; 3) в пределах ойкумены. Расположение рая на острове или противолежащей заокеанской земле можно рассматривать как родственные инварианты локализации рая за водной преградой. Топографическими признаками от них отличается континентальная версия земного рая, местоположение которого относилось на окраинные земли ойкумены113. Таков спектр гипотез, которые воспроизводили древнерусские книжники. В восприятии этих версий на Руси наблюдается определенная специфика, которая требует специального рассмотрения.
Самым ярким примером континентальной локализации рая является подробно рассмотренная выше экзегеза Севериана Габальского на вторую главу Книги Бытия. В христианском мире с ним солидаризировался Равеннский Аноним. Вслед за Афанасием Александрийским расположение райской обители он связывал с отдаленными районами Индии, откуда ветры доносят благоуханное дыхание рая114. На Руси подобные воззрения, наряду с «Шестодневом» Севериана, распространялись вместе со списками «Жития Макария Римского», согласно которому отшельник поселился в 20 верстах от рая.
Тот же круг представлений могли подпитывать апокрифические повествования об изгнании Адама и Евы из рая и об их потомстве. Согласно «Исповеданию Евы» прародителям была отделена седьмая часть Эдемского сада115. О том же повествуется в «Житии Адама и Евы» («Слово об Адаме и Еве»). Оказавшись за райскими вратами на неустроенной земле, Адам взмолился об избавлении от страданий. Бог смилостивился и «отлучи седьмую часть от рая», куда «изгна все скоты и звери из рая» и «преда» их Адаму. Бог передал земное райское преддверие во владение человеку и поднялся на небеса116. Элементом ветхозаветной истории прародителей является сюжет о посещении Сифом рая, с целью принести ветвь райского древа умирающему отцу117. Этот апокрифический рассказ, который по сути дела является прообразом хождений в рай, включался в «Беседу трех святителей», «Палею», «Хронограф» и в некоторые сборники смешанного состава.
Известен литературный сюжет, согласно которому близ рая жили сифиты — потомки Сифа. В сербской «Александрии», например, Александру Македонскому указывают на место близ рая, где прежде обитали Адам и Ева и в котором с тех пор обосновались потомки Сифа118. В Хиландрском списке «Откровения Мефодия Патарского» говорится, что Сиф «взведе род свой горе на гору некую близ сущу рая»119. С райскими чертами в «Сказании об Индийском царстве» рисуются владения царя-иерея Иоанна (райская река; недостижимый край владений, где небо с землей встречается; диковинные люди и звери в пределах царства; праведное население)120. Мотивы «Сказания» оказали заметное влияние на описание индийской части походов Александра Македонского. Из содержания «Вопросов князя Антиоха и ответов святого Афанасия Александрийского» также можно было узнать, что рай находится в восточной, примыкающей к Индии, стороне. Наличие только в этом краю ароматных веществ объясняется близостью его расположения к раю:
Абсолютное большинство древнерусских текстов помещают местонахождения райской обители за водной преградой. Классическим и широко распространенным в отечественной письменности образцом такой концепции, как мы видели, была «Христианскоая топграфия» Козьмы Ин-дикоплова. В этом произведении рай локализуется за Океаном, на противолежащей ойкумене земле. Та же точка зрения отражена в апокрифе «О всей твари»: за аки#номъ же е T ть земл# на неи же раи и мўки 122.
В «Александрии» и отразивших ее хронографических сводах фигурирует уже островная концепция рая. Например, в Сербской «Александрии» повествуется о Макариевских островх близ Индии, на которых сначала жили Адам и Ева с детьми, а потом там пребывали населяющие райские пределы нагомудрецы рахманы123. Макариевские острова (в семантическом значении «острова праведных») своим названием могли быть обязаны в том числе истории о Макарии Римском. В пользу этого говорит содержание статьи «Об Океанской реке» естественнонаучного сборника ГИМ. Син. № 951 (XV в.).
В ней сообщается о путешествии святого к райским вратам в восточных пределах мироздания, только в отличие от «Жития» недоступность обители праведных объясняется нахождением ее за Океанской рекой, вытекающей из врат рая124. Поскольку там специально оговаривается, что за Океаном другой земли нет (прямая полемика с Козьмой Индико-пловым), то остается предполагать островную версию. В том же сборнике, в статье «О четырех морях» упоминаются =стровы =ны макары, согласно описанию располагавшиеся в водах Океана у крайних приделов Индии. Рассказ о плавании к ним некоего Евсевия, который был очарован сладким пением и не проник внутрь чудесного острова, можно отнести к разряду апокрифических литературных повествований о путешествиях к земному раю125. Рай посреди моря изображен на чертеже розы ветров в виде круга с Иерусалимом в центре126. В азиатской космографии также известен остров блаженных (Макарицкий), откуда, по поверьям, в мир прилетали птицы. Название острова явно перекликается с известным апокрифом, одноименный герой которого жил близ рая, а легенду о зимующих в раю птицах изложил в своем «Поучении детям» Владимир Мономах.
В существующих описаниях рая за водной преградой роль этой преграды неизменно выполняет Мировой Океан127. Океан — это как раз тот элемент космоустроения, с которого начинается географическая перспектива дольнего пространства. Поэтому образ Мирового Океана, как свидетельствуют имеющиеся в нашем распоряжении материалы, присутствует одновременно и в космологических схемах, и в сюжетах землеописаний. Исходя из представлений об окружающем Землю Океане, строились рассуждения о морях и земной гидросистеме. Морскими границами очерчивались побережья ойкумены. Но для нас важно, что фактор Океана являлся неотъемлемой частью важнейшего для религиозного сознания понятия райских мест. Земной рай в океаническом пространстве у окраин ойкумены — типологический признак богословской концепции рая за водной преградой. Именно безбрежностью Океана и его пучинами чаще всего объяснялась недосягаемость островной обители блаженных. Не случайно в ГИМ. Син. № 951 Океан назван райской рекой128. Океан и мыслился как река, обтекающая Землю. Христианская книжность здесь сохранила унаследованное от античности представление о мировом потоке, текущем вокруг Земли129. Понятие Океана, как реки вытекающей из Эдема и окружающей земное пространство, принимает Иоанн Дамаскин, в экзегезе на текст Быт. 2:10.130 Тема Мирового Океана развивается в статье «О четырех морях», где она совмещается с островной концепцией рая и с географической привязкой райских рек к внутренним морям131. Космология и география в рамках сюжета об острове праведных и Океане оказываются в такой же связке, как и в космо-землеописании Козьмы Индикоплова.
Концепт райского острова встречается в разных культурах. Мотив островного рая содержит «Житие св. Брендана». Согласно ему, ирландский монах принял за рай необыкновенной красоты остров. Тот остров нанесен на карты и в память об открывателе назван именем св. Брендана (484–578)132. А. Н. Веселовский приводит рассказ об Аполлинарии Тирском, в котором повествуется о том, как герой во время морского странствия встречает блестящую стену среди вод и не находит прохода внутрь.133
В восточно-христианском мире весомость островной версии придавало то, что ее разделял Ефрем Сирин. В его трактовке Океан, окружающий райский остров, образно уподоблен высокой, до неба, стене134. Созданный Ефремом облик недоступной райской обители имеет общие признаки с соответствующими образами повествований о путешествиях к островному раю.
В апокрифах, на которые ориентировался Василий, рай локализовался на окраине мироздания. Он совмещает в себе черты топографической достижимости и одновременно недоступности. О нем можно сказать, что он «почти земной», с чертами небесного (высокая гора, стена). Именно такое понимание земного рая было свойственно антиохийскому богословию и Василию Калике как его последователю. Апокрифы лишь верифицировали экзегезу на тему рая. Идея земного рая, в средневековую эпоху становилась фактором общественного сознания под влиянием суммарного воздействия доктрины и ее толкований, включая популяризацию идеи земного рая мироописаниями и апокрифами. С учетом этого и следует оценивать идейно-религиозную специфику послания о рае.
Для нашего исследования важным представляется то обстоятельство, что Василий Калика, в своих доказательствах реальности земного рая обращается не к авторитетной экзегезе, а воспроизводит бродячие международные мотивы островного рая, которые в его послании образуют синтез апокрифа и народной легенды. От внимания исследователей не ускользнуло то обстоятельство, что в споре с тверским епископом, при объяснении важнейшей догматической проблемы, новгородский иерарх опирался на присущие народным представлениям фольклорные мотивы135. Включенная в «Послание о рае» легенда о рае новгородцев воскрешала древние верования на христианской почве. Опору на фактуру апокрифических и фольклорных хождений вряд ли можно признать безупречной с канонической точки зрения. С авторитетными церковными текстами они совпадают только в пункте, который постулирует существование земного рая.
Приведенные в статье материалы демонстрируют, что сам по себе концепт земного рая не противопоставлялся раю небесному. Существование как земного, так и небесного рая было доктринально задано. Принцип двоякого понимания рая основывается на текстах Ветхого и Нового Заветов. Но как показывает полемика Василия с Федором, а также другие тексты райской тематики, предпочтения в понимании райской природы смещались.
Как в таком случае следует понимать заданную «Посланием» дилемму: чувственный рай — мысленный рай? Думается, что в основу дилеммы заложена не вертикаль космологического характера, а исторический вектор. В эсхатологической перспективе созданный одновременно с миром земной рай предстает неким прообразом, а точнее сказать своеобразной чувственно воспринимаемой иконой того, что ожидает достойных в грядущей вечности. При таком параллелизме, по закону аналогии, ожидаемое будущее можно мыслить подобно апокрифам в чертах осязаемости. Обращает на себя внимание не лишенное пространственных качеств понимание мысленного рая, который видится Василию как расширение земного рая до пределов всей обновленной Вселенной. Раем, согласно «Посланию», должен стать весь очищенный огнем светопреставления мир, за пределами которого оказываются только места мучений.
В таком виде раскрывается богатая палитра древнерусских представлений о земном рае. Широкий контекст помогает понять полемическое «Послание» новгородского владыки Василия. Его пламенное слово в защиту чувственного земного рая (особенно если учитывать мощный апокрифический и фольклорный фон) можно считать самым ярким отечественным произведением, написанным на данную тему. Его аргументации была свойственна раскрепощенность мысли. Концептуально же воззрения Василия Калики вполне отвечают критериям, которые на данном проблемном поле задавались антиохийской традицией христианского богословия. Различные инварианты этой традиции широко представлены в книжности Древней Руси.
Список литературы Концепт земного рая в памятниках древнерусской письменности
- Алексеев А. И. Под знаком конца времен. Очерки русской религиозности. СПб.: Алетейя, 2002. -350 с.
- Анайлов Д. Эллинистические основы византийского искусства. СПб.: Типография И. Н. Скороходова, 1900. IV. 229 с.
- Апокрифы Древней Руси. Тексты и исследования. М.: Наука, 1997. 256 с.
- Архангельский А. С. Творения отцов церкви в древнерусской письменности.Казань: Типогр. Имп. ун-та, 1889. Т. I-II. 203 с.
- Баранкова Г. С. К вопросу о переводах Шестоднева Севериана Габальского в древнеславянской и древнерусской книжности//Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2001. М.: Древлехранилище, 2002. С. 5-46.
- Баранкова Г. С. Шестодневы повествовательные//Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. М.: Отделение истории АН СССР-Археографическая комиссия, 1976. Вып. 2. Ч. I. С. 165-180.
- Баранкова Г. С., Мильков В. В. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского. СПб.:Алетейя, 2001. 972 с.
- Веселовский А. Н. Из истории романа и повести. Вып. 1: Греко-византийский период//Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской АН. СПб.: Типография Императорской академии наук, 1886. Т. 40. № 2. 511, 80 с.
- Веселовский А. Н. Параллели к сказанию о рае//Филологические записки.1875. Вып. III. С. 1-7.
- Веселовский А. Н. Разыскания в области русского духовного стиха. XVIII-XXIV//Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. СПб.: Типография Императорской академии наук, 1891. Т. 53. № 6. 174 с.
- Горский А. В., Невоструев К. И. Описание рукописей московской синодальной библиотеки. Отдел II. М.: Синодальная типография, 1857. Ч. 2. 850 с.
- Григорьев А. В. Космологические и онтологические идеи Козьмы Индикоплова как отражение взглядов антиохийской богословской школы//Громов М. Н.,Мильков В. В. Идейные течения древнерусской мысли. СПб.: Из-во РХГУ, 2001.С. 903-955.
- Гукова С. Н. Карта мира Козьмы Индикоплова//Вспомогательные исторические дисциплины. М.: Наука, 1985. Вып. 17. С. 308-321.
- Демкова Н. С. Комментарии к «Посланию Василия Новгородского Федору Тверскому о рае»//Библиотека литературы Древней Руси. СПб.: Наука, 1999. Т. 6.С. 517-519.
- Дурново Н. Н. Введение в историю русского языка. М.: Наука, 1969. 295 с.
- Илюшина Л. А. Христианская топография Козьмы Индикоплова//Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописей для Сводного каталога рукописей, хранящихся в СССР. М.: Отделение истории АН СССР -Археографическая комиссия, 1976. Вып. 2. Ч. 1. С. 157-164.
- Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. М., Ростов-на-Дону, 1992. 464 с.
- Истрин В. М. Александрия русских хронографов. Исследование и текст. СПб.: Университетская типография, 1893. 739 с.
- Истрин В. М. Книгы временныя и образныя Георгия Мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе. Пг.: Российская государственная академическая типография, 1920. Т. 1. С. I-XXXI, 1-454.
- Истрин В. М. Откровение Мефодия Патарского и апокрифические видения Даниила в византийской и славяно-русской литературах. Исследования и тексты. М.: Универ. типогр., 1897. 546 с.
- Каган М. Д., Понырко Н. В., Рождественская М. В. Описание сборников XV в. книгописца Ефросина//Труды отдела древнерусской литературы. Л.:Наука, 1980. Т. 35. С. 3-300.
- Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антицерковные еретические движения на Руси XIV -начала XVI века. М.; Л.: Из-во АН СССР, 1955. 544 с.
- Книга нарицаема Козьма Индикоплов. М.: Индрик, 1997. 773 с.
- Космологические произведения в книжности Древней Руси. Часть II:Тексты плоскостно-комарной и других космологических традиций/изд. подг. В. В. Мильков и С. М. Полянский. СПб.: Изд. дом «Мiрь», 2009. 621 с.
- Культура Византии. IV -первая половина VII в. М.: Наука, 1984. 723 с.
- Летописец Еллинский и Римский. СПб.: Из-во «Дмитрий Буланин», 1999.Т. 1. 512 с
- Лончакова Г. А. Послание Василия Калики Федору Доброму//Вопросы истории книжной культуры. Новосибирск, 1975. Вып. 19. С. 83-104.
- Лурье Я. С. Литературная и культурно-просветительная деятельность Ефросина в конце XV в.//Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., Из-во Академии наук СССР, 1961. Т. XVII. С. 130-169.
- Лурье Я. С. Слово о рахманах. Коммент.//Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XVвека. М.: Художественная литература, 1982. С. 593-595.
- Матвеенко В. А., Щеголева Л. И. Временник Георгия монаха (Хроника Георгия Амартола). Русский текст, комментарий, указатели. М.: Из-во «Богородский печатник», 2000. 543 с.
- Матвеенко В. А., Щеголева Л. И. Книги временные и образные Георгия Монаха. М.: Наука, 2006. Т. 1. Ч. 1. 634 с.; Т. 2. Ч. 1. М.: Наука, 2011. 261 с.
- Мильков В. В. Древнерусские апокрифы. СПб.: Из-во РХГУ, 1999. 896 с.
- Мильков В. В. Космологические концепции и сведения в книжности Древней Руси//Древнерусская космология. СПб.: Алетейя, 2004. С. 29-51.
- Мильков В. В. Церковные, народные и античные представления об ином мире в их отношении к апокрифическому образу рая//Древняя Русь: пересечение традиций. М.: Скрипторий, 1997. С. 250-282.
- Мочульский В. Н. Апокрифический элемент в вопросах и ответах св. Афанасия к князю Антиоху. Одесса, 1900.
- Мочульский В. Н. Следы народной Библии в славянской и древнерусской письменности. Одесса: Тип. Шт. Войск Одесского воен. Окр., 1893. 285 с.
- Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М.: Художественная литература, 1981. 534 с.
- Памятники литературы Древней Руси. Втор. пол. XV в. М.: Художественная литература, 1982. 688 с.
- Памятники отреченной русской литературы/собраны и изд. Н. Тихонравовым. М.: Тип. тов. «Общественная польза», 1863. Т. 1. 313 с.; Т. 2. М.: Универ.тип. «Катков и К0», 1863. 457 с.
- Пигулевская Н. В. Византия на путях в Индию. М.; Л: Из-во АН СССР, 1951.170 с.
- Пигулевская Н. В. Культура сирийцев в средние века. М.; Л.: Наука, 1979. 272 с.
- Пиотровская Е. К.«Христианская топография Козьмы Индикоплова»в древнерусской письменной традиции. СПб.: Из-во «Дмитрий Буланин, 2004.246 с.
- Попов А. Обзор хронографов русской редакции. М., 1866. Вып. 1. 739 с.
- Послание Василия Новгородского Федору Тверскому о рае//Библиотека литературы Древней Руси. Т. 6. СПб.: Наука, 1999. С. 42-49.
- Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки//Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской АН. СПБ., 1877. Т. 17. № 1. 276 с.
- Предварительный список славяно-русских рукописных книг XV в., хранящихся в СССР. М.: Ин-т научной информации-Археографическая комиссия,1986. 474 с.
- Райков Б. Е. Очерки по истории гелиоцентрического мировоззрения в России. М.; Л.: Из-во АН, 1947. 392 с.
- Редин Е. К. Христианская топография Козьмы Индикоплова по греческими русским спискам. М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1916. Ч. 1. 446 с.
- Ржига В. Ф. Новая версия легенды о земном рае//Byzantinoslavica. Roc. II.S. 374-385.
- Сахаров В. Эсхатологические сочинения и сказания в древнерусской письменности и влияние их на народные духовные стихи. Тула: Типография Н. И. Соколова, 1879. 249 с.
- Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1: XI -первая половина XIV в. Л.: Наука (Ленигр. отд.), 1987. 493 с.
- Словарь русского языка XI-XVII вв. М.: Наука, 1982. Вып. 9. 357 с.
- Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XIV-XVII вв. Библиографические материалы//Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской АН. СПб.: Тип. Имп. АН, 1903. Т. LXXIV. № 1. 463 с.
- Срезневский А. И. Словарь древнерусского языка. М.: Книга, 1989. Т. III. Ч. 1.910 стб.
- Тихонравов Н. С. Отреченные книги древней России//Сочинения. М.: Издательство М. и С. Сабашниковых, 1898. Т. 1. 591 с.
- Удальцова З. В. Козьма Индикоплов и его «Христианская топогра-фия»//Культура Византии. IV -первая половина VII в. М.: Наука,1984.С. 467-477.
- Успенский Б. А. Древнерусское богословие: проблема чувственного и духовного опыта (представления о рае в середине XV в.)//Русистика. Славистика. Индоевропеистика. Сборник к 60-летию А. А. Зализняка. М.: Индрик, 1996.С. 108-118.
- Христианство. Энциклопедический словарь. М.: Из-во «Большая Российская энциклопедия», 1995. Т. 3. 782 с.
- Хрупкий мир островов//Курьер. 1987. Ноябрь. С. 20.
- Шишова И. А. Представления об Океане у античных авторов//Вестник древней истории. 1982. № 3. С. 114-125.
- Jacobs Ang. Kosmas Indicopleustes. Die Christiche Topographie, in slavischerṺbersetzung//Byzantinoslavica. Praha, 1979. T. 40 (2). S. 183-198.
- Miller K. Die ältesten Weltkarten. H. III. Stutgart, 1895. -921 s.
- Sedelʼnikov A. D. Vasilij Kalika: Lʼhistoire et la legende//Revue des etudes slaves.T. VII. Fasc. 3-4. 1927. P. 224-240.
- Zellinger J. Die Genesishomilien des Bischofs Severian von Gabala. Münster,1916