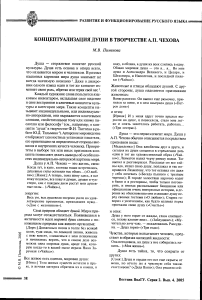Концептуализация души в творчестве А. П. Чехова
Автор: Пименова М.В.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Развитие и функционирование русского языка
Статья в выпуске: 4, 2005 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14969163
IDR: 14969163
Текст статьи Концептуализация души в творчестве А. П. Чехова
Душа — стержневое понятие русской культуры. Душа есть основа и опора всего, что называется миром и человеком. В разных языковых картинах мира душа занимает не всегда значимую позицию *. Даже в диахронии одного языка один и тот же концепт изменяет свою роль, обретая или теряя свой вес2.
Каждый художник слова пользуется языковым инвентарем, вкладывая свое видение и свое восприятие в ключевые концепты культуры и категории мира. Такие концепты называют индивидуальными, или индивидуально-авторскими, они выражаются ключевыми словами, свойственными тому или иному писателю или философу3 (см., например, о концепте ‘душа’ в творчестве Ф.И. Тютчева в работе Ю.Д. Тильмана4). Авторское мироввдение отображает ценностные установки писателя, его ориентацию на определенные стороны внешних и внутренних качеств человека. Приоритеты в выборе тех или иных признаков концепта позволяют делать выводы об особенностях индивидуально-авторской картины мира.
Душа у А.П. Чехова — это жизнь, сила: Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих... («О любви»); [Нина:] А теперь, пока живу здесь, я все хожу пешком, все хожу и думаю, думаю и чувствую, как с каждым днем растут мои душевные силы... («Чайка»), энергия:
Весь ум, вся душевная энергия ушли на удовлетворение временных, преходящих нужд... («Дом с мезонином»).
Сама природа обладает душой. Мир и природа могут отождествляться. Появившаяся в античности идея мировой души связана с пониманием природы как живого организма: [Дорн:] Движешься потом в толпе без всякой цели, туда-сюда, по ломаной линии, живешь с нею вместе, сливаешься с нею психически и начинаешь верить, что в самом деле возможна одна мировая душа, вроде той, которую когда-то в вашей пьесе играла Нина Заречная («Чайка»),
Все живое есть единая, мировая душа: [Нина:] Тела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака, а души их всех слились в одну. Общая мировая душа — это я... я... Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пиявки («Чайка»).
Животные и птицы обладают душой. С другой стороны, душа наделяется признаками животных:
Ваню развезло. Он выпил еще рюмочку, принялся за пиво, и в нем взыграла душа («Петров день»)
и птиц:
[Ирина:] И у меня вдруг точно крылья выросли на душе, я повеселела, стало мне легко и опять захотелось работать, работать... («Три сестры»).
Душа — это первоэлемент мира. Душа у А.П. Чехова обычно описывается посредством признаков воды:
[Медведенко:] Они влюблены друг в друга, и сегодня их души сольются в стремлении дать один и тот же художественный образ («Чайка»); Лахматов налил черту рюмку водки. Тот выпил и разговорился. Рассказал он все тайны ада, излил свою душу, поплакал и так понравился Лахматову, что тот оставил его даже у себя ночевать («Беседа пьяного с трезвым чертом»); В городе холостяки нарочно ходят в баню и в рестораны, чтобы только поговорить, и иногда рассказывают банщикам или официантам очень интересные истории, в деревне же обыкновенно они изливают душу перед своими гостями («О любви»); Старик говорил с увлечением, как будто изливал перед проезжим свою душу («Счастье»)
и огня:
Душа у него горит от жажды, глаза слипаются, голову клонит вниз... («Заблудшие»); «Мучительно хочу чаю, — пожаловалась Рассуди-на. — Душа горит» («Три года»).
Чувства, которые испытывает человек, предстают в образах кипящей жидкости:
Она негодовала, на душе у нее собиралась накипь... («Моя жизнь»).
Душа есть тайна, то, что сокрыто от других:
[Соня:] Душа и сердце его все еще скрыты от меня, но отчего же я чувствую себя такою счастливою? («Дядя Ваня»); Она решила сей- час же найти мужа и высказать ему все: гадко, без конца гадко, что он нравится чужим женщинам и добивается этого, как манны небесной; несправедливо и нечестно, что он отдает чужим то, что по праву принадлежит его жене, прячет от жены свою душу и совесть, чтобы открывать их первому встречному хорошенькому личику («Именины»).
Душа одновременно есть еще и тайник, на поверхности которого хранятся человеческие секреты:
Славный малый! Что у него на душе, то и на языке. Прост и добр, как видно... («Папаша»);
У людей, живущих одиноко, всегда бывает на душе что-нибудь такое, что они охотно бы рассказали («О любви»).
Душа — мерило, которым оцениваются люди, их внешность, взгляды и поступки: [Любовь Андреевна:] Она вас любит, вам она по душе, и не знаю, не знаю, почему это вы точно сторонитесь друг друга. Не понимаю! («Вишневый сад»).
Душевность есть особое качество человека: [Астров:] Как будто бы вы и хороший, душевный человек, но как будто бы и что-то странное во всем вашем существе («Дядя Ваня»).
Душевность — это внутренняя теплота: Уловив в голосе незнакомца теплую, душевную нотку, Каштанка лизнула ему руку и заскулила еще жалостнее («Каштанка»), мягкость:
Когда он, загорелый, серый от пыли, замученный работой, встречал меня около ворот или у подъезда и потом за ужином боролся с дремотой и жена уводила его спать, как ребенка, или когда он, осилив дремоту, начинал своим мягким, душевным, точно умоляющим голосом излагать свои хорошие мысли... («Страх»).
В произведениях А.П. Чехова душа предстает сквозь призму христианского вероучения, где она есть «внутренний человек». Душа способна существовать самостоятельно: [Вершинин:] Все имеет свой конец. Вот и мы расстаемся. Город давал нам что-то вроде завтрака, пили шампанское, городской голова говорил речь, я ел и слушал, а душой был здесь, у вас... («Три сестры»).
Библия, словами апостола Павла, указывает на существование «внутреннего человека», находящегося в теле: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2-е Коринф. 4:16; выделено мной. — М. П.\ Душа «располагается» в теле, откуда ее возможно вытряхнуть: Взять бы его, знаешь, за ворот, потрясти маленько этак — и душа вон («Трифон»).
Если человеку что-то нравится, то душа его расположена к этому:
Человек он, впрочем, был деликатный, мягкий и неглупый, но не лежит у меня душа к этим господам, которые беседуют с духами и лечат баб магнетизмом («Ариадна»); Лаптев был уверен, что миллионы и дело, к которому у него не лежала душа, испортят ему жизнь и окончательно сделают из него раба... («Три года»), если нет, то душа отворачивается (ср.: «душу воротит»). Она считается бессмертной составляющей человека:
Заговорили о смерти, о бессмертии души, о том, что хорошо бы в самом деле воскреснуть и потом полететь куда-нибудь на Марс, быть вечно праздным и счастливым, а главное, мыслить как-нибудь особенно, не поземному («Три года»).
Считается, что душу может сгубить иная вера: Тогда еще я приметил, что Жменя душу свою сгубил и нечистая сила в нем («Счастье»),
Дихотомия души и тела важна для А. П. Чехова, им подчеркивается их целостность:
Новая мысль, сообщенная ему доктором, казалось, ошеломила его, отравила; он растерялся, ослабел душой и телом, и когда вернулись в город, простился с доктором, отказавшись от обеда, хотя накануне дал слово доктору пообедать с ним вместе («Следователь»), гармония и красота:
Весь секрет и волшебство ее красоты заключались именно в этих мелких, бесконечно изящных движениях, в улыбке, в игре лица, в быстрых взглядах на нас, в сочетании тонкой грации этих движений с молодостью, свежестью, с чистотою души, звучавшею в смехе и в голосе, и с тою слабостью, которую мы так любим в детях, в птицах, в молодых оленях, в молодых деревьях («Красавицы»);
телесное именуется им внешним, внутреннее — душевным:
«Как зарождается любовь, — сказал Алехин, — почему Пелагея не полюбила кого-нибудь другого, более подходящего к ней по ее душевным и внешним качествам, а полюбила именно Никанора, этого мурло, — тут у нас все зовут его мурлом, — поскольку в любви важны вопросы личного счастья — все это неизвестно и обо всем этом можно трактовать как угодно» («О любви»).
Возможна дисгармония между душой и телом: тело подвержено старению, душа — нет; такая дисгармония вызывает у автора иронию:
Он стар, некрасив, но зато какая у него душа! Найдите мне где-нибудь другую такую душу!
Не найдете! Любите же его! Вы, молодые жены, так легкомысленны! Вы в мужчине ищете прежде всего внешности... эффекта... («Благодарный»).
Особенно это касается праздности телесной и чрезмерной «занятости» душевной:
Хочу у вас здесь отдохнуть душой, святой отец... («Княгиня»).
Глаза в русской культуре — это зеркало души; чтобы увидеть душу человека, глядят в его глаза:
Груздев взял Катю за обе руки и, заглядывая ей сквозь глаза в самую душу, сказал много хороших слов («Слова, слова и слова»).
Во взгляде, на лице «прочитывают» и отношение к миру:
На мгновение у меня в глазах мелькает равнодушное, утомленное лицо священника, но дальше я вижу только его рукав с голубой подкладкой, крест и край аналоя. <„> Церковные сумерки уже не кажутся мне мрачными, и на Митьку я гляжу равнодушно, без злобы («На страстной неделе»),
У А.П. Чехова глаза — это еще и книга души: Минуту Миша восторженно и умиленно глядел в ее глаза. В них он прочел благородную душу... («Благодарный»),
Книгой души служат и черты лица человека, его фигура:
По прекрасному лицу и прекрасным формам я судил о душевной организации, и каждое слово Ариадны, каждая улыбка восхищали меня, подкупали и заставляли предполагать в ней возвышенную душу («Ариадна»),
Для А.П. Чехова свойственен особый взгляд в определении душевных качеств — через внешний вид, одежду:
Цилиндр его ухарски сидел на затылке, и из-за распахнувшегося пальто вместе с жилеткой, казалось, выглядывала сама душа («Месть»), Гармония внутреннего и внешнего — это идеал для писателя:
[Астров:] В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли («Дядя Ваня»),
В произведениях А.П. Чехова отмечается важная дихотомия: ум/разум и душа, где за умом и разумом закреплена ментальная сфера, за душой — чувственная, эмоциональная. Для автора важна гармония между этими сферами: ум с душой должен быть «в ладу», в этом заключается здоровье человека:
Если взрослый, душевно и умственно здоровый присяжный заседатель убежден, что этот потолок бел, что Иванов виновен, то бороть ся с этим убеждением и победить его не в силах никакой Демосфен («Сильные ощущения»); Ей бы такую любовь, которая захватила бы все ее существо, всю ее душу, разум, дала бы ей мысли, направление жизни, согрела бы ее стареющую кровь («Душечка»); Ведь я вас любила за ум, за душу, а этой фарфоровой кукле нужны только ваши деньги! («Три года»).
Душа есть совокупность особых качеств, среди которых эмоциональность:
Я только скорблю душевно, раздражаюсь, досадую, по ночам у меня горит голова от наплыва мыслей, и я не могу спать... («Крыжовник»); От их крика в ушах его стоит звон, душой овладевает ужас («Заблудшие»); Но какое сладкое чувство охватило его душу, когда, отплыв шагов на сто в сторону, он увидел красивую девушку, сидевшую на крутом берегу и удившую рыбу («Роман с контрабасом»), верность:
Я ее любил за иное качество души. А именно-с: любил я ее, покойницу, дай бог ей царство небесное, за то, что она, при бойкости и игривости своего характера, мужу своему была верна («В почтовом отделении»), искренность:
Душа нематериальна:
Ярцеву пришло в голову, что, может быть, в этой роще носятся теперь души московских царей, бояр и патриархов, и хотел сказать об этом Косте, но удержался («Три года»).
Согласно народным традициям, принято беспокоиться об упокоении души умершего: для этого совершаются особые ритуальные действия, которые, вероятно, носят дохристианский характер:
В году только один день, когда за таких молиться можно: троицына суббота... Нищим за них подавать нельзя, грех, а можно за упокой души птиц кормить («В сарае»); Покойника несли медленно, так что до кладбища они успели раза три забежать в трактир и пропустить за упокой души по маленькой («Оратор»).
О душе необходимо заботиться:
И о душе своей заботился солидно, по-барски, и добрые дела творил не просто, а с важностью («Крыжовник»), думать о ней еще при жизни:
Но ведь бог есть, наверное есть, и я непременно должна умереть, значит, надо рано или поздно подумать о душе, о вечной жизни, как Оля («Володя большой и Володя маленький»); Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своем образе и подобии; голод, холод, животный страх, масса труда, точно снежные обвалы, загородили им все пути к духовной деятельности, именно к тому самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить («Дом с мезонином»).
Ради спасения души важно предпринять некоторые действия:
И он размышлял о том, что хорошо бы, ввиду близкой смерти, ради души, прекратить эту праздность, которая так незаметно и бесследно поглощает дни за днями, годы за годами... («Печенег»); Бог есть, смерть непременно придет, надо о душе подумать. Если Оля сию минуту увидит свою смерть, то ей не будет страшно. А главное, она уже решила для себя вопрос жизни. Бог есть... да... Но неужели нет другого выхода, как только идти в монастырь? Ведь идти в монастырь — значит отречься от жизни, погубить ее... («Володя большой и Володя маленький»).
По словам А.Ф. Лосева, «когда мы говорим о ‘душе’ и ‘теле’ в их буквальном жизненном, а не просто случайном и условном значении, то мы обязательно мыслим и ‘душу’ как нечто самостоятельное, и ‘тело’ как нечто самостоятельное, и их взаимосвязь тоже в буквальном, то есть субстанциальном, смысле слова»5. Исходя из этого, можно сделать предположение, что «внутренний человек» представлен по образу и подобию «человека внешнего», что основывается и на визуальном его подобии, и на схожести действий, проявляющихся в эмоциональном, ментальном и социальном поведении.
Душа, как живое существо, способна спать:
Но Трифон Семенович не наслаждался, потому что он далеко не поэт, да и к тому в это утро душа его с особенной жадностью вкушала хладный сон, как это делала она всегда, когда хозяин чувствовал себя в проигрыше («На яблочки»), двигаться:
Бывало, приедет к ней попадья или помещица, а она отведет ее в угол и давай душу отводить — все о том же, о близкой смерти («Следователь»); Петр Дмитрич, сердитый и на графа Алексея Петровича, и на гостей, и на самого себя, отводил теперь душу («Именины»), болеть:
Флейта страдала, изнывала от желания стукнуть по большой, стриженой голове, болела телом и душой, но церемонилась и деликатничала («Флейта и контрабас»).
Душевная боль проявляется от неудовлетворенности жизнью:
Мы слишком идеально смотрим на женщин и предъявляем требования, несоизмеримые с тем, что может дать действительность, мы получаем далеко не то, что хотим, и в результате неудовлетворенность, разбитые надежды, душевная боль, а что у кого болит, тот о том и говорит («Ариадна»), эмоциональных переживаний:
...И такая сильная ревность вдруг овладевала мной, что я вскакивал от душевной боли, и соседи мои смотрели на меня с удивлением и даже страхом («Ариадна»), психического заболевания:
Доктора сказали, что у Федора душевная болезнь («Три года»),
У души есть голос:
[Тригорин:] Отчего в этом призыве чистой души послышалась мне печаль и мое сердце так болезненно сжалось?.. («Чайка»), она наделена силой:
[Астров:] Вообще жизнь люблю, но нашу жизнь, уездную, русскую, обывательскую, терпеть не могу и презираю ее всеми силами моей души («Дядя Ваня»),
У души отмечены телесные признаки. Душа может дрожать:
[Любовь Андреевна:] Здесь мне шумно, дрожит душа от каждого звука, я вся дрожу, а уйти к себе не могу, мне одной в тишине страшно. Не осуждайте меня, Петя... («Вишневый сад»), омываться:
Душа наша мылась в его словах («Речь и ремешок»), напрягаться:
Она думала, что ноги ноют и всему ее телу неудобно оттого, что у нее напряжена душа («Именины»), быть исцарапанной:
Она хотела прочесть целую исповедь, так хорошо знакомую каждому «честному развратнику», но не получилось из ее речи ничего, кроме нравственных самопощечин. Всю душу себе исцарапала! («Слова, слова и слова»).
Душа способна постареть и похудеть:
Он чувствовал себя слабым, жалким, ниже всех ростом, и было похоже на то, как будто от мучений совести и мечтаний, которые не покидали его и в тюрьме, душа его так же постарела и отощала, как тело («Убийство»),
У А.П. Чехова внутреннее сравнивается с внешним, телесным:
[Трофимов:] Как-никак, все-таки я тебя люблю. У тебя тонкие, нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая, нежная душа... («Вишневый сад»).
Концептуальные признаки души сужаются до признаков виртуального органа, что выражается формой творительного инструментального соответствующей лексемы. Душа есть орган любви:
Когда я узнал, что брат Федор безнадежно болен, я заплакал; мы прожили наше детство и юность, когда-то я любил его всею душой, и вот тебе катастрофа, и мне кажется, что, теряя его, я окончательно разрываю со своим прошлым («Три года»), сочувствия:
[Трофимов:] Вы знаете, я сочувствую всей душой («Вишневый сад»), радости:
[Телегин:] Дружочек, я рад бы для тебя всею душой, но пойми же, — в доме спят! («Дядя Ваня»), ненависти:
Дети ненавидят его всей душой, но на этот раз практические соображения берут верх над чувством («Событие»), чувства:
[Маша:] Почему-то я всею душой чувствую, что вы мне близки... («Чайка»); В этой жизни для бога, вдали от суетного мира, есть какая-то особая прелесть, святой отец, которую я чувствую всей душой, но передать на словах не могу! («Княгиня»).
Как за неким телесным органом, за душой закреплены особые функции, которые описываются языковой схемой ‘действия внутри души’. Среди таких функций терпение:
Может, по нечаянности, а может, не могли в душе своей той обиды стерпеть, что барин к себе новую слугу приблизил... («Мечты»), принятие решения:
Смирнов согласился с этими доводами и решил в душе изменить свой характер («Говорить или молчать»), чувство-эмоция и чувство-отношение: Позавидовал ли он призрачному счастью бродяги, или, может быть, в душе почувствовал, что мечты о счастье не вяжутся с серым туманом и черно-бурой грязью, но только он сурово глядит на бродягу... («Мечты»); Софья Львовна, пошатываясь от усталости и головной боли, быстро надела свой новый удиви тельный капот сиреневого цвета, с меховою обшивкой, наскоро кое-как причесалась; она чувствовала в своей душе невыразимую нежность и дрожала от радости и страха, что он может уйти («Володя большой и Володя маленький»).
Антропологическая парадигма знаний исходит из допущения того, что человек познает мир через осознание своей практической и теоретической деятельности в нем. Языку присущ принцип антропоцентричное™; язык предназначен для человека, и вся категоризация внешнего мира ориентирована на человека. При этом в языке отражаются и особенности природных условий или культуры, и своеобразие национального характера его носителей. Концептуализация внутреннего мира заложена в языке. Концепт ‘душа’ объективируется антропоморфными признаками.
Душа в произведениях А.П. Чехова предстает как эмоциональное существо, испытывающее волнение:
Ему хочется высказать кому-нибудь все то, что теперь мерещится ему в потемках и волнует душу, но высказать некому («День за городом»), страдание:
И я вижу, как страдает ее душа, как она делает усилия над собой, чтобы не сказать: «Не может же быть, чтоб их говорил ветер!» («Шуточка»), негодование:
Но для его негодующей души было мало этого («Мститель»), счастье:
О, если бы вы знали, какое неземное счастье испытывает теперь моя душа оттого, что я умею понимать их! («Пари»), томление:
[Треплев:] Я точно предчувствовал, весь день душа моя томилась ужасно («Чайка»); Правда, лететь с горы по-прежнему страшно, но теперь уже страх и опасность придают особое очарование словам о любви, словам, которые по-прежнему составляют загадку и томят душу («Шуточка»), неуспокоенность и покой:
[Аркадина:] Непокойна у меня душа («Чайка»); Ярцев и Кочевой по лицу Юлии Сергеевны видели, что она переживает счастливое время душевного спокойствия и равновесия... и у них самих становилось на душе покойно, славно («Три года»).
Эмоциональные признаки могут быть описаны как располагающиеся на «поверхности» души, они воспринимаются как некий груз, давящий на душу или легко ею переносимый:
У него было тяжело на душе, и не хотелось ему ни на Пятницкую, ни в амбар, но он угадывал, о чем думает жена, и был не в силах противоречить ей. <...> В его присутствии Лаптев чувствовал на душе тяжесть; даже молчание его было ему неприятно <„.>; У доктора стало легче на душе, но он уже не в силах был остановиться... («Три года»); Если у тебя тяжело на душе, то почему ты скрываешь это от меня? («Именины»).
На душе «размещается» веселье:
«Ах, какие дураки!» — сказала она и захохотала; на душе у нее стало легко и весело («Три года»), радость:
Как теперь легко, как радостно на душе! («На страстной неделе»), грусть
[Вершинин:] Одинокому становится грустно на душе («Три сестры»), неспокойствие:
И у Якова на душе стало опять непокойно («Убийство»).
Душа предстает как некий упорядоченный микрокосм. Нарушение этого порядка приводит к душевным переживаниям
[Было также заметно, что на душе у него неладно и хочется ему говорить больше о себе самом, чем о женщинах, и что не миновать мне выслушать какую-нибудь длинную историю, похожую на исповедь («Ариадна»)], которым дается негативная оценка: [Тригорин:] Да. Когда пишу, приятно. И корректуру читать приятно. Но... едва вышло из печати, как я не выношу, и вижу уже, что оно не то, ошибка, что его не следовало бы писать вовсе, и мне досадно, на душе дрянно... («Чайка»); [Чебутыкин:] И та женщина, что уморил в среду, вспомнилась... и все вспомнилось, и стало на душе криво, гадко, мерзко... пошел, запил... («Три сестры»); [Маша:] У него нехорошо на душе («Чайка»).
Душа обладает признаками характера, среди которых смелость:
Воровская душа должна быть смела («На яблочки»), ехидство:
Лицо-то у него, негодника, доброе, ну, а душа зато страсть какая ехидная! («Перед свадьбой»), покорность:
Из ее прежних привязанностей ни одна не была такою глубокой, никогда еще раньше ее душа не покорялась так беззаветно, бескорыстно и с такой отрадой, как теперь, когда в ней все более и более разгоралось материнское чувство («Душечка»),
Душе свойственны социальные признаки. Для А.П. Чехова важны национальные
[Шепот лип, кокетливый ветерок, мелодия со своей меланхолией — все это, вместе взятое, развезло их русские души («Патриот своего отечества»)], религиозные
[Не смей, говорит, христианскую душу за ухи трепать! («Ты и вы»); Ежели глупого человека не побьешь, то на твоей же душе грех («Унтер Пришибеев»)], этические качества: гуманизм, деликатность и благородство:
Знаю я их, Максим Иваныч! И сердце у них предоброе, душа фил антропная... гуманическая... («Совет»); Вы — благородная душа, честный и возвышенный человек1 («Моя жизнь»); Его бледное, помятое лицо выражало досаду и усталость; видно было, что он замучился и только кротость и деликатность души мешали ему высказать на словах свою досаду («Печенег»).
Этикетные формулы отображают первичность «внутреннего человека»: от его имени желают добра:
[Елена Андреевна:] Я от души тебе желаю, ты стоишь счастья... («Дядя Ваня»), сочувствуют:
Я сочувствую вам от всей души и глубоко уважаю эту вашу жизнь («Моя жизнь»), поздравляют:
«От души поздравляю!» — жмет ему руку хозяин («Крест»)
и радуются за чужие успехи:
От души тебя поздравляю. Я рад за тебя («Сильные ощущения»).
Душа — это сам человек, его личность, «я». Душа — это обращение к близким, дорогим или добрым людям:
Так вот ты, душа моя, постарайся непременно к шести часам, не позже, положить записочку в ту мраморную вазу, которая, знаешь, стоит налево от виноградной беседки... («Месть»); [Андрей:] Здравствуй, душа моя. Что скажешь? («Три сестры»); Здравствуйте, душечка Ольга Семеновна! Как поживаете, душечка? («Душечка»), иногда это обращение может быть фамильярным:
[Пищик:] Коньячком от тебя попахивает, милый мой, душа моя («Вишневый сад»); Поедем, душа! («Оратор»); Ах, душа моя, люблю образованных людей! («Жилец»).
А.П. Чехов использует различные смысловые оттенки этого слова: душа означает «живой человек:
[Тузенбах:] Здесь в городе решительно никто не понимает музыки, ни одна душа, но я, я понимаю и честным словом уверяю вас, Марья Сергеевна играет великолепно, почти талантливо («Три сестры»); [Любовь Андреевна:] Уедем — и здесь не останется ни души... («Вишневый сад»); [Войницкий:] Он вышел в отставку, и его не знает ни одна живая душа, он совершенно неизвестен... («Дядя Ваня»),
«любимый человек»:
Ты вот спроси его, дядю-то своего, спроси про душеньку, как он с ней, с гадюкой, в постные дни молоко трескал («Убийство»),
«искренний человек»:
[Любовь Андреевна:] Ну, Петя... ну, чистая душа... я прощения прошу... («Вишневый сад»), добрый и «смиренный человек»:
Человек вы золотой! Душа! Доброта! Смиренник наш! («Добрый знакомый»),
«крепостной»:
[Трофимов:] Подумайте, Аня: ваш дед, прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами, и неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов... («Вишневый сад»),
В чеховском восприятии важны обе — материальная и идеальная — составляющие человека, а гармония «внутреннего человека» на шкале ценностей располагается выше, чем гармония «внешнего человека». Душа — это внутреннее богатство:
Она была ласкова, разговорчива, весела, проста в обращении, поэтично верила в бога, поэтично рассуждала о смерти, и в ее душевном складе было такое богатство оттенков, что даже своим недостаткам она могла придавать какие-то особенные, милые свойства («Ариадна»),
Душа у А.П. Чехова обладает признаками имущества. Эти признаки — отображение христианских воззрений на природу души. Душа дана человеку от Бога, после смерти ее принято возвращать истинному владельцу:
Раньше она была за почтмейстером и привыкла у него к пирогам и к наливкам, а у второго мужа и хлеба черного не видала вдоволь; стала чахнуть от такой жизни, да года через три взяла и отдала богу душу («Крыжовник»); Верст триста пройдешь и богу душу отдашь («Мечты»); Простилась, закрыла глаза и через полчаса отдала богу душу («Следователь»),
Человек обязан сохранить чистоту души. В картине мира А.П. Чехова общество препятствует этому: признак чистоты души объективируется в ироничном контексте:
Не берут? Жаль-с... Я ведь от души, Максим Иваныч... Это не какая-нибудь взятка... Это при ношение от чистоты души... за труды непосильные... Я ведь не бесчувственный, понимаю их труд... («Совет»),
Многоаспектность «внутреннего человека» в определенной авторской картине мира позволяет говорить о его функциональной значимости в рамках творчества этого автора, а приписывание ему ценностных качеств отражает его значимость для автора — носителя определенной культуры. «Внутренний человек» имеет ряд характеристик, свои законы существования, свои особые функции.
Душа может быть представлена предметными свойствами. В произведениях А.П. Чехова душа переосмысляется через признаки музыкального инструмента:
[Ирина:] О, я так мечтала о любви, мечтаю уже давно, дни и ночи, но душа моя, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян («Три сестры»); Поэтическая душа Смычко-ва стала настраиваться соответственно гармонии окружающего («Роман с контрабасом»); И вдруг со двора послышались резкие, отрывистые, металлические звуки, каких Королев никогда не слышал и каких не понял теперь; они отозвались в его душе странно и неприятно («Случай из практики»), сосуда:
[Трофимов:] И все же душа моя всегда, во всякую минуту, и днем и ночью, была полна неизъяснимых предчувствий («Вишневый сад»); [Астров:] Когда я сажаю березку и потом вижу, как она зеленеет и качается от ветра, душа моя наполняется гордостью... («Дядя Ваня»); И когда в ее душе торжество и любовь к мужу мешались с чувством унижения и оскорбленной гордости, то ею овладевал задор и хотелось тогда сесть на козлы и кричать, подсвистывать... («Володя большой и Володя маленький»); [Андрей:] Мне так хорошо, душа полна любви, восторга... («Три сестры»), нити:
[Треплев:] Нина, я проклинал вас, ненавидел, рвал ваши письма и фотографии, но каждую минуту я сознавал, что душа моя привязана к вам навеки («Чайка»),
Душа может быть описана признаками хлеба:
Ты не понимаешь этого, черствая душа! («Заблудшие»)
и пищи:
Тля ест траву, ржа — железо, а лжа — душу («Моя жизнь»).
Душа в русском языковом сознании — это целый мир. У А.П. Чехова в душе-мире происходят события:
...Это произвело в моей душе переворот... («У знакомых»).
Такой мир может быть пустынным; пустота — это признак отсутствия жизни и событий:
В голове у нее стоял туман от хлороформа, на душе было пусто... («Именины»); Сама Оленька постарела, подурнела; летом она сидит на крылечке, и на душе у нее по-прежнему и пусто, и нудно, и отдает полынью, а зимой сидит она у окна и глядит на снег («Душечка»),
В мире души особый ландшафт, сходный с российским: там растут леса:
Они благочестивые были, но кто их знает, чужая душа — дремучий лес! («Мечты»), текут реки:
[Тузенбах:] У меня страстная жажда жизни, борьбы, труда, и эта жажда в душе слилась с любовью к вам, Ирина, и, как нарочно, вы прекрасны, и жизнь мне кажется такой прекрасной! («Три сестры»).
Душа может отождествляться с рекой: [Нина:] Тела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака, адуши их всех слились в одну («Чайка»),
В мире души есть светлые периоды времени: [Ирина:] Я не знаю, отчего у меня на душе так светло! («Три сестры»), объекты внутреннего мира отбрасывают тень: Затем все лето провел я в Софьине безвыездно, и было мне некогда даже подумать о городе, но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни; я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе («О любви»),
В этом мире существует особая погода, которая может быть ясной:
Недавние слезы облегчили и прояснили ей душу, и она была рада, что эта шумная, беспокойная и, в сущности, нечистая ночь неожиданно кончилась так чисто и кротко («Володя большой и Володя маленький»); [Нина:] Я заплакала в первый раз после двух лет, и у меня отлегло, стало яснее на душе («Чайка»);
На другой день, в четверг, я просыпаюсь с душой ясной и чистой, как хороший весенний день («На страстной неделе»), ветреной:
Садясь за стол, я взглянул в лицо девушки, подававшей мне стакан, и вдруг почувствовал, что точно ветер пробежал по моей душе и сдунул с нее все впечатления дня с их скукой и пылью («Красавицы»),
В мире души бывает туман:
В осеннюю тишину, когда холодный, суровый туман с земли ложится на душу, когда он тюремною стеною стоит перед глазами и свидетельствует человеку об ограниченности его воли, сладко бывает думать о широких, быстрых реках с привольными, крутыми берегами, о непроходимых лесах, безграничных степях («Мечты»), холод:
[Чебутыкин:] В голове пусто, на душе холодно («Три сестры»)
и тепло:
На душе у нее было весело, ясно и тепло, и сама она чувствовала, что ее улыбка необыкновенно ласкова и мягка («Княгиня»),
Душа у А.П. Чехова — это земля, освещенная солнцем-радостью, но не почва, дающая плоды:
[Аня:] Мы насадим новый сад, роскошнее этого, ты увидишь его, поймешь, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама! («Вишневый сад»).
Во внутреннем мире строят свой дом: Ну, да меня конфузиться нечего, я ведь понимаю... всю душу насквозь («Жилец»).
Дом-душу отворяют людям: гостеприимство и открытость — важные аспекты русской и, шире, славянской культуры:
[Андрей:] Говорю вам как другу, единственному человеку, которому могу открыть свою душу «Три сестры»),
В этом доме есть свет:
Лаптев понял, что это значит, и настроение у него переменилось сразу, резко, как будто в душе внезапно погас свет («Три года»), горит очаг:
Огонек все разгорался в душе, и уже хотелось говорить, жаловаться на жизнь... («Ионыч»).
Огонь в душе — это чувства, которыми живет человек:
В ресторане она также убедилась, что от прежнего чувства в ее душе не осталось даже искры («Володя большой и Володя маленький»); Ты моя жена уже полгода, но в твоей душе ни даже искры любви, нет никакой надежды, никакого просвета! («Три года»).
В дом-душу возможно проникнуть:
Она улыбнулась и подумала, что если бы эти люди сумели проникнуть в ее душу и понять ее, то все они были бы у ее ног... («Княгиня»).
Индивидуально-авторское мировиде-ние А.П. Чехова заключается в своем особом структурировании концепта ‘душа’, в усечении отдельных или целых групп признаков, свойственных этому концепту, в частности, в предпочтении тех или иных языковых форм объективации концепта. Душа у А.П. Чехова — это закрытое, скрываемое пространство, где в глубине таится чувство неловкости:
Но все-таки далеко, где-то в глубине души, я чувствовал какую-то неловкость, и мне было не по себе («Страх»), откровенность:
Будешь ли ты отвечать мне откровенно, от глубины души, или нет? («За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь»), досада:
Во мне закипает злоба, я стараюсь не глядеть на него и в глубине души досадую на то, что этому мальчишке простятся сейчас грехи («На страстной неделе»).
Душа замкнута в своих границах, доступ к ней запрещен:
А у моей души и у вашей нет общих точек соприкосновения («Чайка»),
Список литературы Концептуализация души в творчестве А. П. Чехова
- Пименова М.В. Концепты внутреннего мира (русско-английские соответствия): Дис.... д-ра филол. наук. СПб., 2001;
- Она же. О типовых структурных признаках концептов внутреннего мира человека (на примере концепта 'душа')//Язык. Этнос. Картина мира. Кемерово: Комплекс «Графика», 2003. С. 28-39.
- Кондратьева О.Н. Концепты внутреннего мира в русских летописях (на примере концептов душа, сердце и ум)»: Дис.... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2004.
- Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. С. 144.
- Тильман Ю.Д. «Душа» как базовый культурный концепт в поэзии Ф.И. Тютчева//Фразеология в контексте культуры/Отв. ред. В.Н. Телия. М: Языки русской культуры, 1999. С. 203-213.
- Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991. С. 429.
- Пименова М.В. Душа и дуг. особенности концептуализации. Кемерово: ИПК «Графика», 2004. 386 с.